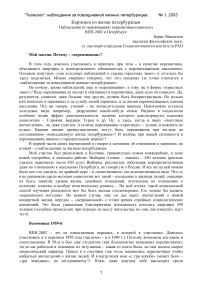Картинки из жизни петербуржцев. Наблюдения (и переживания) переписчика-социолога. ВПН-2002 в Петербурге
Автор: Максимов Борис Иванович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 1, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181481
IDR: 142181481
Текст статьи Картинки из жизни петербуржцев. Наблюдения (и переживания) переписчика-социолога. ВПН-2002 в Петербурге
Картинки из жизни петербуржцев
Наблюдения (и переживания) переписчика-социолога
ВПН-2002 в Петербурге
Борис Максимов кандидат философских наук, ст. научный сотрудник Социологического института РАН
Мой массив. Почему – «переживания»?
В этом году довелось участвовать в переписи, при этом – в качестве переписчика, обходящего квартиры и непосредственно общающегося с переписываемым населением. Плодами попутных «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» и хотелось бы здесь поделиться. Можно уверенно говорить, что этот материал уж точно относится к «наблюдениям за повседневной жизнью петербуржцев».
Но почему, кроме наблюдений, еще и «переживания», к тому же в форме «горестных замет»? Ведь переживания не входят в обязанности переписчика, даже если он социолог. Да, разумеется, социолог даже больше, чем другие, должен быть беспристрастным. Но вольно или невольно я переживал и за судьбу самой переписи, и за жизни переписываемых единиц населения. Что ни говори, ученый – не вычислительная машина. Невозможно остаться холодным, видя, например, разрушение какой-нибудь семьи. Видимо в социологии особенно велик эффект дополнительности, наличие которого демонстрируют классики социологии – Сорокин, Бердяев, Турен и др. Ну, а здесь, когда я пишу «попутные впечатления», он даже уместен. А почему переживания «горестные» – думаю, и пояснять не нужно. Какими иными преимущественно могут быть переживания при взгляде на сегодняшнюю «повседневную жизнь петербуржцев»? И вообще при нашей склонности к переживаниям именно с отрицательным знаком?!
В первой части своих впечатлений я говорю в основном об отношении к переписи, во второй – о наблюдениях за жизнью петербуржцев.
Мой участок был расположен в Купчино, сравнительно новом микрорайоне, в доме новой постройки, в спальном районе. Выборка (точнее – массив) – 450 человек (реально удалось переписать около 420 душ). Выборка, разумеется, небольшая, нерепрезентативная даже по отношению к населению Петербурга, не говоря уж о России. И все же на ней можно было кое-что увидеть, по крайней мере – в «качественном» (не количественном) виде. Что-то я не припомню среди методов социологии вот такой – вхождение в жилища людей, описание их быта, занятий, уровня жизни, семейных отношений, аттитьюдов по отношению к политике, властям и вообще политическому режиму… На мой взгляд, такой комплексный способ изучения реальности мог бы быть весьма плодотворным. Его можно бы назвать «переписным методом». Во всяком случае, мне он дал массу впечатлений о живой конкретной жизни, нередко – «неправильной» с точки зрения стройных социологических концепций. Это была уникальная благоприятная возможность посетить квартиры 450 человек (подобное происходит при опросах по месту жительства, но они, как известно, идут туго).
Вспоминая 1959-й
ВПН-2002 – это не единственная перепись, в которой я участвовал. Довелось участвовать и в переписи 1959 года (частично – и в 1989 г.). Поэтому возможны кое-какие и сопоставления. В 59-м я был еще студентом (как большинство нынешних переписчиков); тогда мы работали в основном из энтузиазма – какая-то плата была, но она носила скорее символический характер. Пошел я в счетчики (так тогда назывались переписчики) чтобы набраться впечатлений о жизни людей. И я нагрузился ими «с три короба» (может быть – «три чемодана», по сегодняшнему?). Плюс, даже девушку себе высмотрел среди переписываемых душ (и тел); две бабушки-сестры хотели меня усыновить. Но любовь с первого переписного взгляда оказалась мимолетной, как и сама перепись, а к предложению бабушек, по молодости лет и всевозрастному идеализму, отнесся я легкомысленно. Пару раз сходил к ним в гости, попил с ними чайку и больше не появлялся. Хотя мог бы стать наследником их большой комнаты (правда, одной на двоих), старинного фарфора, из которого они угощали чаем. Как-то тогда практицизм был не в почете, ухаживать за старушками тоже не сподвигнулся. Простите за совсем уж лирические отступления!
Тогда мой участок был на Васильевском острове, на Большом проспекте, рядом с рынком, в старом жилом фонде, говоря по-сегодняшнему. Тогда он (старый фонд) был, безусловно, доминирующим, а в нем преобладали коммунальные квартиры; отдельные квартиры попадались очень редко и вызывали у меня даже неприязненное отношение. Впечатления именно о коммунальных квартирах были одними из наиболее сильных того, далекого теперь уже времени, хотя коммунальные квартиры, несмотря на длительность дистанции, увы, не исчезли. В моих домах (по переписи, не по владению) они нередко занимали целый этаж. Один дом был в виде буквы П - и вот по всему этажу этой П тянулся длинный коридор, в конце которого находился туалет и огромная, как зал, коммунальная кухня с множеством отдельных (частных все же!) кухонных столов стандартного вида -деревянных, крашеных масляной краской, с выдвижным ящиком сверху и дверцами на завертке снизу, и со стандартными же полками-досками на кронштейнах над головой. Ванны были не во всех квартирах; там, где они имелись, помыться или постирать белье можно было в порядке очереди; также в туалет, особенно по утрам, заскакивали торопливо, рассиживаться было некогда, иначе раздавался требовательный стук в дверь. В некоторых квартирах очередность забора воды из кухонных раковин, стирки белья была регламентирована специальными графиками. Так же по графику, в порядке очереди, драили «места общего пользования» (оттуда, возможно, происходит этот термин). Обычно на кухне готовили еду одновременно несколько женщин, обменивавшихся новостями, сплетнями, иногда колкостями, а то и просто «не видевших в упор» друг друга (не оттуда ли и это выражение?). По коридору бегали ребятишки, иногда они гоняли на велосипедах.
Вообще о коммунальных квартирах, некоторых неповторимых чертах образа жизни в них, можно говорить много, и эта тема, думаю, найдет отклик в душах очень многих петербуржцев. Известно множество драматически-анекдотических сюжетов о коммуналках. Меня особенно восхищает вот такой. В квартире, у каждого съемщика свой электросчетчик, и, соответственно, своя лампочка на кухне. Входя на кухню, каждый включает свою лампочку. Когда готовят пищу несколько жильцов, в кухне настоящая иллюминация. И вот, посреди этого моря света, идет бабушка со свечкой в руке, прикрывая огонек ладошкой, чтобы не задуло. Она экономит на электричестве, и не поставила себе лампочку на кухне. Но чтобы ее не упрекнули, что потребляет на дармовщинку чужой свет, приносит свечку, ставит на свой стол и начинает готовить «при своем освещении».
Сейчас коммуналки однозначно изображают как нечто ужасное, и в том виде, в каком они существовали (и. увы, существуют), они, действительно, заслуживают такого отношения. Для многих, выехавших из них, они - дурной сон, а для живущих - реальность, по крайней мере, не сочетающаяся с сегодняшней идеологией приватизации всего. Но я хотел бы отметить одну интересную черту коммунальных квартир. В этой форме сожительства не так уж редко между жильцами, семьями устанавливались добрососедские, даже дружеские отношения, люди ходили друг к другу в гости, заходили поболтать, поделиться новостями, иногда вместе встречали праздники, довольно часто помогали друг другу по быту, в случае болезни, присматривали за детьми .. Образовывалась как бы инфрасемья, соответствующая размерам квартиры. Для одиноких она как бы заменяла нормальную семью. Приходилось слышать, что во время блокады все это имело большое значение. Известно питерское явление - выехавшие в отдельные квартиры зачастую, наряду с радостью от «своего угла», испытывали чувство одиночества, заброшенности, «некому было показать обновку», «не с кем отвести душу».
Не посчитайте, ради Бога, до сих пор живущие в коммуналках, что я ратую за сохранение этого типа жилья! Просто я хотел сказать о возможности (и потребности) промежуточной формы жилища. Сейчас возобладал изоляционизм (вероятно, в какой-то мере как эхо предыдущего принудительного коммунального быта); с переходом к новому общественному порядку (не знаю, как его и называть), обособление дошло до степени трех разделяющих железных дверей (о них речь еще впереди). Бронированный изоляционизм отдельных квартир – это другая крайность, ибо соседские связи людям нужны. В буржуазноиндивидуалистической Америке, особенно одноэтажной, они развиты больше, чем в бывшей без пяти минут коммунистической России. Стоит вспомнить, что в 80-е годы у нас имело место движение за переходный тип жилища. Знаю квартиры, построенные в соответствии с такими установками, например, на Ново-Измайловском проспекте. Там несколько отдельных квартир объединены общим просторным коридором, который представляет собой пространство-возможность для завязывания соседских отношений. В свое время привлекал большое общественное внимание строившийся в Москве экспериментальный ДНБ – Дом нового быта. В нем тоже группа квартир образует жилую ячейку, в которой заранее предусмотрены условия для определенных видов связи между соседями (например, по части ухода за детьми). Сейчас об этой тенденции не вспоминают ни архитекторы, ни власти, ни само народонаселение. А мне жаль.
Кстати (или некстати), раз уж заговорили о коммунальных квартирах, то хотел бы сказать, что эту проблему вполне можно решить при наличии желания властей, воли самого населения. Меня поражает, что о ней прекратили даже говорить, словно она перестала и существовать. Была в свое время программа «Жилище –2000». По этой программе уже два года назад каждая семья должна была бы иметь отдельную квартиру. Понятно, что программу похоронили вместе с советской властью. Но квартиры-то коммунальные остались! Есть примеры их перепланировки с минимальными затратами, знаю конкретные адреса. Или теперь каждый должен выбираться, кто как может? А когда это старики на пенсии? Значит, не видать им своего собственного угла, даже если люди пережили блокаду?!
Но вернусь, однако, в 1959-й год. Впечатляли тогда большие семьи, включавшие в себя несколько поколений, правда, обычно стесненные в жилплощади. До сих пор стоит перед глазами семья Кострикиных (даже фамилию помню) из 14 человек. Размещалась она в одной небольшой комнате, дверь которой выходила прямо в коммунальную кухню. На мой удивленный вопрос, как они располагаются на ночь, Кострикины отвечали: «вповалку»; дети на ночь выезжали на кухню, там им стелили на полу. Но семья, чувствовалось, была дружная, работящая. Интересно бы узнать, что с ними стало от переписи до переписи? Вот, кстати, тоже почти не используемый в социологии метод – прослеживание судеб конкретных семей, олицетворяющих судьбу и связь поколений.
Вообще, в целом атмосфера была доброжелательная; о том, чтобы счетчика не пускали в квартиру, не было и речи. Как правило, к моменту появления переписчика все опрашиваемые были налицо и сами отвечали на вопросы, в отличие от заочного в основном опроса в 2002 г. Тогда было правилом, что человек должен предъявить себя сам. Уклоняться тогда тоже не полагалось. В этом плане перепись была надежной. Вопросов в переписных бланках, насколько помню, было довольно много, касались они данных, не улавливаемых обычной статистикой (жилищные условия, уровень потребления, наличие предметов длительного пользования и т.д.). Возможно, дело в молодости – от той переписи у меня осталось благоприятное впечатление.
«Зачем нужна эта перепись?!»
О переписи 2002 года впечатления не столь однозначные. И дело скорее не в моих ощущениях, а в восприятии переписываемых, может быть слишком критически настроенных представителей населения. Многие из них задавали вопрос, поставленный в заголовке очерка, при этом зачастую в риторическом духе, не для того, чтобы получить ответ, а чтобы самим выразить свое, вполне определенное мнение. Некоторые формулировали вопрос так: «Кому нужна эта перепись?», давая понять, что, по их мнению, кто-то, что-то на ней имеет. Дав ответы на вопросы переписного бланка, такие скептики восклицали: «И это все?! Стоило ради этого затевать такое огромное мероприятие? Не проще ли было списать данные в жилконторе – проще и точнее. А деньги пустить хотя бы на тех же бомжей, которых пытаются взять на учет с помощью переписи… Или на бездомных детей… Ведь это ужас, сколько бездомных развелось в мирное время!»
Что я мог отвечать? Вопрос о назначении переписи казался мне очевидным. По радио и телевидению постоянно звучало: «для ликвидации белых пятен», «для формирования государственного бюджета, уменьшения безработицы» и даже «для укрепления обороноспособности страны». Жителей призывали «вписать себя в историю». Сам я понимал так, что перепись нужна ввиду ненадежности нашей статистики и для большей полноты важных данных, не улавливаемых рутинной статистической системой. На занятиях по обучению нас учили давать правильные и убедительные ответы на вопрос «Зачем нужна перепись?» «Перепись нужна для получения объективных данных о социальнодемографических, экономических и национальных характеристиках населения. Впоследствии эти данные должны быть использованы для улучшения ситуации в стране. Данные переписи помогут правительству работать более эффективно, правильно организовывать социальную политику. Это дает нам надежду на перемены к лучшему». А если человек заявляет, что он не доверяет властям, «Руководство для переписчика» рекомендовало использовать такой аргумент: Антон Павлович Чехов не жаловал царское правительство, однако, и пропагандировал перепись, и сам участвовал в переписи 1897 г.» (мол, даже если правительство такое же, как царское образца 1897 г., пусть вас убедит позиция Чехова). Предлагалось приводить в пример и другого великого классика – Л.Н.Толстого, который целых три дня работал в качестве переписчика.
Но все эти аргументы почему-то не убеждали скептиков. А по поводу «укрепления обороноспособности страны» они с издевкой замечали: «Это что же, с помощью переписи хотят отловить уклонистов от армии? Так они вам и перепишутся!»
Натыкаясь раз за разом на вопросы, я невольно вынужден был попробовать уяснить для себя истинный смысл ВПН 2002. В «Руководстве для переписчика» и во вступлении к «Переписным документам на квартиру» приводились не просто убедительные, я бы сказал – красивые положения о назначении переписи. «Всероссийская перепись – это важнейший общенациональный проект, масштабное историческое событие, в котором принимают участие все жители новой России (слова «новой России» были выделены жирным шрифтом). Теперь возникла новая политическая и экономическая реальность. Перепись поможет государству, обществу, каждому человеку узнать, сколько нас, кто мы, какие мы. Данные переписи позволят получить разносторонние характеристики современного российского общества, правильно оценить демографическую ситуацию, точнее спланировать программы, важные для каждого жителя страны – мы будем знать, сколько потребуется школ и поликлиник, центров социальной помощи, где и как развивать общественный транспорт и многое, многое другое». Среди этого «многого другого» называлось «выделение средств на пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование, строительство дорог и жилья и решение многих других социальных проблем». В листовках для населения, которые должны были быть расклеены во всех подъездах (но так и не появились), проект был расписан еще красивее, с высокоуважительным отношением к гражданам. «На протяжении многих лет Вы своим самоотверженным трудом создавали богатство нашей страны. Вы хотите, чтобы им грамотно распорядились, чтобы в России было достаточное количество рабочих мест, были построены новые школы, детские сады, больницы, чтобы пожилые люди находились под надежной защитой и опекой государства. Вы многое дали этой стране – и она обязана заботиться о Вас. Власть должна проводить политику в интересах конкретных людей. Кроме того, перепись – это летопись страны, ее история. Вы своими руками создавали эту историю.
Победа в Великой Отечественной войне, послевоенное возрождение страны, полет в космос Юрия Гагарина – все это достижения, которыми мы будем всегда гордиться. Не пожалейте своего времени и усилий; без Вас «портрет» нации будет неполным, а государство может не узнать о тех проблемах, которые волнуют лично Вас, и не предложить пути их решения. Внесите свою строчку в российскую летопись! Расскажите стране о себе!»
Ну, прямо – перепись решит все проблемы. И это здорово, что мы на нее сподвигнулись, несмотря на нехватку денег, огромные государственные долги. Как жаль, что население не читало этих вдохновляющих листовок, люди сами бы побежали на переписные участки, выстраивались в очереди, а если принимали переписчика дома, то осуществляли это как торжественный акт.
Но если столь велико значение переписи, соображал я, то почему так куц перечень вопросов? Для основного массива их было 11, среди которых 9 занимали паспортные данные о возрасте, поле, месте рождения опрашиваемых, о родственных отношениях в семье, гражданстве, национальной принадлежности, владении русским языком и иными языками. Что, это главные проблемы – гражданство населения, национальная идентификация, владение русским языком и иными языками? Забегая вперед, можно сказать, что ответы на вопросы о гражданстве, владении русским языком были на моем участке на 100% одинаковыми – иного и не приходилось ожидать. Не проще ли, в самом деле, и надежнее было бы взять паспортные данные в паспортных столах, благо прописка у нас, под более благозвучным названием «регистрация», жива, несмотря на принятый Думой закон о ликвидации оной, а за счет этих данных расширить содержательные вопросы? Таковых в переписном листе, по сути дела, было всего два – об источниках средств к существованию и занятости – наличии работы, «приносящей заработок или доход». Но и они сами по себе были построены так, что давали мало информации (замечу, что в источниках средств к существованию «доход от трудовой деятельности» фигурировала такая любопытная запись: «например, заработная плата»). Для четверти опрашиваемых анкеты были подлиннее, содержали вопросы об отрасли экономики, в которой заняты работающие, продукции предприятий, выполняемой работе, времени проживания в городе (поселении). Таким образом, ¼ отвечала на 13 основных вопросов. Но ведь перепись тем и отличается от обследований, что она – сплошная. Да и расширение вопросов незначительное.
Надо отметить, что в бланке «Жилищные условия населения» имелись содержательные вопросы о типе жилого помещения (отдельная квартира, коммунальная и т.п.), его благоустройстве и размере жилплощади. И все же не хватало в переписи весьма актуальных в настоящее время данных о социальном положении, размере заработной платы (дохода), об уровне материального положения, потребления в целом, о социальных гарантиях (например, о медицинском обслуживании), более подробных данных о занятости и др. – информации, показывающей именно «социальные сдвиги», отражающей «новую политическую и экономическую реальность» (кстати, политической реальности перепись никак не касалась). Призыв «рассказать стране о себе», о своих проблемах, беспокойство о том, что «государство может не узнать о проблемах, волнующих лично граждан», остались, мягко говоря, повисшими, а грубо говоря – издевкой.
Что касается большей достоверности переписных данных – по сравнению с рутинной гос. статистикой, то и тут, как будет видно далее, были большие сомнения, особенно если принять во внимание и то, как была поставлена организация переписи. Действительно, создавалось впечатление, что она проводится в основном «для галочки». Как высказался один переписываемый, «надо было потратить отпущенные деньги». В упомянутых «Переписных документах на квартиру» фигурировали фразы: «Согласно рекомендациям ООН все страны мира проводят переписи на рубеже нового тысячелетия. И наша страна должна внести свой вклад в составление общей картины народонаселения Земли». Не в этом ли дело – отчитаться перед ООН? И не есть ли «важнейший общенациональный проект, масштабное историческое событие» не что иное, как формальное мероприятие, при этом достаточно дорогостоящее?! По словам зам. председателя Госкомстата РФ С. Колесникова,
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 на перепись было затрачено 4 млрд. рублей из федерального бюджета и плюс 1 млрд. из местных бюджетов. Цифра, конечно, солидная. Но дело, разумеется, не в размере сумм, а их эффективном использовании.
Армия переписчиков
Ключевым звеном переписи были, понятно, переписчики. Насчитывалось их во всей стране, по словам того же С. Колесникова, около полумиллиона человек – целая армия.
Питерская дивизия была набрана в основном из студентов посредством старой доброй разнарядки. В целом подход, разумеется, правильный – кому как не молодым студентам бегать по квартирам! Но надо было учитывать, что студенты и поведут себя по-студенчески, и принять соответствующие организационные действия. Так, на обучение студенты являлись, как правило, с опозданием на час, на вторую половину занятий, а примерно половина будущих переписчиков, по моим наблюдениям, прогуливала по студенческой привычке свалившиеся свободные от занятий дни. Благоприятствовало этому отсутствие учета посещаемости и каких-либо зачетов по результатам обучения. Раздали только тесты, по которым каждый мог проверить себя сам на уровень подготовленности. Сколько человек проэкзаменовали сами себя – мне неизвестно. В переписи 1959 г. мы сдавали целый экзамен, и то путались в переписных вопросах. Видимо, вследствие такой подготовки многие студенты к концу переписного периода выполнили едва половину нормы и «ползали» по своему участку еще неделю. Каково было качество их переписи – остается только гадать.
При всей массовости набора переписчиков, отдельные переписные участки оставались незакрытыми. Их приходилось обегать самим инструкторам.
Уже во время переписного периода 500 переписчиков-студентов во Фрунзенском районе (где и я работал), пройдя обучение и узнав о загрузке и оплате, объявили забастовку (загрузка, действительно, была рассчитана на двужильных негров, приходилось работать с 9 часов утра до 10 вечера, по 12-13 часов в день, до полного одурения). Вероятно, фрунзенский конфликт как-то был улажен, а если разрешен не полностью, то можно представить, сколько участков оставалось незакрытыми к началу переписи.
Обеспечить стопроцентный охват не удалось практически никому. При либеральной постановке дела даже я, профессиональный специалист по опросам, сумел переписать жителей 90 с небольшим процентов квартир. У студентов уровень охвата был еще ниже. С этим приходилось мириться в виду отказов от переписи и уклонения от нее под благовидным предлогом: «Мы сами сходим на участок» (обещания, как правило, не выполнялись).
Предусмотренные процедурой переписи контрольные обходы были отменены – к концу отведенного времени стало не до них.
В итоге, надо вводить коэффициент погрешности не менее 10% на неполноту данных переписи. Каким коэффициентом оценить качество заполнения – затрудняюсь ответить. Тут оказывали влияние две составляющих – качество ответов самих переписываемых и уровень подготовленности переписчиков. Когда за всю семью отвечал один человек (такая возможность предусматривалась условиями переписи), тем более, когда он сообщал данные по телефону, можно было только предполагать, кого он из «фактически проживающих» назвал, а о ком предпочел умолчать, какие данные выдал по принципу их «угодности».
Разумеется, во всяком деле неизбежны накладки, тем более в таком масштабном «общенациональном проекте». Но дело в том, что здесь проглядывал «галочковый» подход, при котором главное – не результаты, а само проведение мероприятия.
Ввиду этого можно, вероятно, не очень и расстраиваться по поводу качества переписи – если она «для галочки», то что от нее и ожидать?!
Статистические начальники и СМИ «содействуют»
Видимо в соответствии с упомянутыми установками и оказывали свое «содействие» ходу переписи статистические начальники. Они напирали на добровольность переписывания, возможность сообщения данных по телефону и, соответственно, необязательность впускания переписчиков в квартиры, соблюдение конфиденциальности… Создавалось впечатление, что они как бы оправдываются перед некоторыми категориями населения, боятся задеть их доходы, нарушить тайну об их жилищных условиях. Нетрудно было догадаться, о ком идет речь, ибо, что было скрывать рядовым гражданам по упомянутым вопросам переписи?! Разве что возраст женщинам. Начальник Петербургкомстата, выступая по радио, заявил, что «данные анонимны, поэтому вы можете говорить не стесняясь, что угодно». Он не только беспардонно лгал, ибо переписывание начиналось именно с занесения в листы фамилии, имени, отчества и адреса переписываемых (не мог же он не видеть переписных листов?), но и подставлял нас, рядовых переписчиков, которые теперь должны были объясняться, зачем они спрашивают ФИО.
Телевидение, как известно, регулярно подавало врезки про перепись. Но и оно напирало на ту же добровольность, как главную информацию сообщало, что переписчик должен предъявить, кроме удостоверения, паспорт, иметь при себе портфель, что в квартиру его впускать необязательно, «можно переписываться через дверь». Хотел бы я посмотреть, как хотя бы один представитель телевидения переговаривался с человеком через металлическую дверь и записывал ответы, держа на руках этот злополучный портфель, весящий со всеми бумагами под 10 кг! В самые напряженные дни, когда мы, как я упоминал, трудились до одурения по 12-13 часов в сутки, СМИ, в порядке «содействия», пустили историю о том, как к одной старушке пришли переписчики, кокнули бабушку молотком по башке, с помощью миноискателя нашли сейф и украли 20 тыс. долларов. Эту историю нам с удовольствием, посмеиваясь, пересказывали жители (самим нам, разумеется, было не до телевизора). Хороша была история, хороша бабушка, имевшая в квартире сейф, а в нем – 20 тысяч долларов!
К счастью, люди лишь посмеивались по поводу этих страстей-мордастей, в подавляющем большинстве случаев открывали двери, ни один человек не потребовал предъявить паспорт. Жители, по крайней мере рядовые, оказались не такими закрытыми, как полагало начальство. Или мой дом был просто пролетарским?
Правильно сказал в данном случае М. Леонтьев из «Однако», который вообще-то имеет известную репутацию, что власти сами дискредитировали перепись, вместо того, чтобы подчеркивать – это серьезное и дорогое государственное дело, требующее уважения к себе; что участие в переписи – обязанность, а не игра в бирюльки…
Но я в основном хочу рассказать не о переписи как такой, в сущности – лишь мимолетной фотографии нашей жизни, а о самой реальной жизни, впечатлениях о петербуржцах. Наблюдения за их жизнью, по замыслу – главное в содержании этого очерка.
«Сочувствие» коллег – социологов
В заключение первой части очерка – об отношении к переписи коллег-социологов, тоже в какой-то мере символичном. Переполненный первыми впечатлениями, я пришел в свой институт, стал делиться своими мыслями, сказал, что готов выступить на семинаре… Я-то полагал, что социологам сам Бог, а точнее – профессия, велели участвовать в переписи, использовать возможность соприкоснуться с реальностью во всей ее «неправильной» конкретности. Но никто, кроме меня, почему-то не пошел в переписчики, хотя есть и молодые сотрудники, которым сподручнее было бы бегать по лестницам. Ну, нет, так нет, по крайней мере, у них должен быть интерес к моим впечатлениям, которыми я охотно готов поделиться?
Кроме непосредственного любопытства есть еще одна причина для интереса социологов к переписи. Перепись - сбор информации, стат. данных, которые представляют собой хлеб для социологов. И им совсем не все равно, какие вопросы заложены в переписи, как собираются данные. В своей статье в «Социологические исследования» я писал, что в прошлую перепись социологи участвовали в ее проектировании как научное сообщество, предлагали темы, вмешивались в методику. Но в эту перепись почему-то ничего не было слышно (быть может, до меня просто не дошло). Этот вопрос тоже стоило бы подискутировать ввиду упомянутых «недостатков» в организации переписи.
Но неожиданно я встретил вежливо-прохладное отношение, как по поводу непосредственных впечатлений, так и сотрудничества с Госкомстатом. Некоторые сотрудники, правда, проявили интерес - но специфический. Один из коллег, весьма уважаемый мной, сказал: «В том, что ты способен вляпаться во что-нибудь, в том числе - в перепись, я не сомневаюсь. Лучше скажи надо ли переписываться или лучше избегнуть?» Ознакомившись с перечнем вопросов, этот сотрудник сделал вывод, что опрос не анонимен, и поэтому переписчика не надо пускать в квартиру. «Сегодня они запишут фактически проживающих, без прописки, а завтра придет милиционер и предложит непрописанному покинуть столичный Петербург, отправиться в свои палестины». Выходит, этот социолог не только не пошел в переписчики, но и стал одним из отказников, которые у меня портили картину, и общение с которыми оставляло не лучшие впечатления.
Если и социологам наплевать, то кому она нужна, эта перепись? Неужели в первую очередь милиции, чтобы взять на учет, или, говоря по-современному, ввести в базу данных некоторую конфиденциальную информацию? Или - налоговым службам, чтобы накрутить эту информацию на личный ИНН, который, как известно, многие верующие называют «знаком дьявола»?
Но я подумал, что в институте дело не в переписи, а в отношении к моей персоне. Приняв это утешительное умозаключение, я и заканчиваю первую часть своих впечатлений.
Тройные железные двери
Первое, с чем столкнулись переписчики, выйдя на свои участки (по-социологически - в поле) - это запертые на кодовые и амбарные (гаражные) замки железные, точнее - стальные двери (зачастую закрытые на два, три замка). При этом дверей оказалось целых три -входная на парадной, дверь на этаже, при входе в общий коридор, и часто стальная же дверь при входе в квартиру. Вот до чего дошла степень обособления, обороноспособности квартир, семей и, естественно, людей! Конечно, я и раньше видел железные двери; у нас в доме, на парадной стоит такая же, и на нашем этаже две квартиры отделены непроницаемым на вид глухим стальным полотном в палец толщиной (как на броневике или бронепоезде). Но когда мне пришлось преодолевать почти 140 (такова была норма) гаражных замков - это сильно впечатлило. Куда там англичанам с их «домом-крепостью»! Стоя перед очередной, как вход в сейф, дверью, я невольно восклицал: «В какой век я попал?! В средневековье? Но, наверное, и тогда горожане полагались в основном на входные ворота, а друг от друга не отгораживались как сейчас». Это был обычный, даже не кооперативный дом. А ведь есть дома-крепости, например, на Бухарестской улице, недалеко от проспекта Славы. Наружные стены, действительно, сделаны как крепостные. В них только узкие окна, напоминающие бойницы, на входе охранники в пятнистой форме. Как там внутри - не видел, не довелось попасть. Можно только представить. Англичане употребляют свое выражение о «доме-крепости» в переносном смысле. Мы же хотим превратить свои квартиры в крепости в прямом смысле слова.
Но и за тремя дверями люди не чувствуют себя в безопасности. Вот одна из дверей, с глазком, конечно. Звоню, попав в коридорное пространство. Кто-то шуршит за дверью, смотрит в глазок. Но не открывает. Даже не отвечает. Соседи, которые уже впустили переписчика, говорят, что там живет старушка, «не открывает». Один сосед берется
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 посодействовать. Звонит бабушке по телефону, через стенку, уговаривает. Убеждает, что «переписчик заслуживает доверия». Подходит со мной к двери, становится напротив глазка, для обозрения. Дверь приоткрывается на цепочке. Оттуда недоверчиво выглядывает почти достоевская старушка. Наконец, впускает в свою прихожую.
Пытаюсь понять - в чем тут дело? В страхе перед грабителями, убийцами? Но у большинства на деле нечего грабить, и убивать их никто не собирается - никакие они не дельцы или мафиози. Может быть телевидение напугало людей со своими бесконечными триллерами, когда какую кнопку ни нажмешь, сразу нарвешься на выстрелы, взрывы, убийства. Или за тремя дверями жители хотят вообще отгородиться от других людей, от сегодняшней жизни в целом? И что нас ждет на следующем этапе? Амбразуры в дверях и торчащие оттуда стволы? Блок-посты при входе в парадные?
Однако российский изоляционизм имеет свои утешительные национальные особенности. Входные двери с кодовыми замками обычно, особенно днем, стоят нараспашку. Пройти можно по запасной (второй) лестнице. Если и она заперта, входную дверь можно открыть, присмотревшись к стертости кнопок; легко войти, подождав, когда кто-то выходит или входит. В конце концов, можно воспользоваться кодом, записанным дворниками на самой двери. «Не можем же мы упомнить все номера кодов!» - говорят они. Двери на этажах - более прочная преграда. Но и они часто разломаны, и скорей всего не грабителями, а подростками, стихийными борцами с изоляционизмом. Впустить в коридор может сосед по квартире. А самое главное состоит в том, что, вопреки страхам, нагоняемым жизнью и телевидением, люди в подавляющем большинстве случаев спокойно открывали свои железные двери и впускали в квартиры, мельком глянув на удостоверение и говоря: «Да зачем паспорт? Я вам верю». Возможно, люди интуитивно ощущают, что стреляют, когда нужно, и в подъездах, и перед подъездами, а ограбления производятся именно квартир с железными дверями, т. к. в них «есть что грабить». И благодаря этой сохранившейся или неискоренимой доверчивости, я был впущен почти во все квартиры и встречен традиционно гостеприимно. Женщины обычно предлагали выпить чаю, кофе; в одной молодой семье мне даже торт подарили, просто так. А выглядывавшая вначале бабушка, после того, как я побывал у нее, взялась помогать переписчику, вышла в валенках в коридор, стала названивать соседям, крича им через дверь: «Перепись! Я уже переписалась, теперь ваша очередь». Потом она позвонила мне домой, попросила еще раз зайти, спрашивала совет о том, как лучше передать квартиру внуку...
Кухня как основная сфера обитания
В квартиры-то, как уже сказал, впускали, но принимали обычно на кухне. Вначале это меня несколько коробило: Я же не проситель! Я - представитель государства! И занят «важнейшим общенациональным проектом» Посмотрите, какое солидное у меня удостоверение, с голограммой. В конце концов, сам я лично не мальчик, солидный ученый муж, заслуживающий почтения.
Потом я понял (и люди об этом говорили) - принимают на кухне не потому, что не уважают ученого мужа и представителя государства, а по той простой причине, что кухня -основная сфера обитания и приглашают, естественно, в нее. Непонятно, как это произошло -то ли времена и нравы изменились, то ли типовое жилье приучило, но это факт - кухни стала центром квартир, приняв на себя функции столовых, гостиных, про которые все давно забыли. Здесь люди проводят, пожалуй, большую часть времени, не только готовят еду, завтракают, ужинают, иногда обедают, но и смотрят телевизор, собираются всей семьей, когда нужно что-то обсудить, принимают знакомых, гостей, если это не очень большое торжество. В коммунальных квартирах кушали в комнатах, но это было вынужденное дело. Как только люди переезжали в отдельные квартиры, они обнаруживали, что это удобнее делать (питаться) на кухне.
Соответственно, и обставлены кухни не только как места приготовления и приема пищи, но и как комнаты, гостиные. Вместо маломерных кухонных столиков, входивших в состав стандартных наборов «Березка» (устанавливаемых, кстати, в принудительном порядке вместе с новой квартирой, разумеется, за отдельную плату), поставлены большие обеденные столы, да и сами «Березки» нередко заменены более современными и дорогими мебельными кухнями; на холодильниках стоят телевизоры, стены оклеены обоями, украшены картинками, цветами, иногда даже расписаны. В отдельных кухнях стоят диваны, кресла. А некоторые кухни представляют из себя просто райские уголки... эту иллюзию усиливают пестрые птицы в клетках... Понятно, что для расширения функционального назначения кухни нужен метраж. Метраж кухонь в моем доме позволял даже диваны поставить, но и то люди хотели бы, чтобы кухни были еще большими.
Ну, хорошо, люди как-то обошлись, вышли, так сказать, из положения, присвоив кухне функции не только столовой, но и гостиной. А что дальше? Во-первых, не все могут произвести данную кухонно-гостинную трансформацию. Жители, выехавшие из известного типа (новых) домов поминают «добрым словом» архитекторов, социальных планировщиков, строителей, которые, в погоне за полезной площадью» урезали кухни до 5 кв. метров (а другие «неполезные» помещения ужимали до степени совмещения; пример – злополучные совмещенные туалеты-ванны). Главным показателем была квадратура комнат (ее тоже подгоняли под тогдашние нормативы, которые сейчас безнадежно устарели). Строители выполняли показатели, получали премии, а жителям досталось всю жизнь мучиться. В частности, отличаются крохотными кухоньками наиболее массовые дома-«корабли». Интересно, так вот строители отправили жителей в плавание в коммунизм? С кухоньками, где семья в 3-5 человек вынуждена «сидеть друг на друге», а хозяйка – хоть на плите? Что теперь с этим делать? Об этом даже не говорят нигде. Как выразился один житель, «значит, нынешние поколения людей обеспечены жить в кухоньках с куриную попу?».
Ну, ладно, в известные времена господствовал чиновничье-бюрократический подход. А что предлагают нынешние строительные компании типа «Элис», где «все идет по плану»? Уж они-то восприняли социальный заказ даже не сегодняшнего – вчерашнего дня? По крайней мере, расширили кухни, хотя все же обедать и принимать гостей рядом с кухонной плитой и ведром для мусора вряд ли современно? Я посмотрел планировки предлагаемых квартир в рекламных изданиях. В некоторых обнаружил надписи «кухня-столовая» и даже «гостиная». И размеры просто кухонь – не меньше 10 кв. метров. Но это в квартирах стоимостью от 50 тыс. до 100 тыс. (долларов, разумеется) и в коттеджах стоимостью 200-700 тыс. и более. В домах же массовой застройки размеры кухонь соответствуют прежним стандартам. Теперь в погоне за доступностью, продаваемостью квартир и сегодняшние строители делают так, как удобно им. Правда, теперь с дифференциацией по имущественному положению. Значит, и многие будущие поколения петербургских людей будут жить …?
Ковры на полах и на стенах
После железных дверей и кухонь, совмещенных с гостиными-столовыми, следующее, что впечатляло (и более благоприятно) – это ковры на полах, на стенах, вообще ухоженность квартир, хорошая и нередко красивая их отделка, обстановка в целом, мебель, занавески, разные украшения и т. п. Ковры висели и лежали не только в комнатах (нередко во всю стену и во весь пол), но и в прихожих, иногда даже на кухнях. Мебельные стенки стояли почти в каждой квартире (разумеется, я мог это видеть тогда, когда уже в прихожей и на кухне висели ковры, когда принимали все же в комнатах или в том случае, если я начинал восхищаться интерьером, и польщенные хозяева демонстрировали свои апартаменты). Я слышал по радио, что одна из девушек-переписчиц (работавшая, вероятно, в старом жилом фонде), первые несколько дней возвращалась с участка в слезах от увиденной нищеты людей. Меня же, наоборот, поражала, по крайней мере, внешняя благоустроенность квартир, создавая впечатление о благополучной и в целом жизни (об изобретательности людей в отделке квартир можно бы много рассказывать). Встречались, конечно, и спартанские жилища, с голыми стенами, покрытыми обоями еще от строителей. Но это были редкие исключения.
Я сделал вывод, что петербуржцы, по крайней мере, в новых отдельных квартирах, заботятся о комфорте, удобстве, уютности жилищ и даже понимаемом по-своему богатстве их обстановки, прилагают к этому большие усилия. По крайней мере, содержат квартиры в опрятности. И в этом проявился питерский стиль. «Если в стране полный бардак, пусть хоть в квартире будет порядок» – выразился один из переписываемых.
Конечно, в обилии ковров можно было увидеть мещанский привкус, осуждаемый в советское время. Вероятно, было и это в погоне за модными (и труднодоступными) тогда коврами. Но я усматриваю здесь стремление к высшему уровню, а ковры в ту эпоху были символом достатка. Да и не в одних коврах дело. Как уже говорил, квартиры сплошь обставлены добротной (по моим меркам) мебелью, в т. ч. кухонной, стены оклеены хорошими обоями, в ванных и туалетах поставлена красивая керамика. Правда, полок с книгами немного, а произведений искусства на стенах я практически не наблюдал (если не считать дешевенькие эстампы). То ли это вышло из моды, то ли такие произведения недоступны рядовому петербуржцу.
Можно было подумать, что налицо подъем материального благосостояния жителей (горожан). Но оказалось, что в основном обстановка квартир – это «пережиток социализма». Обставлялись квартиры при въезде, когда имелся сильнейший стимул сменить мебель и отделку, и в советское тогда еще время, позволявшее все же сделать это обычной семье. Вот комментарий одного из жителей: «Тогда мы тоже жили небогато, я, например, зарабатывал 250 рублей. Но мебель можно было купить в кредит, или набрать денег в долг у родственников, знакомых. Да и модно было тогда – вешать ковры. Проблема состояла в том, как их достать. Кто успел, тот прибарахлился. Ну, и конечно – переезд. Все вылезали из кожи, чтобы старую мебель побросать, поставить стенки. Если бы не новая квартира сидели бы при тех же бабушкиных шкафах. Ну, а после, в перестройку, сами знаете, как жили. О покупке мебели и помышлять не могли. Да и сегодня не до ковров. Вот так и выходит, что и квартиры, и обстановка достались от бедной советской власти, которой все были недовольны».
Нуклеарные семьи и семьи в 1/7
Естественно, внимание социолога привлекали размер и состав переписываемых семей, при этом – в связи с типом квартир. Какой же представала семейная структура петербургского населения?
Разумеется, я не собираюсь пересказывать вообщем-то известные статданные о том, сколько у нас многодетных семей, сколько, наоборот, не имеющих детей и т. п., не менее известные в научной среде данные социологов о состоянии и развитии городских семей (у нас в институте целый сектор занимается проблемами семьи). Я хотел бы просто поделиться физическими впечатлениями о наблюдаемых семьях, которые (впечатления), понятно, отличаются от знакомства с цифрами. А перед специалистами по проблематике семей заранее приношу извинения за свое дилетантство.
Впечатлило, в первую очередь, большое количество семей, состоящих из двух человек, и тех людей, которых можно назвать в 1/7 семьи (в перекличке с выражением: «семья – это семь «я»), т. е. фактически одиночек (хотя они шли как отдельные «домашние хозяйства»). Вначале мне показалось даже, что они составляют половину всех семей, но сделав количественный подсчет, увидел, что их меньше, примерно – 1/3 «домашних хозяйств». Все же такая доля производила впечатление большой. Одиночками были почти исключительно женщины, в большинстве случаев овдовевшие после смерти мужей (вот наглядное проявление разницы продолжительности жизни женщин и мужчин), как бы покинутые супругами (или, если угодно, проводившие их в мир иной раньше себя). Но были среди половинок семей и женщины вполне фертильного возраста. Одним не удалось создать семью, и чувствовалось, что они переживают это. Но некоторые современные молодые женщины и не стремились к этому, т. к. «замужество мешает карьере». «А мужика найти… для времяпрепровождения… не составляет проблемы. Теперь ведь женщины покупают мужчин». Вот так!
В квартирах, кухнях одиноких женщин был особенно идеальный порядок. И все же в них не хватало «семейного духа», этой особой атмосферы, в которой, как известно, и мужчины дольше живут. Квартиры одиноких мужчин (да и сами эти мужчины) являют собой иную картину. Квартиры имеют спартанский вид (в лучшем случае), сами мужчины – небритые, выпившие, инвалиды… В отличие от женщин они не чувствуют себя самодостаточными, видимо им семья нужна даже больше, чем женщинам. Отсутствие семьи не лучшим образом сказывается на их образе жизни (хотя возможна и обратная зависимость – определенный образ жизни приводит к одиночеству).
Теперь, проходя мимо дома и глядя на его окна, я невольно вспоминаю, что есть вот среди населения значительная доля «половинок семей».
Семьи из двух человек (их примерно ¼) – это, как правило, пожилые муж и жена, пенсионеры, оставшиеся вдвоем после выращивания детей. В квартирах у них ухожено уютно, и сами они излучают благоустроенность, хотя и весьма скромную (большинство живет на пенсию). Значительная часть малых семей занимает двух- и даже трехкомнатные квартиры. Это остатки (обломки) бывших более крупных семей, уменьшившихся (частично, распавшихся) уже после заселения дома. Видимо, это проявление процесса уменьшения семей.
На примере однокомнатных квартир и заселяющих их жителей в голову приходила фантастическая мысль о предопределенности состава семей типами (и размерами) квартир. Хотя я понимал, что однокомнатные квартиры и получали малые семьи или одиночки, казалось, что, въехав в эти стены, они обрекли себя на ограниченность роста. Но это, видимо, действительно, фантастика…
Типичными, наиболее распространенными в моем массиве были семьи из 3-х человек, типично же занимающие двухкомнатные квартиры. Они являли собой подтверждение правила о преобладании таких семей и типичнейшей форме их расселения в недавнем прошлом. Насколько это расселение соответствует сегодняшним меркам – вероятно, проблемный вопрос.
К моему даже удивлению, в Питере оказалось довольно много семей в 5 и более человек, встречались даже семьи в 9 душ (удельный вес многодетных семей составил около 14%). Это классические семьи, включающие в себя несколько поколений (родители, их дети, бабушки, дедушки). Можно отметить, что в таких семьях встречали переписчика наиболее радушно. Поразительно, что в подавляющем большинстве случаев они оказались живущими «единым хозяйством», т. е. вместе питающимися, сообща покупающими вещи и т. д. И, как правило, они были стеснены в жилищных условиях, жили по 3-4 человека в одной комнате. Такие семьи плохо вписывались в прежнюю систему типов квартир, а точнее, система не соответствовала этим семьям.
Областные петербуржцы
Довольно любопытными оказались данные о поколениях петербуржцев. Чем старше возраст жителей, тем больше среди них (доля) родившихся не в Ленинграде, приезжих из других областей страны. Так, старшее поколение в возрасте за 50 лет на 60% - приезжие. Это и понятно. В послевоенные годы обезлюдевший во время блокады Ленинград принимал пополнение населения. Процесс продолжался и после – в 60-е, 70-е и даже 80-е годы, когда значительная часть трудовых ресурсов (рабочей силы) поступала извне, в т. ч. привозилась по оргнабору – город не воспроизводил себя, коренные питерцы не хотели идти на заводы,
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 на стройки, требовавшие в то же время все больше рабочих рук. На расширяющемся строительстве трудились почти сплошь лимитчики. Общежития имелись практически при каждом предприятии (у Кировского завода, например, их было более двух десятков, половина рабочих доблестного путиловского пролетариата проживала в общежитиях). В свое время называлась цифра в 900 тыс. проживающих в общежитиях (вместе со студентами).
Интересно отметить, что город пополнялся представителями практически всех краев и областей страны. Он – всероссийский по своему послевоенному составу. Больше всего выходцев, конечно, из прилегающих областей Северо-Запада (Новгородской, Вологодской, Псковской, Мурманской, из Карелии, разумеется, Ленинградской области), а затем идут жители центральных областей, устремлявшиеся не только в Москву, но и в Ленинград (Владимирская, Ярославская, Тверская области, расположенные даже за Москвой – Костромская, Рязанская, Тульская, Саратовская области). Приезжали люди и из таких дальних областей как Свердловская, Оренбургская, Кемеровская, Новосибирская. Ну и, конечно, вливались в ряды питерцев посланцы из Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Мордовии, Киргизии и т. д. Потребность в людях соответствовала стремлению последних во вторую столицу, к высшему во всех отношениях уровню жизни.
До определенного времени было, вероятно, актуальным известное выражение: «Понаехали тут всякие…» Но теперь уже послевоенные мигранты давно стали полноценными питерцами. А среди молодых (в т. ч. это дети бывших мигрантов) почти все – родившиеся в Ленинграде-Петербурге. Соответственно, весь состав горожан сегодня можно считать фактически «коренным питерским».
Отмечая место рождения переписываемых, я невольно вспоминал две полумифические, связанные с этим питерские проблемы.
Первая. Существует представление, что приезжие быстрее (и преимущественно) получали отдельные квартиры, по сравнению с коренными петербуржцами. Они первыми вставали на очередь (поскольку не имели никакого нормального жилья), а коренные оставались в своих коммуналках, поскольку метраж у них был выше 4,5 кв. метров (норма, существовавшая наиболее длительное время). А коммунальность квартиры не учитывалась при постановке на очередь. Да, действительно, прежние отцы города обрекли многих дорогих коренных питерцев на бесперспективное проживание в коммунальных квартирах, не принимая во внимание ущербность квадратных метров в таких квартирах. Что же касается приезжих, то, как известно, они должны были 10 лет прожить в городе (в общагах), прежде, чем получали право встать на очередь, затем еще примерно такое же время дожидались своего заветного номера. В это время они были привязаны к предприятию (к той же строительной конторе), не могли обзавестись семьей, а если обзаводились, то мучились в семейных общежитиях, многие их которых были почище коммуналок (а то и в обычных общежитиях жили, несколько семей в одной комнате, разгородившись занавесками, шкафами). Можно сказать, что они отработали свое. Не жить же им всю жизнь в общежитиях! (хотя, увы, немало есть и таких бедолаг). Разумеется, надо было уравнять в правах на жилье – и даже возвысить – коренных петербуржцев. Но отсутствие этого – не вина приезжих.
Вторая проблема – связь со сменой поколений известной «петербургской культуры» (субкультуры). Все мы верим в существование этой культуры (в т. ч. в этическом плане), апеллируем к ней, огорчаемся (иногда жутко страдаем), сталкиваясь с проявлениями противоположного свойства. Если этот феномен существует, как он связан со сменой поколений и нашим отношением к нему? Вероятно, петербургский стиль зародился еще в дореволюционные времена, далее он трансформировался в ленинградскую традицию… Но вот после блокады не вымерла ли петербургско-ленинградская культура вместе с почти основной массой ее носителей – коренных питерцев? Восприняли ли приезжие «невский дух» или образовался сплав обычаев, представлений всего российского народа? (в силу упомянутого всероссийского состава приезжих). Передали ли старые коренные
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 петербуржцы своим детям эстафету особой культуры и вообще происходит ли ее передача от поколения к поколению по принципу наследования? Не зависит ли она просто от поддержки всех жителей, независимо от того, к какому поколению они принадлежат, в какой географической точке родились, т. е. от всех нас с вами, от нашей воли творить петербургскую культуру?
Старшие учились в ПТУ, младшие – в институтах
Рассматривая динамику поколений петербуржцев, можно отметить возрастание уровня образования горожан. Старшие, как правило, проходили такой жизненный путь: кончали 710 классов, затем поступали в ПТУ (РУ, ФЗУ) и после этого шли работать на производство. В том числе и многие коренные ленинградцы. Город воспроизводился в первую очередь как промышленный центр; основную часть населения составляли рабочие. Младшие же в подавляющем большинстве идут (или собираются идти) в институты, техникумы; на ПТУ ориентированы единицы. Петербург постепенно становится городом с населением, имеющим высшее образование.
Этим, видимо, в частности, обусловлен острый дефицит рабочих кадров, проявившийся в Петербурге в конце1990-х годов. Коренные питерцы не хотят идти в рабочие. К тому же, в этом году число выпускников 10-11-х классов сравнялось с числом мест для поступления в вузах. Рассказывают, что на Балтийском заводе квалифицированных судосборщиков возят на работу и с работы на такси, платят м до 30 тыс. рублей в месяц. Петербург все же остается промышленным городом, и проблема нехватки рабочих рук будет еще более обостряться.
В то же время тенденцию превращения Петербурга в город с высшим образованием следует оценить как, несомненно, положительную. Во-первых, можно предполагать, что это будет способствовать формированию (повышению) упомянутой петербургской культуры, превращению Питера в реальную, а не только по названию культурную столицу. Во-вторых, ввиду дефицита повысится статус рабочих профессий, улучшится материальное положение рабочих, и молодежь охотнее пойдет на производство. В-третьих, ускорится процесс трансформации питерской промышленности в научно-технический комплекс с преобладанием НИОКР, высоких технологий, где потребуются и рабочие с высшим образованием.
Эффективность изучения языков
Я уже выражал удивление, что среди немногих, на вес золота, вопросов переписи был – о владении иностранными (стояло – «иными») языками. Но раз уж он стоял, посмотрим на результаты ответов.
Владение «иными» языками (включая и такие как украинский, татарский и т. п.) отметило менее 1% опрошенных в моем массиве. Не много для культурной столицы! Может быть и впрямь сегодня, когда надо приобщаться к «цивилизованным странам», владение языками – проблема?
Языкам у нас учат в школе, лет 5, не меньше. Но из обычных школьников практически никто не решился сказать, что владеет иностранным языком. Ну, ладно – в школе, там видимо сохранилось традиционное, не очень серьезное отношение к языкам, хотя, казалось бы, перестройка уже вышла из юношеского возраста, и ее сверстники вступили в настоящую жизнь, где наверняка приходится сталкиваться с иностранцами. По-настоящему языкам учат, как известно, в вузе – это основная форма подготовки молодых инженеров, готовых к общению с западными специалистами. К моему удивлению, КПД изучения языков в вузах – в период, когда языки востребованы – оказался, мягко говоря, низким. Из 82 человек, имеющих высшее образование, владение иностранным языком отметило 27 опрошенных, т. е. около 30%. Да и из них часть «соглашалась» записать «владение», ощущая неловкость от своей неподготовленности, по принципу: раз окончил вуз – должен знать язык. Некоторые
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 откровенно признавались, что всегда пишут в анкетах «владею», хотя на деле вступать в разговор с иностранцами не решаются.
Выходит, на основную массу обучаемых языкам «даром преподаватели время свое тратили»? А государство – не только время, но и деньги? Может быть, действительно, на эту проблему надо обратить общественное внимание? Как известно, общественные деятели любят подчеркивать, что наша система образования – лучшая в мире. Но что-то в ней, видимо – по части изучения языков – немного не так поставлено, если после 5 лет учебы в школе и столько же в вузе человек со вздохом отмечает – «не владею».
Рыночные «лишние люди»
Тема «лишних людей» выглядит вечной, только в разные эпохи она имела разное содержание; по-разному относились и к невписавшимся в систему.
Пушкинские и лермонтовские Онегин и Печорин были в оппозиции (говоря по сегодняшнему) к обществу, не могли приложить себя к жизни, в частности, наверное, и потому, что «народное хозяйство» могло обойтись и без них (и ввиду избавления дворянства от обязанности служить), а сами они способны были прожить и не работая. Отношение к «лишним людям» было мягкое. В советское время, когда, казалось бы, не было никаких условий для существования «лишних людей», они, однако, появились в образе «тунеядцев», выбиваясь из стройных рядов трудящихся. На что они жили – не очень понятно, отношение к ним было известное – можно было и под статью попасть, загреметь в места не столь отдаленные, для трудового воспитания. В рыночных условиях, по одному из поразительных контрастов с прошлым, «лишние люди» получили совершенно узаконенный статус, какую-то часть из них поддерживают даже пособиями. И самое замечательное состоит в том, что наличие целой армии безработных (в 1998 г. их было 8,8 млн. человек) никого особо «не колышет», стало, кажется, уже нормой (а идеологами либерализма, как известно, рассматривается просто в качестве одного из факторов эффективности рыночной экономики).
Между тем, лишение человека работы, его сокращение (люди воспринимают этот акт как сокращение именно их, человеков, не рабочих мест, как выбрасывание их из жизни), означает в каждом случае драму, нередко – трагедию, о чем мне уже приходилось писать, наблюдая процесс «высвобождения излишней численности» на предприятиях. Миллионы жизненных драм! Однако общественное внимание оказалось совершенно нечувствительным к страданиям безработных, никто не воспел драму рыночных «лишних людей».
Во время переписи я увидел безработных, так сказать, «в домашних условиях». «Лишние» старшего возраста выглядели так же, как и на производстве. Для них отсутствие работы – «больной вопрос». Они переживали за свое положение, за семью, между прочим, стыдились своего статуса, говорили, что как-то перебиваются случайными заработками, а если «сидят на шее у родственников», то «мучаются этим»; из попавшихся мне безработных ни один не состоял на учете на бирже труда и, соответственно, не получал пособие.
Молодые же безработные производили другое впечатление. Объективно их положение вызывало протест. Я видел полных сил юношей (парней) и девушек, окончивших школу, но так и не вошедших в настоящую (трудовую) жизнь, не имеющих своего лица, как бы еще не состоявшихся. Что же это за эффективная система, когда человек не может реализовать себя, когда общество значительную часть молодого поколения лишает полноценной жизни, можно сказать, убивает в гражданском смысле… Во имя чего? И никто не кричит «караул»?!
Но субъективно молодые «лишние люди» не ощущали, кажется, никакой трагедии. Рыночные печорины заняты днями смотрением телевизора, слушанием поп-музыки, «висением на телефоне» (по рассказам родителей). Это – в лучшем случае. В худшем (к жутким переживаниям тех же родителей) они «болтаются неизвестно где, заняты Бог знает чем». Сидят, как правило, на иждивении родителей. Многие уже и не ищут работу. Адаптировались, так сказать, к роли «лишних». И, к моему удивлению, повторяю, не
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 особенно переживают свою неустроенность, не склонны драматизировать свое положение, скорее - «позиционировать» его.
Невольно я задавал себе вопрос: чья это проблема? Самих этих «лишних людей»? Или все же и общества, государства? И есть ли вообще проблема? Может быть это одна из -нормальных - черт рыночного образа жизни, проявление свободы личности и свободы общества от обязанностей по отношению к этой личности? Возможно, я просто устарел со своими страхами и переживаниями?
Один предприниматель
Я рассчитывал увидеть предпринимателей, героев нашего времени, в т. ч. именуемых «новыми русскими». Войти в их квартиры в качестве переписчика (попробуй войди в другом качестве, также и социолога!), посмотреть их в домашних условиях, увидеть их апартаменты, которые показывают сногсшибательными по телевидению, в поставленных на поток уже и отечественных сериалах о жизни новой элиты (почему-то, по сериалам, насквозь криминальной). Но встретился всего 1 предприниматель, точнее - одна семья, состоящая из предпринимателя мужа и его предпринимательши жены. Почему так мало - было не очень понятно. Одну из версий выдвигали жители: «Да в нашем доме одни дураки живут!» По другой версии, с опорой на научный анализ специалиста по социологии жилища Н.Р. Корнева, питерские новые русские, в отличие от зарубежных богачей, концентрируются в центре города, на его роскошных набережных, вблизи садов, где есть шикарные дореволюционные квартиры, или где можно огромные коммунальные квартиры превратить в апартаменты по евростандарту. Мой же дом в спальном районе, с известными типовыми квартирами - где тут развернуться широкой душе нового русского?! Разве что стены ломать между квартирами.
Бизнес попавшегося мне предпринимателя состоял из держания ларька на вокзале. Тоже не очень масштабно. А, главное, впечатления о них оказались не совсем ожидаемыми. Но что есть, то и передаю. По рассказам мужа и жены выходило, что российские бизнесмены - самые несчастные люди. Их прижимает администрация (в данном случае - вокзала), прозрачно намекает на подарки начальникам, принимает дары без особого стеснения (и боязни). Поставщики, у которых приходится брать товар, дерут немыслимые деньги так, что выручка едва покрывает издержки. Налоговики требуют отдать свое, невзирая на то, как идет торговля. Покупатели привередливы; был даже случай, когда пришлось платить большую компенсацию. Вокруг ларька постоянно крутятся темные личности, приходится прибегать к «крыше» («в милицию обращаться дороже»). Не чувствуют они себя в безопасности ни дома, ни на улице. Возвращаясь домой вечером, постоянно оглядываются -не идет ли кто следом. В лифт вскакивают бегом. В квартире боятся звонков. Нет ни выходных, ни праздников, хотя режим работы они устанавливают сами. Вечная забота...
Рассказ подтверждал мнение о темности бизнеса, но не соответствовал представлениям о роскошной жизни «новых русских». В квартире моих предпринимателей не видно было ни богатой мебели, ни дорогих видео-стерео-систем - то ли ввиду боязни хозяев выставлять вещи напоказ, то ли потому, что, действительно, они еле сводили концы с концами. Вообще-то впечатления об этом предпринимателе подтверждали слышанные рассказы о мытарствах мелкого бизнеса, подобной, совсем незавидной жизни подавшихся в дельцы знакомых и не знающих потом, как выбраться из этой сферы. Еще при проведении исследования на «Буревестнике» один респондент, сбежавший в рабочие, тоже бывший предприниматель, рассказывал, как он бросил все, оставил свой магазин потому, что в ближайшее время его бы пристрелили. Видимо крупные акулы бизнеса живут в соответствии с телевизионными картинками, а мелкой рыбешке и при полной свободе частного предпринимательства не порезвиться.
«Источники средств к существованию»
Я уже отмечал ограниченность вопроса об источниках средств к существованию, не раскрывающего картину доходов. Не знаю, что хотел выяснить при помощи этого вопроса Госкомстат, я же увидел прежде всего, что основная часть экономически активного населения (около 80%) традиционно существует на «доход от трудовой деятельности», т. е. на зарплату. При этом вопрос еще скрывал, что эта зарплата нередко бывала от двух и более работ, или от одной работы, но по 10-12 часов в сутки. Как уже приходилось отмечать, про нормальные режимы работы многие позабыли, поддерживают уровень заработка, обеспечивающий существование, за счет переработок.
Вторая существенная часть населения живет на доходы от прежней трудовой деятельности – пенсию. Как известно, в Питере доля пенсионеров составляет более ¼ населения; в моем массиве отметили пенсию в качестве единственного средства (источника) 16%, значит, остальные пенсионеры работают, прирабатывают (около 1/3 пенсионеров).
Наряду с живущими на трудовые доходы, значительной оказалась доля находящихся на иждивении (в моем массиве – 24%). Почти половину иждивенцев составляют вполне трудоспособные молодые люди в возрасте 20-30 лет, о которых уже говорилось (как «рыночных лишних людях»). Немало. Хотя главное, конечно, не в нахождении на иждивении (общество, видимо, способно их прокормить), а в жизненной неприкаянности этой категории. Это еще одна плата за реформы, за «более высокую» рыночную эффективность экономики?
Около 4% составляют «иные источники» – это, как правило, были такие источники, которые переписываемые не хотели называть (раскрывать). Можно сделать вывод, что хотя такие доходы и существуют, их удельный вес все же невелик.
Неожиданно для меня наличие подсобных хозяйств (в Питере это садоводства, дачные участки) очень редко отмечались в качестве источников средств к существованию (отметило всего 2% опрошенных, хотя участки имеются у значительно большего числа жителей). Одни говорили, что «участки вышли из моды», прошло то время, когда важную роль играли посаженная там картошка, закатанные огурцы и т. п. Люди ушли от грани голода. Другие выражали мнение, что «садовые участки требуют больше вложений, чем дают сами», и вообще «садоводства созданы для вкалывания в них, для вложения неизрасходованной энергии». «Была тяга к загородным домам… а теперь транспорт дорожает, и ездить становится труднее». Выходит, гаснет это мощное, садоводческое движение?
Такой предусмотренный в переписных листах источник средств к существованию как «сбережения» вызывал лишь усмешку у жителей. С усмешкой отмечались и детские пособия. Вот один из комментариев: «70 рублей – это, вы сами понимаете, курам на смех. Какого ребенка можно прокормить на 70 рублей?!»
«Живем неделю после получения пенсии»
Вопросов об уровне жизни в материальном отношении, тем более – о субъективной его оценке, как отмечалось, в переписных листах не было. Но жители нередко сами высказывались на эту тему, когда речь заходила об источниках средств к существованию. Чаще всего высказывались пенсионеры, живущие на одну пенсию. Иногда я сам спрашивал их, как удается выживать на пенсию, какие способы выживания они применяют. Ответом, как правило, были тяжелые вздохи, жалобы на нехватку средств на самое необходимое, на психологическое ощущение бедности, даже нищеты, униженности и неполноценности. В качестве иллюстрации приведу высказывания одной пенсионерки, живущей с внучкой. Материальное положение пенсионерки осложнено еще и тем, что внучка сидит на ее шее (не исключительный случай, как говорилось выше), точнее – на небольшой пенсии (да еще и покрикивает на бабушку). «Живем на пенсию, 1050 рублей. Живем первую неделю после получения, потом. Вот вы спрашиваете, какие способы применяем. После недели - просто голодаем. Продаем какие-нибудь вещи. да их уже не осталось. Сидим на хлебе и воде. Я пыталась устроиться на работу, но нигде не берут. Старая. К тому же у меня инвалидность, но при ней можно работать. Хотела бы вахтером, хотя бы, сторожем. Вы не знаете, куда бы можно устроиться вахтером? Скрыть возраст, инвалидность? Да как-то совесть не позволяет. Вот приготовили объявления об обмене двухкомнатной квартиры на однокомнатную, с доплатой. Насколько хватит доплаты? На год. А что дальше? А дальше. А больше я и не проживу. Здоровья нет. врачи лечить отказываются. По вызову, когда позвонишь, как узнают возраст, так предлагают рецепты по телефону. Но я вообще-то оптимистка. Ходила к депутату Елизарову, но он «глухой», не слышит. Вернули бы, хотя бы ненадолго, хотя бы на год старую жизнь!... когда мы нормально жили, могли вещи покупать. Все, что вы видите, тогда куплено. Вот, кухню обставили. И на еду хватало. На все хватало. Небогато жили, но могли покупать ..»
Их объявление об обмене квартиры я потом видел на одном из щитов местного самоуправления, не предназначенном для «диких» объявлений, но облепленном ими.
«Запишите мою собачку!»
При том, что уровень жизни населения, как правило, низкий, и многие об этом говорят, поражает обилие собак в квартирах петербуржцев. Я не считал, сколько их, но создавалось впечатление, что они встречаются чуть ли не в каждой квартире, в каждой второй, по крайней мере. Получается, что в Питере до полумиллиона единиц собачьего населения. Не многовато ли? Зачем столько питерцев держат собак? Эти вопросы возникали у меня всякий раз, когда в ответ на звонок в квартиру первым раздавался не человеческий голос, а собачий лай.
Встречали меня собаки самых разных пород, от крохотных шавок до таких рослых догов и массивных кавказских овчарок, что при виде их пропадала всякая охота заходить в квартиры. Нередко после того, как все члены семьи были переписаны, хозяева говорили: «Ну, теперь запишите мою (нашу) собачку. Она у нас тоже член семьи». Я бросал взгляд на собаку, собака тоже глядела на меня, словно подтверждая просьбу хозяев. «Извините, -отвечал я. - Я вас понимаю, но я уполномочен переписывать только человеческое население».
Собачье население и впрямь заслуживает того, чтобы провести его перепись, по крайней мере. Я и раньше обращал внимание на то, что в городе много собак. Но все же не думал, что их столько. С этой массовостью (или с отсутствием собачьей культуры у собаковладельцев?) связана известная всем загаженность лифтов, газонов, да просто тротуаров. Весной, когда все следы собачьих прогулок вытаивают, идти по тротуару приходится с повышенной бдительностью, чтобы не наступить, как на мину, на очередную собачью кучу. Глаз постоянно утыкается в них. Но дело не только в оскорбленных эстетических чувствах. Женщины, гуляющие с детьми на тех же уличных, бульварных площадях, что и собаки со своими владельцами, жалуются, что «невозможно отпустить ребенка на шаг, иначе он тут же вляпается в собачьи какашки». Некоторые выражаются более эмоционально: «Засрали Петербург!» Есть еще и проблема кусания людей собаками, иногда на эту тему рассказывают, сообщают в газетах жуткие истории (собака загрызла в квартире свою хозяйку и т. п.). Лично я был дважды покусан собаками в городе и вынужден обращаться в так называемый арабический центр, проделывать серии уколов против бешенства.
Неудобно вроде бы ставить перед высоким общественным мнением собачью проблему, но, кажется, что «с этим что-то делать надо, надо что-то предпринять». Я, конечно, не призываю к репрессиям. Дело, видимо, прежде всего, в самих собаковладельцах. Нужно ли держать столько собак? Ну, понятно, для одиноких людей собака и друг, и защитник, действительно, член семьи. Но в нормальных семьях - какую роль она выполняет? Кто бы
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2003 провел исследование на эту тему, какой социолог, а может быть кинолог? Или кто еще подключился.
Отдельные картинки
В заключение, для «оживляжа» возможно скучного описания, приведу отдельные «картинки с натуры» (полевые наблюдения, как говорят социологи) из жизни петербуржцев. Они отражают, иллюстрируют весьма многоликую жизнь петербуржцев и в то же время ставят вопросы, отнюдь не простые. Это простенькие, возможно даже банальные картинки, их достоинство - в конкретности, может быть типичности. И проблемности.
* * *
Продолжение про упомянутую бабушку, которая боялась открывать дверь. Как я уже отмечал, решившись впустить переписчика, она повела себя совсем не как достоевская скопидомная старуха, оказалась разговорчивой, по-питерски гостеприимной и озабоченной вовсе не личной сохранностью и благополучием, а сохранением квартиры для дорогого, хотя и непутевого, как можно было понять, внука. Она предложила «откушать чайку», стала рассказывать, что внук недавно женился, но своего угла у них нет, ей кажется, что из-за этого они «живут неустойчиво», то «он один придет, то вдвоем поживут». Бабушке кажется, что «если бы у них была эта квартира постоянная, без меня, то они не так бы ругались». Бабушка была, кажется, готова дематериализоваться, чтобы освободить от себя жилплощадь для внука. Поздно вечером дома у меня раздался телефонные звонок, звонила эта бабушка, не знаю как отыскавшая номер моего домашнего телефона. Ей показалось, что она не внесла в переписные листы своего дорогого внука, а «он записан у меня даже квартиросъемщиком». «Боялась, всю ночь не буду спать, беспокоиться» (что квартира не достанется внуку).
В связи с этой картинкой возникал вопросы. Интересно, а как воспринимает бабушку внук? Ощущают ли вообще молодые питерцы жертвенность старшего поколения? Не поступит ли внук, в нетерпении, как «Внук - расчленитель» в жуткой истории, поведанной недавно газетой «Смена»? (даже пересказывать ее нет желания).
* * *
В некотором контрасте к этой бабушке другая женщина, которая заявила, что вначале хочет услышать вопросы, только после решит, будет ли отвечать. На самом деле она априори решила не отвечать, ей нужен был только предлог, чтобы вылить на голову переписчика свое недовольство буквально всем. В ее образе явился этакий утрированный типаж ворчуна, доли которого присутствуют в каждом из нас. Вначале она разнесла вопросы переписи, саму перепись, которая «мне ничего не дает», «да и вообще, зачем она, выбросили огромные деньги, лучше бросили бы их на ремонт дорог, а то по улице не пройти, того и гляди ноги сломаешь». Далее она перешла на обустройство дома и микрорайона. Стены в доме промерзают, в стыках были даже дыры; линолеум весь покоробился, дверь на балкон не закрывается. «В лифтах каждый день насрано и нассано», «кодовые замки поставили, но двери постоянно нараспашку», вообще «дом качается потому, что построен разгильдяями на подземной реке», «во дворе бардак, детские качели и мостики переломаны», «обещали построить в микрорайоне магазин, поликлинику - ничего нет». Покончив с переписью, домом и микрорайоном, критически настроенная женщина взялась за действия властей, за отдельные известные персонажи. «Электричество дорожает», «квартплата растет от месяца к месяцу, скоро перевесит мою зарплату», «это Чубайс и ему подобные задают инфляцию, потому что вслед за электричеством подтягиваются и все остальные цены»; «Путин тоже хорош, только красоваться перед телевизором, а что он сделал для нас, простых людей?!»
Слушал я этот поток и невольно про себя думал: разумеется, все это мог бы произнести и я (и кое-что, кое-когда произношу). Но можно ли жить с таким яростным жалом?! Не спасает ли нас наша мягкотелость, попустительство, если хотите, или способность видеть и светлые стороны; не есть ли они защитный механизм в ситуации, из которой нет позитивного выхода и остается только повеситься или рассмеяться?!
* * *
Вроде бы даже в этом же коридоре столкнулся с еще большим негативом, теперь обращенным на меня.
Молодой парень, открыв дверь, встретил меня такими словами: «Перепись? Не желаю с вами общаться! Вы свободны!» - «Простите, не понял», - невольно воскликнул я. - «Я же говорю - вы свободны! Вот дверь! Прошу!» - показал парень на входную дверь и громко захлопнул свою дверь, в квартиру. Потом я боялся, правильно ли, в ошеломлении, я поставил «отказ» против этой квартиры в «Записной книжке переписчика», и страшился нарваться снова на эту дверь и услышать опять: «Вы свободны! Вот дверь! Прошу!» Звонил в квартиры по этой лестнице со страхом. И, представьте себе, нарвался. Дверь распахнулась... ну, дальше вы можете сами представить.
В утешение можно сказать, что у меня это был единственный случай отказа в такой форме (хотя самих отказов было несколько). Но сколько таких парней в Питере? Согласитесь, что достаточно одного грубого толчка, оскорбления на улице, в транспорте, чтобы испортить впечатление о целом городе. Как избежать таких встреч, а, нарвавшись на грубость, как реагировать? Надо было придти с милиционером, как советовали на участке? Как изживать впечатление, нередко оскорбление, обиду?
* * *
Молодая семья, в которой трое детей от 2-х до 8-ми лет. Когда я пришел, родители мыли детей в ванне, готовили их кормить, укладывать в постели. Однако впустили переписчика. Я записывал ответы и украдкой любовался красивой, слаженной жизнью в семье. Отец мыл детей, выпускал их по одному из ванны, тщательно, до визга, вытерев полотенцами, мать в это время готовила ужин, сажала детей за стол, кормила младшего с ложечки, затем они стали укладывать детей спать, при этом старшие дети помогали уложить младшего братика... И одновременно родители отвечали на вопросы переписи. А когда я стал уходить, взяли и просто так подарили шоколадный торт (это была та самая семья, которая подарила упомянутый ранее торт). После этой квартиры я чувствовал себя словно погревшимся у светлого семейного очага и готов был восклицать: «Есть в Питере и такие семьи!» (при этом состоящие из молодых петербуржцев).
Не иллюстрирует ли эта семья, как можно спасаться от хамства и окружающего бардака - создав хотя бы в своей семье островок доброжелательной жизни. Не думаю, чтобы им было легче, чем другим. Подарив мне торт, они как бы распространили свою атмосферу через меня, и одновременно сами остались в добрых чувствах, в отличие от парня, захлопнувшего дверь и оставшегося со своей злобностью.
* * *
Большая, рабочая семья; но почему-то днем все дома. Выпившие, накурено. Вообще, квартира была помечена звездочкой, предупреждали, что в нее надо идти «с милиционером». Однако мне открыли, нормально отвечали на вопросы, насколько позволяла степень опьянения. Но я обратил внимание на детей (которые тоже были дома). Мальчик, 12-ти лет, тоже был в подпитии, вел себя развязно. Девочка 5-ти лет, крутившаяся около стола, была в каком-то возбуждении, тараторила громким голосом... Неужели тоже напоена? Или даже возбуждена чем-то почище? А может быть и родилась в этой семье такой, не совсем нормальной? Невольно подумалось - ну ладно, Бог с ними, со старшими, но отдают ли они отчет себе, что в такой атмосфере выращивают себе смену, губят не только себя, но и своих детей. Бог с ней, с ответственностью перед собой и перед обществом, но перед своим родными детьми... Что, и тут чувства ответственности уже нет? Как обществу бороться с таким семейными очагами?
* * *
В однокомнатной квартире инвалид в коляске. Небритый, с запавшим ртом, нездоровым цветом лица, с тяжелым запахом изо рта. Лет ему немного, но выглядит стариком. Афганец. Получает повышенную пенсию. Но, видимо, вся она уходит на пропой, т. к. в квартире почти голые стены. Живет один. Говорит об этом с тяжелым чувством.
Только эпизодически к нему приходит знакомая женщина, иногда остается ночевать (место для нее постелено прямо на кухне). Потом видел его выкаченным (или выкатившимся) на площадку около входных дверей этажа, где он, так сказать, прогуливался, густо дымя на свежем воздухе дешевыми сигаретами. Заброшенность инвалида наводила тоску. Подумалось: отплатило ли общество, да и может ли отплатить таким принесенным в жертву? Достаточно ли дать повышенную пенсию и даже обеспечить жильем? Им нужны бы еще внимание, забота, особенно женская, включение в нормальную жизнь. Иначе вот такое прозябание в четырех стенах. Но как обеспечить внимание? Ответов у меня не было.
* * *
Отец живет с дочерью (мать умерла), отвечает за нее на вопросы, т. к. она «работает в вечернюю смену». Когда доходим до «источников средств к существованию» и рода занятий, отец с досадой, перестав таиться, восклицает: «Да какое у нее занятие?! Проститутка она - вот ее занятие! А доходы ее - они от трудовой деятельности? Я не знаю, не знаю, что делать! Вы не можете подсказать - что делать?» Я соображаю, какой ей поставить источник средств к существованию... На вопрос отца, разумеется, не могу ответить. Какую, в самом деле, могу я выдать рекомендацию?! Отец нервно закуривает, какое-то время вопросительно смотрит на меня, говорит: «Извините! Я вот тоже не пойму, что делать».
Я ухожу, а он остается со своим вопросом. Когда абстрактно слышишь о проституции, вроде она предстает даже нормой, «одной из наиболее древних профессий», как спокойно произносят дикторы по радио и телевидению. Но когда видишь конкретного этого отца проститутки, становится не по себе.
* * *
В числе переписываемых оказалась женщина, которой я в бытность депутатом помогал получить квартиру, ходил с ней на прием к председателю райисполкома. У нее был полуслепой муж, у сына тоже было что-то с глазами. Как было им не помочь?! Квартиру они получили, женщина, встречая меня на улице, всякий раз приветливо здоровалась. И вот я снова в ее квартире. Мужа нет, сына тоже. Не просто они в данный момент отсутствуют, их нет совсем. Живет с другим мужем, которого я вначале принял за азербайджанца, но который оказался даже турком. Какой-то у него здесь бизнес. По деликатности, у меня даже не повернулся язык спросить, куда же она сплавила своих инвалидов. У меня было такое теплое отношение к этой женщине! А теперь я восклицаю про себя, покидая трехкомнатную квартиру: «Умеют же некоторые мерзавки устраиваться!»
* * *
Чтобы не оставлять мрачное впечатление о картинках, советую снова обратиться к молодой семье, подарившей мне торт. Лучше ее держать перед глазами. Хочется верить, что они олицетворяют молодое поколение петербуржцев.