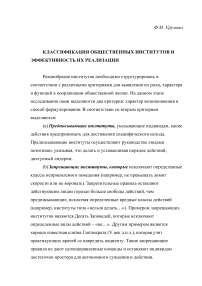Классификация общественных институтов и эффективность их реализации
Автор: Урумова Фатима Михайловна
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Наука и практика
Статья в выпуске: 1 (9), 2005 года.
Бесплатный доступ
Выделяются следующие общественные институты: (a) Предписывающие, указывающие индивидам, какие действия предпринимать для достижения специфического исхода. Предписывающие институты осуществляют руководство людьми позитивно, указывая, что делать и устанавливая порядок действий, диктуемый лидером. (b) Запрещающие, которые исключают определенные классы неприемлемого поведения (например, не превышать лимит скорости или не воровать). В результате обоих типов институтов координируется поведение людей: в случае предписания - видимой рукой и в соответствии с планом некоего лидера, в случае запретительных правил - добровольно и стихийно.
Предписывающие общественные институты, запрещающие общественные институты, поведение людей, внутренние институты, внешние институты, внутренняя селекция
Короткий адрес: https://sciup.org/14914817
IDR: 14914817
Текст научной статьи Классификация общественных институтов и эффективность их реализации
В результате обоих типов институтов координируется поведение людей: в случае предписания – видимой рукой и в соответствии с планом некоего лидера, в случае запретительных правил – добровольно и стихийно. Предписывающие правила являются наиболее значимой частью планового, принудительного порядка, в то время как законопослушное поведение, основанное на запретах, типично для стихийных порядков, таких как рыночная экономика, правила которой координируют людей при помощи механизма «невидимой руки».
Необходимо отметить важную разницу между предписывающими и запрещающими институтами. В случае предписывающего характера установления правил, субъект управления – лидер, создающий инструкции и указания – обычно нуждается в гораздо большем объеме специфических знаний, чем тот, кто только исключает определенные типы действий. Тот, кто предписывает поведение других, должен знать о средствах и возможностях действующих лиц, так же как и о возможных условиях и обстоятельствах предписанных действий. В случае запрещения и исключения определенных типов поведения, субъекту управления необходимо знать лишь, что определенные действия поняты индивидами, а специфические детали и оценка последствий предоставляются самим действующим лицам. Таким образом, как ни парадоксально, индивиды получают больше свободы, когда руководствуются запретами.
По характеру формирования институты делятся на внутренние и внешние1. Отличие между ними относится к генезису правил – к характеру их возникновения, обусловливается их происхождением. Внутренние институты – это правила, развивающиеся внутри группы как результат совместного опыта; внешние институты – правила, созданные извне и навязанные обществу политическим действием сверху. Многие правила, влияющие на наше поведение, являются результатом эволюции общества и всегда функционировали на основе законопослушного поведения.
В случае установления институтов сверху (государством, парламентом или бюрократией) возникает фундаментальная проблема: политические агенты, обязанные действовать в интересах граждан, склонны превышать полномочия и использовать правила и механизмы принуждения к собственной выгоде, поэтому политический процесс сам должен быть объектом определенных четких правил. Эффективность внешних институтов в значительной степени зависит от того, дополняют ли они внутренне развитые институты: например, поддерживает ли законодательство мораль общества, его культурные устои, обычаи и манеры. Остановимся более подробно на особенностях этих институтов.
Внутренние институты развиваются на основе опыта людей и включают решения, наилучшим образом выполнявшие свои функции в прошлом. Примерами являются обычаи, этические нормы, хорошие манеры, соглашения в торговле, общее право в англосаксонском обществе. Нарушения внутренних институтов обычно наказываются другими членами общества неформально, хотя могут существовать и формальные санкции принуждения к исполнению внутренних институтов. В анализе зарождения внутренних институтов институциональная экономика многое заимствует из моральной философии, антропологии, психологии и социологии. В каждой стране есть свое писаное право, отраженное в тех или иных юридических документах, и обычное право, поддерживаемое общественным мнением. В интересах общества добиваться того, чтобы разница между обычным и писаным правом была минимальной. Право будет естественным для общества, если закон станет продолжением санкций общественного мнения2.
Институты можно классифицировать по тому, централизованы ли санкции за неподчинение посредством формально организованного механизма в случае формальных институтов или действует стихийная децентрализованная обратная связь в случае неформальных институтов. Однако указанные различия между внутренними/внешними и неформальными/формальными не всегда совпадают. Важна степень принуждения, которую институты реализуют по отношению к действиям индивидов. Внутренние институты больше обращены на добровольную координацию: неподчинение правилам не остается без последствий, однако индивид решает, принимать или не принимать последствия неподчинения в особых обстоятельствах. Внешние же институты в основном полагаются на формальное принуждение и приказы, которые оставляют индивидам меньше свободы оценки данной специфической ситуации3.
Человеческие взаимодействия управляются рядом внутренних институтов, развивающихся по мере обогащения новым опытом. Внутренние правила сохраняются постольку, поскольку обнаружена их полезность. В процессе применения правил во взаимодействии друг с другом индивиды выявляют, что взаимодействие облегчается, если данные правила поведения распространяются среди всех членов сообщества. Хорошим примером развитых внутренних институтов служит язык. Более свежий пример представляет навязчивая массовая рассылка рекламы по Интернету – «спамы», которая осуждается виртуальным сообществом, а авторов вынуждают придерживаться определенных правил, хотя правила возникли внутренне и исполняются неформально, поскольку Интернет никем из центра не управляется.
Подобный процесс внутренней селекции работает не только в различных сферах общественной жизни, но и в экономических взаимодействиях. Рынок функционирует только тогда, когда агенты придерживаются определенных фундаментальных правил (так, уважение прав собственности – правило, позволяющее индивидам оставлять себе прибыль, полученную в обмене), и когда указанные правила хорошо известны и соблюдаются. Примером внутренних экономических институтов является обычай фиксирования объявленной цены на частных рынках, т.е. правило, гласящее, что состоявшаяся сделка отменяет все дальнейшие переговоры о цене. Если кто-то пытается возобновить переговоры после совершения сделки, санкция носит неформальный характер и состоит в отказе вообще от дальнейших сделок с этим лицом. Опыт превращается во внутренний институт только тогда, когда критическая масса членов сообщества его принимает. Институты появляются в маленькой группе, которая выигрывает от участия в определенной структуре (например, договоренность о том, что кредит выплачивается пунктуально). Как только выгода от правила становится очевидной, оно принимается большим числом людей. Успешные институты таким образом «колонизуют» больше и больше групп участников. С другой стороны, институты, утратившие полезность, теряют критическую массу, как только большинством сообщества принимаются другие способы достижения целей. Таким образом, внутренние институты являются объектом постепенного эволюционного процесса: они разнообразны, принимаются или отвергаются путем селекции, получая критическую массу. То, что в новых обстоятельствах проявляет себя неудачно, корректируется.
Роль внутренних институтов в структурировании социальных взаимодействий, в сокращении разрывов между эгоистичными индивидами и в формировании общественных связей была давно признана философами и обществоведами. Более 2500 лет назад китайский философ Конфуций (VI-V в д.н.э.) подчеркивал важность «ритуалов» в создании гармоничного, предсказуемого поведения людей, помогающего им вместе жить в ограниченных пространствах в условиях ограниченности ресурсов. Французский философ Ш. де Монтескье (XVIII век) ссылался на римский институт неписаных правил, известный как mos maiorum, подчеркивая важность mœurs (обычаев) в своем трактате De l’esprit des Lois: «Разумные существа могли бы иметь законы собственного изготовления, но имеют они такие, которые никогда не производили». Английские мыслители Джон Локк (XVII в.), Дэвид Юм и Адам Смит (XVIII в.) также подчеркивали, что институциональные рамки общества базируются на развитых внутренних институтах. Сознательно созданные, узаконенные правила и вся структура политически определенных институтов должны были покоиться на внутренних институтах. Эта же мысль очень убедительно проводилась Ф. фон Хайеком. Гармония внутренних институтов с институциональной системой необходимо приводит к «самовоспроизведению» порядка в обществе, когда правила исполняются не столько по принуждению, сколько в силу индивидуальных и коллективных интересов его членов 4.
Можно выделить четыре достаточно широкие, иногда пересекающиеся категории внутренних институтов, отличающиеся способом соблюдения и санкциями за их нарушения.
-
1. Конвенции – удобные правила, которых добровольно придерживаются индивиды в собственных интересах. Например, в коммуникации - это тяготение к определенным словарным дефинициям и грамматическим правилам, поскольку необходимо быть понятыми. Другими примерами конвенций могут служить обычаи обозначения цен в деньгах, обозначения ставок процента в процентах за год и пр. Индивиды придерживаются принятых в обществе конвенций, поскольку это вознаграждается улучшением коммуникации, а также в силу исключения из взаимодействия при игнорировании конвенций.
-
2. Усвоенные (интернализованные) правила – второй тип внутренних институтов, где правилам обычно подчиняются стихийно и без раздумий (по типу условного рефлекса). Индивиды, получая
-
3. Обычаи и хорошие манеры являются третьим типом внутренних институтов, нарушения которых автоматически не вызывают организованных санкций, но остальные члены общества склонны неформально наблюдать за соблюдением правил. Нарушители получают плохую репутацию или оказываются исключенными, из сообщества подвергнутыми остракизму7. Исключение из группы может быть очень мощным наказанием. Например, американский индеец, исключенный из племени, фактически приговаривался к верной смерти, поскольку едва ли мог выжить за пределами группы8. Другим примером эффективности обычаев является утрата повторного бизнеса неправильно ведущей себя стороной, что представляет собой серьезное наказание, поскольку торговля в своем большинстве не единичный акт, а процесс двусторонних отношений. Издержки поиска партнеров по контракту стоят больших ресурсов, ими лучше не рисковать. Только в «конечной игре» нет такого наказания, поэтому из-за сохранения наказания большинство актов обмена организовано как повторяющиеся игры. Обычаи могут также использоваться партнерами, предлагающими «залог» (например первоначальный взнос, который в случае невыполнения конфискуется). Залогом может быть репутация, страдающая в случае продажи некачественного продукта и пр.
-
4. Формализованные внутренние правила – это четвертый тип внутренних институтов. Эти правила возникли эмпирически, на базе позитивного опыта, но наблюдение за их соблюдением происходит
образование и опыт, обучаются правилам данного типа на протяжении своей жизни. Многие правила превращаются в личные предпочтения индивидов и последовательно ими используются. Такие усвоенные правила составляют, например, мораль. То, что нельзя врать и нужно аккуратно выплачивать долги – правила поведения, которым люди обучаются с детства и соблюдаются как условный рефлекс. Усвоенные правила являются и личными предпочтениями, и ограничивающими рамками, срабатывая как ограничители и защищая людей от инстинктивного оппортунизма, спасая от излишних координационных издержек и конфликтов. Нарушения интернализованных правил обычно наказывается тем, что принято называть муками совести (иными словами, люди несут психические издержки). Санкции могут вводиться ссылкой на символы. Например, этическое правило «не укради» в Моисеевой традиции стало заповедью, нарушение которой огорчит Бога5 . Как сказал А. Смит: «Религия, даже в своей самой жестокой форме, наделила правила морали санкциями задолго до эпохи искусственных рассуждений и философии»6. В восточно-азиатской традиции, в частности в конфуцианстве, большое внимание уделяется моральному образованию, помогающему молодежи перенимать правила межличностного общения. Члены общества воспитываются в рамках строго соблюдаемых моральных институтов, которые добровольно, или, во всяком случае, без формального принуждения, их ограничивают.
Одним преимуществом усвоенных принятых правил, стимулирующих сознательное подчинение и высокую степень приверженности правилам, является то, что члены общества экономят на координационных издержках. В сообществах, где люди честны, поскольку приняли честность за правило, агенты несут меньшие издержки на принятие решений и меньше рискуют «случайностями», чем их конкуренты в сообществах, где привычен обман, и агенты все время гадают, ускользнут ли они на этот раз со своим обманом, и каким возможным наказанием рискуют при этом. Принятые усвоенные (интернализованные) правила, устанавливающие доверие, значительно сокращают издержки по сравнению с ситуацией, где доверие зависит от заключения явных, взаимных контрактов, выполнение которых контролировать необходимо.
внутри группы формально: сообщества, группы людей создают внутренние правила, которые затем организованным способом реализуются посредством третьей стороны. Третьей стороной могут быть специалисты, проясняющие правила и объявляющие возможные санкции, арбитры, принимающие соответствующие решения по интерпретации законов и санкций. Примером может служить практика саморегулирования в профессиональных ассоциациях. Торговля и финансы в большинстве сообществ основаны на внутренних институтах, созданных продавцами и банкирами для ведения бизнеса. Так, восточные базары и европейские рынки развили сложную систему торговых правил, которые интерпретируются и формально исполняются выбранными лидерами или общественными арбитрами.
Другим примером данного типа внутренних правил служит международная торговля на основе составленных торгующими законов ( lex mercatoria ), которые приводятся в исполнение профессиональными ассоциациями и арбитрами, но не наднациональными органами. Такого рода внутренние институты намного эффективнее в содействии бизнесу, чем внешне насажденные законы, т.к. самоконтроль и формальное принуждение осуществляется людьми, обладающими большим знанием специфики времени, места и профессии (тогда как внешние арбитры всегда обладают ограниченным знанием).
Первые три категории внутренних институтов являются неформальными, поскольку санкции за нарушение социально ожидаемого поведения применяются не в организованном виде, а осуществляются стихийно. Четвертая категория внутренних институтов формальна в том, что санкции «произнесены» и нарушения наказываются посредством организованных механизмов. Отличие между формальным и неформальным здесь относится к способу, которым санкции применяются: организованный (формальный) и неорганизованный (неформальный).
Первые две категории неформальных институтов имеют тенденцию к высокой степени самодисциплины: исполняются индивидами из собственного интереса или по совести. Побочным продуктом поведения индивидов является подсознательный учет интересов других. Там, где больше практикуются эти механизмы институционального контроля, два последних типа внутренних институтов, равно как формальный легальный и регулирующий контроль, менее необходимы.
Стихийная приверженность внутренним институтам имеет положительный эффект на индивидуальную свободу, поскольку, умея себя контролировать и воздерживаться от оппортунистического поведения, люди получают большую свободу от формальных, принудительных санкций. В обществе, где индивиды могут следовать собственным целям, самодисциплина и соблюдение кодексов поведения значительно облегчают эффективные взаимодействия. Внутренние институты могут быть эффективными и достаточными для наведения порядка даже в очень сложных ситуациях9.
Необходимо отметить, что внутренние институты, критически важные для взаимодействия людей, не являются результатом, созданным человеком и приведенным в исполнение внешней властью, а развиваются стихийно. Они формируют важную часть нашей цивилизации. Как заметил Ф. фон Хайек:
Мы себе незаслуженно льстим, представляя человеческую цивилизацию всецело как продукт сознательного мышления или продукт созданный человеком, или полагая, что в нашей власти умышленно пересоздать или поддерживать то, что мы уже построили без знания того, что делали. Хотя наша цивилизация является результатом накопления индивидуального знания, однако, это произошло не с помощью явной или сознательной комбинации всего совокупного знания в отдельном индивидуальном мозге, но путем воплощения в символы, используемые нами без понимания, в привычках и институтах, инструментах и концепциях, так что человек в обществе может постоянно выигрывать от объема знаний, которыми ни он, никто другой в полной мере не обладает. Многое из великих достижений человека не является результатом сознательно направленной мысли, и еще меньше продукт умышленно координируемых усилий многих индивидов, но процесс, в котором индивид играет роль, которую сам никогда полностью не понимает. Они значительнее, чем любой индивид, именно потому, что они получаются путем комбинации знания более широкого, чем один мозг в состоянии вместить10.
Внутренние институты содержат огромный объем мудрости, очищенной и проверенной опытом предыдущих поколений. Поскольку многие из них неформальны и развиваются в обществе, то обладают преимуществом определенной гибкости: допускают экспериментирование и интерпретацию тогда, когда возникают новые обстоятельства. Внутренние институты обычно обладают способностью к дальнейшей эволюции, т.к. эволюция происходит с участием множества людей, изменения носят постепенный и медленный характер, поэтому являются предсказуемыми. Внутренние институты, развившиеся из опыта людей, обладают врожденным преимуществом приспособления к изменениям, происходящим, когда достаточное число членов общества нарушает старое правило и начинает себя вести по-другому. В силу этого внутренние институты иногда называют «мягкими институтами», поскольку они оставляют некоторый простор для вариации и связанные с ними санкции обладают гибкостью, что укрепляет их эволюционную способность.
Внутренние институты обладают еще одним относительным преимуществом – гибкостью применения в различных обстоятельствах. То, что иногда не хватает ясности и прозрачности (очевидности), часто компенсируется способностью точной интерпретации и санкциями в отдельных ситуациях. Когда не срабатывает самореализация, санкции могут варьироваться от дружеских упреков до выговора и позора гораздо раньше жестких санкций, таких как изгнание из общества или формальное принуждение третьей стороной. Санкции, сопровождающие внутренние институты, могут смягчаться симпатией, однако для успешного функционирования в обществе необходимо придерживаться определенных стандартов. Внутренние институты могут рассматриваться как «культурный цемент» 11, связывающий группу вместе. По мере эволюции они становятся неотъемлемой частью морального рассуждения, согласно которому институты и разделяемые общественные ценности соответствуют обстоятельствам и опыту.
Внешние институты отличаются от внутренних тем, что создаются и насаждаются политической властью, управляющей обществом, и приводятся в исполнение посредством формального принуждения. Внешние институты всегда воплощают некую форму иерархии сверху вниз, в то время как внутренние институты реализуются горизонтально. Санкции за нарушение внешних институтов всегда формальны и подкрепляются использованием силы, выполняются организованным путем. Во многих обществах правительства наделены правовой монополией на использование силы (с помощью полиции, судов и системы тюрем). В свою очередь, государство должно контролировать профессионалов легитимного насилия ненасильственными средствами, выраженными через формальные правила и финансовый контроль. Поэтому определяющей чертой внешних правил является санкция в руках политического агента, находящегося вне общности.
Важно, что внешние институты работают абстрактно, т.е. законы применяются к неопределенному числу индивидов и случаев. Внешние институты оказывают нормативный эффект на поведение членов общества, в особенности если они в гармонии с преобладающими внутренними институтами. Скажем, специфические (особые) директивы нацелены на частные цели и исходы, т.е. не применяются универсально (примером является передача определенного процента дохода государству в форме подоходного налога). Процедурные правила необходимы правительству для обеспечения внутренней координации различных государственных агентов. Они содержатся в публичном праве и формируют важную часть большинства законов и конституций. Многие из этих процедурных правил выражаются в форме законов, но в отличие от частного права направлены не на граждан, а на правительственных агентов.
Необходимо также заметить, что отождествление внешних институтов с формальными неправомерно, поскольку тем самым не учитывается существование внутренних институтов, которые носят формальный характер, когда правила и санкции применяются организованным путем третьей стороной.
Можно выделить следующие типы внешних институтов в соответствии с их содержанием и целями:
-
1. Внешние правила поведения, призванные ограничивать
-
2. Второй тип внешних правил - это целевые директивы , направляющие общественных и частных агентов на реализацию предопределенных исходов. Такие институты могут содержаться в писаных законах, но во многих странах они находятся, главным образом, в уставных нормах, основанных на более общем законодательстве. Являясь предписывающими, целевые директивы налагают высокие требования к необходимому знанию.
-
3. Внешние институты могут быть процедурными или мета правилами для различных государственных агентов, регламентируя их поведение (административное право). Многие из данных институтов нацелены на поддержание внутренней сочетаемости системы правил. Процедурные правила исключительно важны для эффективности внешних правил. Например, правила, защищающие граждан от произвола органов правопорядка, сформулированные в общих терминах, содержат точные инструкции по процедурам, и сокращают издержки сбора информации и принятия решений.
действия граждан способами похожими на внутренние правила; они состоят из универсальных, запретительных правил и содержатся в гражданском, коммерческом и уголовном кодексах большинства стран12. Частные и коммерческие кодексы также содержат многочисленные формальные, предписывающие условия, которые должны облегчать взаимодействия людей и трансакции.
Внутренние институты упорядочивают в основном поведение членов общества. Несмотря на высокую эффективность внутренних правил, практически все сложные, крупные сообщества должны принимать и внешние правила. Причина в том, что внутренние институты в сложных, массовых обществах не могут избавиться от всех актов оппортунизма, поскольку часто взаимодействие с незнакомыми людьми, которые никогда больше не встретятся, так что многие неформальные санкции (такие как «зуб-за-зуб», остракизм или потеря репутации) неэффективны в предотвращении оппортунистического поведения. В таких сообществах высока вероятность возникновения «дилеммы заключенного», так что формальные правила полезны для поддержки кооперативного поведения.
Внешние институты появились в истории человечества сравнительно поздно. По-видимому, неслучайно, что изобретение земледелия и скотоводства, сделавшее необходимостью уважать права частной собственности на землю, животных и доходы от них, совпало с возникновением законодателей, судей и государства. Хотя внешние институты зависят от политических решений и правительства, это не означает, что государство владеет внешними институтами; часто государственные агентства только приводят в систему уже существующие законы13. Внешние институты охраняет власть, хотя служат они всем членам общества.
Внешние институты могут появляться формально посредством политических процессов, таких как создание конституции или законотворчество; они могут также появляться путем административного действия (когда власти издают определенные циркуляры на базе более общего законодательства). В некоторых странах внешние институты в большой степени творятся судьями, предлагающими новые интерпретации существующих законов, как, например, в англосаксонских странах с традицией общего права, где часто встречаются «законы, созданные судьями» – так называемое прецедентное право. Внешние институты имеют преимущества государственной власти в установлении и исполнении правил по сравнению с опорой на внутренние правила. Есть ряд преимуществ коллективного политического установления и исполнения правил. Остановимся на них подробнее.
Внешние институты легче узнаваемы и поэтому позволяют сокращать информационные издержки. Существующие обычаи и соглашения могут быть двусмысленными, нечетко выраженными и недостаточно известными. Кодифицированные14 официально внутренние институты становятся более эффективными, и санкции устанавливаются явно, что укрепляет нормативную функцию правил15. Укрепление институтов их формализацией в комбинации с наказаниями за нарушения было эффективным процессом в совершенствовании условий жизни человечества. Такое законотворчество затрудняло невнимательные, небрежные, нечестные и прочие действия людей. Еще в конце XVIII века американский государственный деятель Дж. Мэдисон говорил: «Если бы люди были ангелами, то не было бы необходимости в правительстве».
Стихийная трактовка внутренних правил членами общества может быть бессистемной (случайной) и необъективной. Применение внутренних правил может быть, например, более снисходительным к богатым, популярным или красивым. Чтобы ограничить произвол и предубеждение, общественные лидеры с репутацией справедливых могут быть избраны судьями. Справедливость здесь означает, что все равны перед законом и правила объективны в защите людей от принуждения. Судьи разрабатывают и обнародуют правила, по которым разбираются конфликты, включая правила ведения процедур, что известно как «должный процесс». Производство внешних правил отвечает требованиям не только реализации справедливости, но и демонстрации исправления правосудия в целях нормативного влияния на поведение.
Реализация правил не обязательно требует вмешательства государства, но финансирование расходов на независимых судей часто делает государственное финансирование предпочтительнее, поскольку судьи, появляющиеся неформально и не имеющие финансовой независимости, подвержены коррупции. С другой стороны материальная независимость судей, финансируемых за счет налогов, оказалась слабой защитой от коррупции, так что имеют большое преимущество внешние институты, облегчающие управление юстицией16. Одним из внешних институциональных инструментов достижения этого является существование нескольких уровней судов. Судьи низших инстанций находятся под контролем судей более высоких уровней, поскольку не хотят видеть опровергнутыми свои решения посредством апелляциями к высшим инстанциям.
При приведении в исполнение приговоров неформальные санкции, такие как стыд и стихийное общественное воздействие, могут оказаться неудовлетворительными (чрезмерно эмоциональные действия как суд толпы, закон Линча или изгнание из общины). Для предотвращения бандитизма необходимо назначение «профессионалов насилия» (полиция, тюремщики, военные и т.д.), которым разрешено осуществление легитимных наказаний, воспринимаемых обществом как справедливое возмездие за преступление. Главным аргументом здесь служит то, что государство должно иметь монополию на легитимное использование силы (кроме редких ситуаций оправданной самообороны) и что эта монополия должна быть под контролем ненасильственных, институциональных средств политической власти. Конечно, всегда есть определенная опасность, что «профессионалы насилия» могут использовать навыки и инструменты в собственных целях (проблема агента-принципала), потому агентов исполнения закона необходимо удерживать от волюнтаристских действий. Большинство сообществ пришло к тому, что контроль лучше всего осуществляется путем превращения профессионалов насилия в правительственных агентов, при этом необходимо искать ненасильственные методы мониторинга за ними. Приверженность государства защите индивидов не обязательно означает, что все аспекты защиты граждан всегда были под контролем государства. Так, в средневековой Исландии (930-1260) парламент устанавливал большинство правил внешним образом, и внешняя юрисдикция интерпретировала законы и решала специфические судебные случаи. Оба финансировались обществом, однако, исполнение законов и судебных решений оставалось в частных руках: люди, получавшие приговор в свою пользу, могли легально нанимать частную полицию для приведения в исполнение приговора 17.
Важным аспектом институтов является то, что они позволяют индивидам давать надежные обязательства. В определенных обстоятельствах, чтобы сделать контрактные обязательства надежными, нужна третья сторона, и государственные агентства могут применять орудия формального принуждения, когда становятся такой третьей стороной.
Четвертое преимущество коллективных действий перед частными вытекает из «дилеммы заключенного», когда выгодная обществу кооперация, чтобы быть достаточно надежной, нуждается в реализации 18 посредством поддерживаемых государством институтов.
Соперничающие кланы страдают, будучи «заключенными» в постоянный конфликт. Всем было бы лучше сотрудничать под управлением внешней власти – государства. Выйдя из конфликта, по выражению Дж. Бьюкенена, стороны могли бы получить дополнительно «ренту разоружения»19. Приверженность сотрудничеству делает более надежной сделку, разрешающую «дилемму заключенного», более того – мир лучше сохраняется, если сделка курируется третьей стороной в лице государства20.
Проблема «безбилетного проезда» тесно связана с необходимостью государственных структур для соблюдения правил21. «Безбилетный проезд» относится к ситуации, где издержки информации и исключения таковы, что делают невозможным исключить других из получения выгоды от общественного блага или услуги. Некоторые активы имеют неделимые издержки или выгоды, когда другие пользователи не могут быть легко исключены, т.е. мы имеем дело с общественным благом. Так, слишком дорого исключать посторонних из доступа к частному радиовещанию. Однако технология со временем меняется и в будущем позволит осуществлять такого рода исключение, так что проблема «безбилетника» исчезнет, и частное производство станет достижимым. В ситуациях, когда частниками производится недостаточно общественных благ, доводом является национализация частного производства и обеспечение его финансирования за счет принудительного налогообложения. В данном случае национализация – как раздел издержек посредством внешней организации государством и контроля через внешние институты – предотвращает «безбилетный проезд» и ведет к лучшему обеспечению населения общественными благами.
Еще одной причиной вовлечения государства в создание и насаждение институтов, является «трагедия общего»22. Трагедия общего – ситуация, в которой члены общества, действуя изолированно, оказываются перед особой «дилеммой заключенного»: общие ресурсы используются большим числом людей, эксплуатирующих их нещадно в своих частных интересах. Если так действуют все, то возникает трагическая ситуация, когда ресурсы разрушаются. Протективное, защищающее государство озабочено созданием, насаждением, наблюдением и исполнением внешних институтов; оно обычно поддерживает внутренние институты гражданского общества и делает установление порядка пользования ресурсами главной заботой публичной политики. Члены группы эксплуатируют общий актив, и пока по отношению к спросу ресурсов много, проблемы нет. Но, как только возрастает число пользователей, потребление ресурсов должно рационироваться. Внутренние, неформальные ограничения имеют тенденцию эффективного распределения ресурсов внутри маленьких общин, где люди знают друг друга, и где стихийное исполнение может работать неформально на личном уровне. Было выявлено, что неформальные ограничения могут удовлетворительно работать в группах от 50 до 70 человек.23 Если группа расширяется, информация об индивидуальном поведении и неформальные ограничения на индивидов (такие как, потеря репутации) недостаточны для контроля за излишней эксплуатацией общего. Как следствие, происходит перерасход и истощение общих ресурсов. В такой ситуации внешние правила имеют преимущество: государство может установить лимиты использования ресурсов. Другим решением может быть разделение общего на частную собственность.
Внешние институты и коллективные действия могут быть предпочтительнее в определенных обстоятельствах в связи с тем, что внутренние институты часто функционируют путем дискриминации и исключительности, выделяя аутсайдеров, поскольку санкция исключения осуществима только таким образом. Ассоциации торговцев или финансистов строятся на базе сложных систем внутренних правил, ограничивая получение выгоды только членами ассоциации. Примерами могут быть знаменитые ярмарки в Шампани; арабские купцы, ведущие караванную торговлю; современные китайские семейные кланы на Дальнем Востоке. Многие люди участвуют в ассоциациях, основанных на внутренних институтах, позволяющих осуществлять с низкими издержками огромные объемы рискованного бизнеса. Однако эти ассоциации могут функционировать только, если число участников ограничено, и нарушители исключаются. Исключаемость и маленький размер, таким образом, являются существенными для функционирования внутренних институтов в рамках таких сетей. При определенных обстоятельствах это может оказывать негативное влияние, прокладывая дорогу монополиям и уничтожая выгодную конкуренцию со стороны аутсайдеров. Опыт показывает, что построенные на неформальных внутренних институтах личных связей торговля и финансы могут экономически развиваться до определенного уровня, за пределами которого внешние институты и протективное государство демонстрируют экономию масштаба и гарантируют всем справедливый, открытый рыночный доступ24. Инфраструктуры современных, открытых, расширенных рынков требуют иных, чем частные рынки, санкций, поэтому определенные созданные, формальные законы и формальная юридическая система оказываются более эффективными в создании открытого порядка и получении более широкого, более динамичного разделения труда.
Эти обстоятельства дают рост насаждению сверху и исполнению институтов государством, тому, что Джеймс Бьюкенен называл «защитной функцией государства»25 для содействия эффективному и справедливому поведению. Конечно, это не единственная функция современного государства. Другая функция государства относится к производству общественных благ и услуг государственными агентствами (обеспечение юридической системы, национальной безопасности и пр.), а также отличному от рыночного перераспределению прав собственности, введению и управлению налогами и другими сборами для финансирования агентских и других издержек государства.
Большинство институтов, обычно создаваемых государством, могут в принципе развиваться и исполняться через внутренние негосударственные институты26. Так, например, обман, применение допинга или насилие в спорте могут эффективно контролироваться формальными спортивными органами, расследующими инциденты и наказывающими виновных. Однако внешние институты часто более эффективны. Действия государства по защите правил поведения не являются безальтернативными, они лишь показывают, что в определенных обстоятельствах коллективные действия имеют тенденцию к сравнительным преимуществам и позволяют обществам получать выгоду экономии на масштабе по сравнению с сугубо частными действиями.
Внешние институты обычно служат в качестве существенной, принудительной поддержки внутренних институтов, хотя могут и заменять их. Однако если внешние институты заменят все внутренние правила общества, возникают сложности. Так происходило с различными тоталитарными режимами в ХХ веке, которые навязывали все больше и больше внешних правил за счет внутренней работы гражданского общества. Издержки наблюдения и принуждения резко возрастали, стихийная мотивация людей убывала, и перегружалась государственная машина, внешняя координация вела к административным неудачам. Данные проблемы не новы, и это подтверждается тем, что еще Конфуций и конфуцианцы защищали стихийную координацию и были чрезвычайно скептичны по отношению к «сделанным» порядкам, опиравшимся на внешние институты и команды сверху: «Тот, кто … хочет наводить порядок в стране и не полагается на обычаи, напоминает человека, желающего пахать без плуга», – говорилось у Конфуция в Книге церемоний 27 . Как известно, китайские власти, пытающиеся заменить традиционное гражданское общество «научно построенными» новыми институтами, после 1949 г. запретили Конфуция, но, в конечном счете, потерпели неудачу и были вынуждены вновь опираться на внутренние институты.
В европейской традиции формирования внешних институтов есть два направления: англосаксонское, больше опирающееся на общее право (т.е. конкретные судебные решения, развитие и форматирование внешних правил); и римское – правовая традиция, отраженная в созданных законодательных системах (таких, как французский Кодекс Наполеона, или Германский гражданский и коммерческий кодексы XIX и ХХ вв.). На практике ни одна правовая система не существует в чистом виде. Применение общего права постепенно дополнялось и заменялось формальным, парламентским законодательством, и даже тщательно подготовленные формальные законы для эффективной работы нуждаются в дальнейшей судебной доработке на основе правовой практики.
Преобладающее в англосаксонской традиции прецедентное право как результат судейской практики имеет тенденцию к открытости и адаптации, т.е. открыто более гибкой интерпретации, обучению и обратной связи между юристами и публикой, охватывая таким образом мудрость большего числа участников. Однако с другой стороны, ему не хватает последовательности, ясности, прозрачности созданных кодексов римской традиции. Созданные в ходе судебной практики законы имеют тенденцию подрывать разделение исполнительной, законодательной и юридической властей, и таким образом контроль власти в обществе. К тому же издержки применения общей правовой системы высоки, поскольку ежедневная практика требует услуг юристов-профессионалов и частых заключений судов, в то время как потенциальные конфликты часто просто не возникают, если в наличии есть прозрачные и всеобъемлющие гражданские и коммерческие кодексы. Однако на практике и формальные кодексы имеют свои недостатки, поскольку давно утратили простоту и логическую последовательность. Опыт показывает, что полагание парламента на формальное законодательство часто привносит жесткость во времена перемен. Политики отвечают на растущую сложность общественных взаимодействий изданием сложных кодексов и регулирующих актов, зачастую в интересах особых групп. Это подрывает координационную функцию внешних институтов и дает новое подтверждение тому, что сложный мир нуждается в простых правилах.28
Необходимо сделать заключение, что установление и принуждение к исполнению внешних правил является сложной задачей. Исключительное полагание только на кодифицированное право или только на общее право не приведет к удовлетворительному функционированию внешних правил, поэтому гибкая и тщательно выверенная комбинация и того, и другого – это лучший подход к решению данной проблемы.
Список литературы Классификация общественных институтов и эффективность их реализации
- Witt, U. (1994), Evolutionary Economics, The Elgar Companion to Austrian Economics, Aldershot, UK, and Brookfield, US: Edward Elgar, 541-
- Witt, U. (1991), Reflections on the Present State of Evolutionary Economic Theory, in G.M. Hodgson and E. Screpani (eds), Rethinking Economics: Markets, Technology, and Economic Evolution, Aldershot, UK, and Brookfield, US: Edward Elgar, 83-102
- Metcalfe, S. (1989), Evolution and Economic Change, Technology and Economic Progress, London: Macmillan; Nelson, 1995
- Hayek, F.A. (1973), Law, Legislation and Liberty, vol. 1: Rules and Order, Chicago and London: University of Chicago Press;
- Hayek, F.A. (1976), Law, Legislation and Liberty, vol. 2: The Mirage of Social Justice, Chicago and London: University of Chicago Press
- Hayek, F.A. (1979), Law, Legislation and Liberty, vol. 3: The Political Order of a Free People, Chicago and London: University of Chicago Press. Epilogue, pp.153-208
- Hayek, F.A. (1988), The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, London: Routledge, and Chicago: University of Chicago Press, pp. 11-28
- Hazlitt, H. ([1964] 1988), The Foundations of Morality, Lanham, MD: University Press of America, pp. 342-53.
- Benson, B.L. (1995), The Evolution of Values and Institutions in a Free Society: Underpinnings of a Market Economy in G. Radnitzky and H. Bullion (eds), Values and Social Order, vol. 1: Values and Society, Aldershot, UK, and Brookfield, US: Avebury, pp. 94-6
- Elster, J. (1989), The Cement of Society: A Study of Social Order, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Radnitzky, G. (ed.) (1997), Values and the Social Order, Vol.3: Voluntary versus Coercive Orders, Aldershot, UK, and Brookfield, US: Avebury, pp. 17-76.
- Friedman, D. (1979), Private Creation and Enforcement of Law: a Historical Case, Journal of Legal Studies, vol. 8:2, 399-415;
- Eggertsson, T. (1990), Economic Behavior and Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, p. 311
- North, D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge and New York: Cambridge University Press, p. 13.
- Buchanan, J.M. (1975), The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago: University of Chicago Press.
- Axelrod, R. (1984), The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books.
- Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, New York: Schocken Books.
- Hardin, G. (1968), The Tragedy of Commons, Science, no. 162, 1243-8
- Hardin, G. (1993), The Tragedy of Commons in D. Henderson (ed), The Fortune Encyclopedia of Economics, New York: Time Warner Books, pp. 88-91;
- Ostrom, E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions of Collective Action, Cambridge and New York: Cambridge University Press
- Epstein, R. (1995), Simple Rules for a Complex World, Cambridge, MA: Harvard University Press
- Cooter, R.D. (1996), Decentralised Law for a Complex Economy: the Structural Approach to Adjudicating the New Law Merchant, University of Pennsylvania Law Review, no. 144, 1643-96
- Christiansen, G.B. (1989-90), Law as a Discovery Procedure, Cato Journal, vol. 9, 497-530.