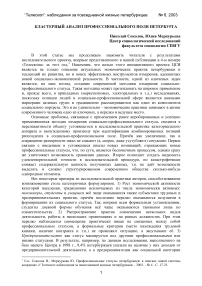Кластерный анализ профессионального поля Петербурга
Автор: Соколов Николай, Меркурьева Юлия
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 6, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181531
IDR: 142181531
Текст статьи Кластерный анализ профессионального поля Петербурга
В этой статье мы продолжаем знакомить читателя с результатами исследовательского проекта, впервые представленного в нашей публикации в 4-м номере «Телескопа» за этот год. 1 Напомним, что целью этого инициативного проекта ЦСИ является не только описание актуальных экономических практик петербуржцев и тенденций их развития, но и поиск эффективных инструментов измерения, адекватных новой социально-экономической реальности. В частности, одной из ключевых задач является, на наш взгляд, создание современной методики измерения социальнопрофессионального статуса. Такая методика может претендовать на широкое применение и, прежде всего, в прикладных (маркетинговых, электоральных и т.д.) исследованиях, поскольку позиции людей в социально-профессиональной сфере являются важными маркерами целевых групп и традиционно рассматриваются как один из компонентов социального портрета. Это и не удивительно - экономические практики занимают в жизни современного человека одно из ключевых, а нередко и ведущее место.
Основные проблемы, связанные с применением ранее апробированных и успешно применявшихся методик измерения социально-профессионального статуса, сводятся к нерелевантности объекту устоявшегося в исследовательской практике категориального аппарата и вынужденному произволу при идентификации комбинированных позиций респондента в социально-профессиональном поле. Причём как увеличение, так и сокращение размерности шкал не спасают (а, скорее, даже усугубляют) ситуацию. Первое связано с введением в устоявшиеся шкалы новых номинаций, отражающих новые профессиональные статусы, что, по сути, является бесконечным процессом, однако сразу же уничтожает возможность сравнения данных. Второе позволяет создать видимость удовлетворительной точности в исследовательской процедуре, но катастрофически снижает содержательную ценность полученных данных, т.к. не даёт возможности выделять в сложно структурированном современном обществе сколько-нибудь однородные сегменты.
Вот некоторые примеры из исследовательской практики авторов, способствовавшие возникновению столь категоричных формулировок. 1) Рост экономической активности категорий населения, традиционно исключаемых из числа экономически активных: пенсионеры , студенты и учащиеся всё чаще оказываются также субъектами трудовых и предпринимательских практик, причём последние нередко оказываются ведущими в формировании их социального статуса. Так, вопреки всем формальным установлениям, студенты дневной формы обучения всё чаще оказываются таковыми лишь по совместительству. 2) Распространение практик совмещения нескольких видов деятельности, работы в нескольких организациях и на разных должностях. При этом нередко наблюдается совмещение практически никак не связанных между собой профессиональных статусов, а формальные критерии (место нахождения трудовой книжки, наличие контракта и т.п.) не проясняют ситуацию, а запутывают её. 3) Предпринимательство как статус маскируется под другими профессиональными или иными статусами. В результате, например, по данным исследования, выполненного на базе нашего Центра в 1998 г., 9,4% петербуржцев указали на наличие у них доходов от предпринимательской деятельности, а к предпринимателям как социальной категории
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 отнесли себя только 3,8%. 2 3) Служащие без высшего образования (секретари, делопроизводители и пр.) всё чаще и категоричнее отказываются признавать себя служащими, т.к. их трудовые практики и впрямь никакого отношения к службе не имеют. 4) Появление принципиально новых профессиональных категорий, среди которых безусловно лидируют менеджеры . Попытка отождествить эту смысловую категорию с понятными руководителями , управляющими на поверку оказывается совершенно неадекватной, т.к. менеджерами в сложившейся практике именуют всех, кого попало. Авторам исследования известен факт именования (кстати, официального, т.е. зафиксированного во всех необходимых документах одной петербургской фирмы) кладовщика «менеджером по складу», а единственного находящегося в его подчинении грузчика - «менеджером по погрузке». 5) Наконец, одно из первых наших методических наблюдений: проявление в социально-профессиональной структуре города людей, занятых в сфере силового бизнеса (в обыденном языке - бандитов ).
Именно накопившиеся за годы исследовательской практики проблемы, связанные с идентификацией социально-профессионального статуса респондента натолкнули коллектив ЦСИ на идею применения в данной области феноменологической дескриптивной стратегии. В предыдущей публикации мы уже рассказали о том, как при помощи методики открытых вопросов был получен список, включающий 104 профессиональных позиции. Однако как произвести их группировку? Ведь мы, следуя избранной стратегии, стремились минимизировать влияние таких «известных» и «понятных» заранее факторов как отраслевая принадлежность, должностной статус, форма собственности и т.п. Другими словами, мы поставили задачу исключить воздействие нашего обыденного знания и произвести сегментацию профессионального поля Петербурга исходя из его собственных параметров.
Идея использовать кластерный анализ в качестве метода обработки данных возникла и была принята потому, что он позволяет непосредственно решить поставленную задачу -получить статистически обоснованные группы наблюдений (респондентов), отличающиеся максимальной однородностью внутри выделенных кластеров и максимальными различиями между ними. Разумеется, мы не рассчитывали получить эффективную шкалу измерения социально-профессионального статуса непосредственно в результате классификации наблюдений, входящих в один единственный массив данных. Тем не менее, результаты применения кластерного анализа представляются нам достаточно интересными для того, чтобы посвятить им эту статью.
Для осуществления задуманного аналитического эксперимента, мы использовали массив данных, полученный в результате опроса взрослого (16 лет и старше) населения Санкт-Петербурга и ближайших пригородов, выполненного в апреле-июне 2001 г. в рамках проекта «ОМНИБУС-2001». Сбор данных осуществлялся с помощью методики очного стандартизированного интервью. Размер выборки: n=1023. Выборка квотная, контролируемые параметры - пол, возраст, образование. В процессе обработки применялась процедура перевзвешивания массива данных в соответствии с половозрастной и образовательной структурой Генеральной совокупности. Напомним, что доля экономически активного населения в выборке составила 69,4%, а профессиональный статус был идентифицирован у 69,3% опрошенных горожан. 3
Аналитическая процедура была выстроена в два этапа. На первом методика кластерного анализа была последовательно применена к четырём блокам индикаторов, измерение которых производилось в ходе опроса. В качестве показателей, по которым мы рассчитывали получить значимые различия между формирующимися в ходе процедуры кластерами, были выбраны характеристики формы занятости и доходов респондента, параметры его культурного капитала и составляющие социального статуса. Общее число
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 использованных индикаторов (более 20) вынудило отказаться от идеи получить единую классификацию. (Подобная процедура оказалась бы слишком громоздкой, а результаты было бы трудно интерпретировать) Поэтому выбор был сделан в пользу четырёх самостоятельных классификаций, каждая из которых интерпретировалась отдельно.
Перед проведением классификации все переменные были приведены в соответствие требованиям к процедуре кластерного анализа. Из частично упорядоченных шкал были удалены нарушающие порядок номинации (варианты ответа «трудно сказать» и т.п.), номинальные шкалы были преобразованы в наборы дихотомических. Также уже в процессе проведения кластерного анализа в некоторых переменных были исключены экстремальные интервалы значений, которые создавали помехи для классификации. Так, например, в шкале ответов на вопрос «Сколько сегодня может заработать в среднем за один час человек вашей профессии и квалификации?» были исключены из рассмотрения все варианты, попадающие в интервал более 1000 рублей в час (15 респондентов), а в шкале ответов на вопрос: «Каков лично для вас минимальный порог оплаты одного часа рабочего времени, ниже которого вы откажетесь от работы?» - варианты, попадающие в интервал более 300 рублей в час (14 респондентов). Эти ответы слишком сильно отклонялись от средних по выборке значений, что вело к появлению «пустых» кластеров в ущерб сегментации основного массива наблюдений. 4
Обработка данных проводилась в SPSS 10.0. Среди предоставляемых данной программой возможностей классификации был избран метод К-средних (K-means), как позволяющий проводить кластерный анализ с использованием шкал различной чувствительности (размерности) и получить результаты классификации по заданным дизайном исследования наборам индикаторов. Пожалуй, единственным существенным недостатком данного метода является произвол исследователя в деле определения числа кластеров, которое затруднительно обосновать до проведения самой процедуры. В данном случае мы экспериментировали с 8, 12 и 20 кластерами по каждой группе индикаторов, выбирая в процессе интерпретации наиболее информативные варианты группировки.
На втором этапе был проведён анализ распределения ранее выделенных профессиональных категорий по кластерам. Для этого в процессе классификации сохранялись значения, описывающие принадлежность каждого наблюдения определённому кластеру. Далее были построены матрицы сопряжённости для переменных «профессиональный статус» (соответственно первичной кодировке) и «принадлежность к кластеру» (для каждого из пяти вариантов классификации). При этом в ходе интерпретации профессиональный статус рассматривался как независимая переменная, что позволило наблюдать преимущественную принадлежность определённых профессиональных категорий к тем или иным сегментам, независимо от доли первых в выборке.
Итак, рассмотрим результаты классификации. Первая группа использованных нами индикаторов объединяет основные характеристики формы занятости горожан. Здесь использован набор дихотомических переменных, отражающих наличие постоянной, временной, основной, постоянной и временной дополнительной работы, ранжированный ряд, характеризующий уровень загрузки по месту основной работы, 5 а также абсолютная продолжительность последней рабочей недели (в часах). Размер подвыборки, позволившей провести процедуру классификации по всем перечисленным параметрам -643 респондента. Избранный в процессе интерпретации вариант включает 12 кластеров.
Самый многочисленный кластер охватывает чуть больше трети всех попавших в подвыборку, в числе которых - представители 52 профессий и почти в два раза превосходит по размерам следующий по величине кластер. Все отнесенные сюда профессионалы имеют постоянную работу, а временной или дополнительной работы нет почти ни у кого, лишь у некоторых – временная дополнительная работа. Они работают чуть больше 40 часов в неделю (точное среднее значение для данного кластера, полученное в ходе обработки составляет 40 ч 4 мин), полный день и полную неделю, т.е. 8 часов в день, что соответствует стереотипическим представлениям и установленной трудовым законодательством норме, поэтому данный кластер был назван «Кластером традиционной формы занятости» . В него вошли все попавшие в нашу выборку главные врачи, научные сотрудники, следователи МВД, работники аптек, а также прачечных и химчисток, парикмахеры, менеджеры неопределенной сферы деятельности, ремонтники бытовой техники, дворники и грузчики. Целый ряд профессиональных групп имеет максимальную долю своих представителей именно в рассматриваемом кластере. Это начальники отделов, преподаватели, ИТР, программисты, специалисты по продажам, по обработке и анализу информации, а также по страхованию, экономисты, банковские служащие, бухгалтеры, секретари, специалисты по техническому обслуживанию, дизайнеры, инспекторы МВД, операторы ПК, кладовщики, кассиры, судебные приставы, агенты по недвижимости, медицинские сестры в медицинских учреждениях, а также в детских садах, школах и на предприятиях, служащие неопределенной сферы деятельности, социальные работники, водители на предприятиях и личные водители, охранники на предприятиях, ремонтники оборудования, а также операторы, обеспечивающие его работу, станочники и военнослужащие.
Характеризуя этот кластер отметим, что в нём широко представлены «белые воротнички», здесь присутствуют такие категории государственных служащих как инспекторы МВД, судебные приставы и военнослужащие. Вообще спектр вошедших в кластер «Традиционной формы занятости» профессий очень широк. Он включает не только традиционные специальности, характерные еще для советского периода и сохраняющиеся до сих пор, но и новые, появившиеся в России только в последние 10 – 15 лет, характерные изначально лишь для иностранных компаний и лишь затем получившие распространение и на отечественных предприятиях. Это объясняется в первую очередь соответствием характерного для рассматриваемого кластера режима работы законодательным нормам, существующим в России и существовавшим раньше в СССР практически без изменений на протяжении нескольких десятилетий.
С другой стороны, «традиционная» форма занятости действительно представляется рациональной, когда речь не идет об обслуживании каких-либо непрерывных или длительных процессов. Показательно, к примеру, что из всех охранников и водителей в данный кластер вошли только те, кто работает на предприятиях, в то время как водители общественного транспорта, такси, дальнобойщики, охранники, работающие на охранных предприятиях (а значит обслуживающие в том числе и объекты, требующие круглосуточной или более длительной нежели восьмичасовая охраны), консьержи и вахтеры попали в кластеры с более продолжительной рабочей неделей. Надо ли говорить, что в кластере «традиционной формы занятости» полностью отсутствуют творческие работники – артисты, художники, композиторы.
Второй по количеству вошедших в него респондентов кластер включает представителя 44 профессий, он охватывает 22,5 % от общего числа работающих (идентифицированных по данному набору признаков). Продолжительность их рабочей недели несколько больше - около 47 с половиной часов (среднее значение для кластера определено как 47 ч 38 мин), а прочие характеристики формы занятости сходны с предыдущим «традиционным» кластером: наличие у подавляющего большинства постоянной и отсутствие временной и дополнительной работы (небольшое исключение также составляет временная дополнительная работа), полный рабочий день и полная
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 неделя. Основное различие состоит в продолжительности рабочего дня, которая в этом кластере составляет в среднем 9 часов 30 минут против привычных 8 часов.
Эти два кластера близки также и по составу вошедших в них профессий. Здесь, как и в кластере «традиционной формы занятости», широко представлены различные офисные служащие. По нашему предположению, это работники, официально имеющие восьмичасовой рабочий день, но вынужденные из-за объема или специфики работы продлевать рабочее время в среднем на полтора часа ежедневно. Не будет опрометчивым и предположение, что эти переработки как правило не оплачиваются дополнительно и, может быть за редким исключением, не учитываются при предоставлении отпусков и отгулов. Таким образом, принципиальное отличие «белых воротничков» из двух кластеров состоит в том, что рабочий день тружеников «традиционной формы занятости» ограничен только или в основном временными рамками, в то время как для представителей другого кластера определяющим фактором продолжительности рабочего дня является объем работы и, в конечном итоге, ее результаты, что должно формировать в корне иное отношение к своей профессиональной деятельности, иное распределение рабочего времени, иной ритм работы.
Следует отметить, что в рассматриваемом кластере наблюдается высокий уровень представленности некоторых профессиональных категорий, отсутствующих в «традиционном» кластере. Это специалисты по PR и рекламе, товароведы, художники и композиторы, библиотекари, водители общественного транспорта, охранники, работающие в охранных предприятиях, рабочие, занятые ремонтом квартир, и уборщицы. Таким образом, к числу отличий второго из выделенных кластеров относится присутствие в нём профессионалов, работающих по сменному графику, а также творческих работников.
Следующим по величине и представительности является кластер, объединивший горожан, имеющих рабочую неделю продолжительностью 30-35 часов (среднее значение 33 ч 6 мин). Это лишь на несколько часов меньше привычной массовому сознанию нормы, однако, многие из попавших в этот сегмент работают неполный день. Почти все они имеют постоянную работу и не имеют временной и дополнительной. В этот кластер -назовём его «Кластером сниженной интенсивности труда» - попали 78 человек, представители 41 профессиональной категории. Целый ряд профессиональных групп вошел в этот кластер целиком: это все попавшие в выборку главные бухгалтеры, юристы в юридических консультациях, журналисты, а также продавцы на улице, фотографы, водители на автопредприятиях, крупье, промоутеры. Кроме того, значительный удельный вес (50 % и более) в этом кластере имеют директора школ, врачи, юристы на предприятиях, специалисты по страхованию, продавцы в оптовых фирмах, воспитатели в детских садах, косметологи и диспетчеры.
Если выстроить все кластеры по нарастанию продолжительности рабочей недели, то в этом кластере впервые появляются руководители, что демонстрирует нижний порог интенсивности труда этой группы. А вот офисные служащие, клерки в нем представлены мало – вес этих категорий незначителен или они совсем отсутствуют.
Рабочая неделя представителей следующего по величине кластера существенно более продолжительна и составляет почти 60 часов (среднее значение 58 ч 54 мин). Работа почти у всех из них постоянная и лишь у некоторых – временная. Лишь у некоторых есть дополнительная временная работа. Представители этого сегмента рынка труда работают полный день, полную неделю, посвящая этому занятию, таким образом, в среднем 12 часов ежедневно (если предположить наличие двух выходных). Альтернативным представляется вариант работы в выходные. Кластер достаточно многочисленный, он включает 9,1 % от общего числа работающих респондентов и 32 специальности, причем полным составом в него вошли артисты, продавцы на рынке, предприниматели в сфере строительства и индивидуального производства. Кроме того, данный кластер включает половину всех работников автосервиса, предпринимателей в сфере услуг и в неопределенной сфере деятельности, треть юристов, работающих на предприятиях, операторов ПК и строителей, а также две трети директоров магазинов (многие из которых, вероятно, являются и их владельцами, т.е. предпринимателями в сфере торговли) и 60 % рядовых милиционеров.
Условно назовем этот кластер «Кластером сотрудников-предпринимателей» не только потому, что в него вошло наибольшее по сравнению с остальными выделенными кластерами число собственно предпринимателей различных сфер деятельности, но и потому, что многие из представленных в нем профессионалов, на наш взгляд, с большой вероятностью работают сдельно, чем и объясняется столь длительная продолжительность их рабочего дня. Конечно, это касается не всех без исключения категорий работников этого кластера: трудно, на первый взгляд, представить себе работающего сдельно рядового милиционера, и многое можно объяснить спецификой конкретных производственных процессов. Однако последняя - это, на наш взгляд, только отговорка, которая неуместна там, где нужно констатировать существенную и, вероятно, добровольную (в смысле - соответствующую профессиональной воле сотрудника) интенсификацию труда на исходно «традиционном» рабочем месте. Таковы, кстати, и некоторые варианты силового предпринимательства, в которое включена, вероятно, немалая часть рядовых милиционеров.
Представители кластера, условно обозначенного нами как «Кластер работающих на полставки» , трудятся 20-25 часов в неделю (среднее значение 22 ч 44 мин), что составляет примерно половину привычной нормы. Подавляющее большинство отнесенных сюда петербуржцев имеет постоянную работу, и лишь очень немногие – временную. Они работают в основном неполный день полную неделю, т.е. по четыре с небольшим часа каждый день. Дополнительную работу, и то временную, в этом кластере также имеет очень незначительное число респондентов. Это пятый по величине кластер, представители которого составляют 6 % от общего числа распределенных по кластерам респондентов, он включает 38 человек 21 профессиональной категории. Сюда вошли все представленные в выборке танцоры и гардеробщики, две трети корректоров, половина всех косметологов, предпринимателей в сфере услуг и профессиональных спортсменов, треть уборщиц, а также четверть официантов и одна пятая программистов, учителей, дизайнеров и предпринимателей в сфере торговли. Кроме того, значителен удельный вес преподавателей, рабочих квалифицированного ручного труда, консьержей и вахтеров, специалистов по обработке и анализу информации, по административно-организационной деятельности, бухгалтеров.
Нетрудно заметить, что вошедшие в рассматриваемый кластер профессии распадаются на две группы, одна из которых включает специальности, связанные с высоко квалифицированным умственным трудом, требующие соответствующего образования и длительной профессиональной подготовки, в то время как другая группа объединяет занятия, предполагающие исполнительский, неинтеллектуальный, «простой» труд.
Вернёмся ненадолго к кластеру «сниженной интенсивности» и заметим, что его состав также можно условно разбить на две группы, каждая из которых окажется на уровень выше соответствующей группы, выделенной в только что рассмотренном нами кластере «полуставочников». Так, если первая категория «полуставочников» представлена работниками высоко интеллектуальных профессий, то среди представителей труда «сниженной интенсивности» к ним добавляются руководители. Во вторую категорию попадают соответственно представители так называемого «простого» труда и профессионалы, успешная деятельность которых требует среднего (общего или специального) образования. Это водители на автопредприятиях, продавцы в оптовых фирмах и на улице, медицинские сестры как в детских садах, школах и на предприятиях, так и в медицинских учреждениях, воспитатели в детских садах и т.д.
Феномен сниженной (или, быть может, корректнее - сокращённой) интенсивности экономических практик позволяют наблюдать следующие три кластера.
Первый из них демонстрирует парадоксальную продолжительность последней накануне опроса рабочей недели - всего полтора часа (среднее значение 1 ч 34 мин). Еще более удивительно то, что все без исключения респонденты, отнесенные к этому кластеру указали, что имеют постоянную работу, а часть из них – еще и временную, которая впрочем, судя по ответам на соответствующий вопрос, является дополнительной. Кроме того, работая, соответственно, неполный рабочий день, представители этой группы умудряются работать полную рабочую неделю, что, конечно, не подлежит никакому разумному объяснению, поскольку в этой ситуации продолжительность их неполного рабочего дня должна составлять не более 20 минут. В какой-то степени такое положение объясняет то, что описываемый кластер очень малочисленный – это всего 7 случаев, и представлен всего 4-мя профессиями: ИТР, учителя, дизайнеры и профессиональные спортсмены, причем удельный вес в кластере последних – максимальный с большим отрывом. Если в отношении первых вероятным объяснением может служить их нахождение в отпуске, на больничном или иная форма ситуативного искажения экономических практик, то ситуация с профессиональными спортсменами представляется нам иной. Напрашивается предположение, что эта категория горожан склонна считать отработанными часами не то, что нам кажется логичным – тренировки, которые, конечно, не могут продолжаться менее получаса в день, а какую-то иную, возможно, дополнительную деятельность. Поэтому, данную профессиональную группу следует, на наш взгляд, отнести к кластеру, сходному с рассматриваемым по другим характеристикам формы занятости, но включающему респондентов, работающих не менее 2 - 3 часов в день, что предположительно составляет для профессиональных спортсменов время их тренировок. Таковым является кластер, условно обозначенный выше как «Кластер работающих на полставки».
Продолжительность рабочей недели у представителей следующего кластера в несколько раз больше – 7-10 часов (среднее значение 8 ч 19 мин). Далеко не все из них имеют постоянную работу, а временную работу, напротив, имеют многие. Они работают неполную неделю и неполный рабочий день, что логично, и у половины их них есть дополнительная работа, в равном соотношении постоянная, временная и обе (постоянная и временная) одновременно. Это самый малочисленный и, вероятно, маргинальный кластер – в него вошли всего 6 опрошенных, все – представители разных профессий: преподаватель, секретарь, специалист по техническому обслуживанию, дизайнер, агент по недвижимости и уборщица.
Удельный вес попавших в этот данный кластер секретаря и специалиста по ТО очень мал для этих профессиональных категорий, для которых более характерен полный нормированный рабочий день, и мы склонны связать попавшие в данный кластер случаи с размером и характером предприятий, где они имеют место. Это могут быть малые, скорее всего частные предприятия с небольшими объемами работ для указанных сотрудников, что и определяет их неполную занятость. С другой стороны, это могут быть и сотрудники государственных и муниципальных предприятий, находящихся в бедственном положении, предоставляющих низкие зарплаты, выплачиваемые с задержками. Зачастую обратной стороной такой практики является полное отсутствие так называемой «трудовой дисциплины», когда работники, рычагов воздействия на которых у руководства фактически нет, только «показываются» на работе. Дизайнер, вероятно, выполняет какие-то разовые заказы, работа над которыми и занимает указанное время.
Заметим, что большая часть дизайнеров попала в кластер «традиционной формы занятости», объединивший людей, имеющих постоянную работу и работающих 40 часов в неделю, а остальные равномерно распределились между двумя описанными кластерами и «Кластером работающих на полставки», представители которого работают 22 часа 44 минуты в неделю. Из всего этого можно сделать вывод, что профессиональная группа
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 дизайнеров по форме занятости распадается на две подгруппы, одна из которых включает работников, постоянно занятых на каких-либо предприятиях, и работающих полный нормированный рабочий день, а другая – объединяет профессионалов, не привязанных постоянно к какому бы то ни было рабочему месту, выполняющих временные и разовые работы различного объема, что и приводит к разнице в продолжительности рабочей недели, полноте занятости, соотношении постоянной, временной и дополнительных работ. Интересно, что дизайнеры совсем не попали в кластеры, объединившие работающих 47 и более часов в неделю, что в совокупности со всем выше сказанным может характеризовать труд дизайнеров как востребованный не очень высоко. Это, кстати, противоречит распространённому представлению о данной профессиональной категории как одной из наиболее успешных в новой российской экономике. 6
Следующий кластер представляется совершенно уникальным. Он состоит из 18-ти респондентов 15-ти профессий, работающий примерно 15 часов в неделю. Чуть больше половины из них имеют постоянную работу, и чуть меньше половины – временную. Работают, как это понятно, исходя из продолжительность рабочей недели, неполный день полную или неполную неделю, дополнительную работу имеют очень немногие. Интересно, что в этом кластере совсем не оказалось представителей рабочих специальностей и работников, занятых физическим трудом – следует предположить, вероятно, что они тяготеют к традиционной форме занятости. Напротив, в рассматриваемый кластер вошли исключительно специалисты высоко интеллектуальных и, если так можно выразиться... гуманитарных профессий . Наибольший удельный вес здесь имеют переводчики, предприниматели в сфере торговли, специалисты по PR и рекламе, директора школ, служащие неопределенной сферы деятельности, социальные работники. Затрудняясь пока объяснить столь небольшую продолжительность рабочей недели у представителей «гуманитарного сектора», обозначим пока таким образом этот кластер.
Теперь на повестке дня анализ другого фланга - четыре кластера самых загруженных работой петербуржцев. Первый из них объединил 28 представителей 15-ти профессий и может быть обозначен как «Кластер трудоголиков» , поскольку рабочая неделя вошедших в него респондентов составляет около 70 часов. В остальном этот кластер характеризуется тем, что почти все попавшие в него профессионалы имеют постоянную работу, а некоторые – временную, дополнительная работа есть у немногих и в основном временная.
Надо ли говорить, что «трудоголики» работают полную неделю полный рабочий день, который в расчёте на пятидневку составляет 14 часов (хотя здесь почти наверняка имеет место и работа в выходные).
По профессиональному составу «кластер трудоголиков» характеризуется тем, что включает всех присутствующих в выборке таксистов, барменов и фасовщиц, а также значительную часть поваров, охранников на предприятиях, консьержей и вахтеров. Можно было бы считать, что этот кластер принадлежит представителям простого, исполнительского, преимущественно физического труда, не требующего высокого уровня образования и длительной профессиональной подготовки, если бы не наблюдаемый в нем значительный удельный вес директоров магазинов, преподавателей и специалистов по административно-организационной деятельности, а также чуть меньший – директоров предприятий и учителей. Впрочем, ни одна из названных высококвалифицированных профессиональных групп не имеет в рассматриваемом кластере модальной представительности. Главной же отличительной чертой «кластера трудоголиков» остается вынесенная в его условное название регулярная и очень продолжительная трудовая деятельность вошедших в него петербуржцев.
Однако, как выяснилось, присущий «кластеру трудоголиков» режим работы не является пределом, и 13 представителей 9-ти профессий работают на 5-10 часов в неделю больше (среднее значение 77 ч). Как и у респондентов, вошедших в предыдущий кластер, почти у всех из них есть постоянная работа, а у некоторых – временная. Работают они, естественно, полный день и полную неделю. Отличительной же чертой этого кластера является наличие у его представителей чаще, чем у других, дополнительной работы , причем одновременно и постоянной и временной, что отчасти объясняет их столь длительный рабочий день – 15 с половиной часов в пересчёте на пятидневную неделю.
Профессиональный состав этого кластера отличен от «кластера трудоголиков». Он включает всех идентифицированных нами продавцов в киосках и ларьках, половину водителей общественного транспорта (что в общем-то странно), а также со значительным удельным весом кладовщиков, агентов по недвижимости и водителей, работающих на предприятиях, и личных водителей. Общими для обоих кластеров являются лишь присутствие руководящего состава - директоров предприятий, начальников отделов, специалистов по административно-организационной деятельности. С большой долей допущения назовем этот кластер «Кластером работающих на нескольких работах» .
Данное обозначение можно, на наш взгляд, распространить и на следующий кластер. Хотя его представители в среднем работают на 10 часов в неделю (или на 2 часа в день при пятидневке) больше, что является существенным отличием, остальные характеристики формы их занятости сходны, за исключением того, что у тех, кто имеет дополнительную работу, она, в основном, постоянная. Профессии, представители которых вошли в оба кластера, также во многом сходны. В новом добавляются лишь повара, охранники, работающие в охранных предприятиях, и медицинские сестры, работающие в медицинских учреждениях.
Последний из выделенных кластеров является в некотором смысле зеркальным отражением наименее загруженного работой сегмента. Он включает всего 8 наблюдений, причём ни один профессиональный статус не повторяется дважды. Представители этого кластера имеют фантастически продолжительную - почти 100-часовую! - рабочую неделю (среднее значение 97 ч 15 мин), работают в основном на постоянной работе, хотя у некоторых есть и временная. Дополнительную работу имеют немногие и в основном временную. Отличительной особенностью этого кластера является и неполная рабочая неделя, характерная для большинства его представителей, что должно свидетельствовать о наличии каких-либо сменных графиков, либо об авральных или сезонных работах. Перечень вошедших в этот кластер профессионалов, на наш взгляд, подтверждает это предположение. В него вошли: специалист по административно-организационной деятельности, судебный пристав, продавец в магазине, медицинская сестра, работающая в
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 медицинском учреждении, водитель-дальнобойщик, водитель, работающий на предприятии или личный водитель, охранник, работающий в охранном предприятии и строитель.
Таким образом, самый многочисленный и лидирующий по числу представленных в нём профессиональных статусов сегмент оказался доменом консервативных практик – это «Кластер традиционной формы занятости». Численность остальных кластеров в целом воспроизводит нормальное распределение по параметру продолжительности рабочей недели и плавно уменьшается с удалением от соответствующей модальному кластеру величины как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Достаточно рельефно выделяются кластеры, условно обозначенные нами как «Кластер работающих на полставки», «Кластер работающих на нескольких работах», «Кластер трудоголиков» и «Кластер сотрудников-предпринимателей». Однако в целом, на наш взгляд, нормальный характер распределения свидетельствует в данном случае о том, что область экономических практик находится в стадии формирования. В ней ещё продолжают доминировать традиционные формы организации труда. Наиболее вероятными же перспективами выступает, по мнению авторов, более чёткая артикуляция сегментов интенсивных практик, а также практик со сниженной и умеренно-низкой интенсивностью (т.е. таких, которые адекватно востребуют экономический потенциал тех групп населения, которые не хотят, не могут или не имеют потребности работать интенсивнее).
Теперь рассмотрим классификацию, полученную с помощью группы индикаторов, характеризующих уровень доходов горожан. Данный блок включал в себя следующие показатели: средняя стоимость рабочего часа в отрасли (по нормативным представлениям респондента) 7 , минимально приемлемый порог оплаты рабочего час а8 , наличие в качестве источника дохода (дихотомические шкалы) зарплаты, предпринимательских доходов, доходов от собственности и неденежных доходов (т.е. доходов в натуральной форме, в виде бартера, услуг и т.п.), личный денежный доход за последний месяц накануне опроса. 9 Размер подвыборки, для которой оказалось возможным выполнить классификацию по данному набору признаков оказался заметно меньше - 341 человек. Это связано, прежде всего, с тем, что вопросы, направленные на измерение ключевых для данного блока параметров - представлений о нормативной и минимальной оплате рабочего времени -вызвали затруднения у значительной части работающих горожан. 10 В данном случае мы остановили свой выбор на варианте классификации, включающем 8 кластеров.
В целом полученная классификация укладывается в сложившийся стереотип смещённой в сторону низкооплачиваемых профессиональных категорий кривой: чем ниже уровень отдачи на вложенный труд, тем многочисленнее и разнообразнее профессиональный спектр соответствующего кластера. Однако содержательное наполнение этого спектра убеждает в том, что дело обстоит гораздо сложнее.
Показателен в этой связи самый маленький из всех восьми кластер, объединивший самых «низкооплачиваемых» профессионалов. В нём оказались всего три человека – начальник отдела, преподаватель и бухгалтер. Впрочем, уровень их личного денежного дохода не сильно отличается от соответствующего следующему кластеру, а действительно отличительной чертой названных профессионалов является их странное убеждение в том, что средняя зарплата представителей их профессий составляла на момент опроса 1000 руб. в час. Парадоксальность такого представления подтверждается и тем, что для самих «попавшихся» в этот кластер респондентов минимальным порогом зарплаты является всего лишь 100 руб. в час, а фактически полученная ими за последний месяц сумма еще в несколько раз меньше рассчитанной исходя из данной почасовой ставки. При этом кто-то один из этих троих помимо зарплаты получает и доход от предпринимательской деятельности. Таким образом, особенности названных респондентов лежат в плоскости личных представлений и домыслов, а не реальной жизни, что позволяет нам отнести их к следующему кластеру, объединившему три четверти всех проанализированных случаев.
Этот, повторим самый многочисленный (255 опрошенных) кластер, характеризуется заработной платой на момент опроса в пределах 3000 - 10000 рублей в месяц, более или менее реальными взглядами на современный средний уровень зарплат своих коллег (среднее значение 45 рублей в час), а также их готовностью трудиться за почти вдвое меньшую (в среднем 26 рублей в час) по сравнению с нормативными представлениями зарплату (что, собственно, обычно и происходило в этот период на практике). Почти для всех профессионалов этого кластера основным источником дохода является именно зарплата, хотя некоторые получали также и доход от предпринимательской деятельности, что логично, поскольку кластер включает и предпринимателей ряда сфер деятельности. Кроме того, единицы из числа представителей этого сегмента получали доход от собственности (по акциям, от сдачи в аренду), но в то же время многие указали на наличие не денежных доходов.
Профессиональный состав этого кластера настолько разнообразен и обширен, что имеет смысл перечислить счастливчиков, не отнесенных к нему. Это капитаны и командный плавсостав, адвокаты, юристы, работающие на предприятиях, переводчики, следователи МВД, репетиторы, художники, водители-дальнобойщики, крупье, танцоры и военнослужащие. Все остальные профессиональные категории представлены в кластере с удельным весов в 50 % и выше, а представители 43-х профессий вошли в него полным составом. Последнее, в частности, относится к предпринимателям в сфере индивидуального производства и в сфере услуг, что разрушает расхожее представление о предпринимательской деятельности как об обязательно высоко доходной.
Еще два выделенных кластера достаточно близки между собой по ряду параметров: основным источником дохода для их представителей является зарплата, а остальные виды доходов имеют незначительный и сопоставимый в двух кластерах уровень, мало различаются такие важные критерии как личный денежный доход в месяц и минимально приемлемая оплата за один час работы (97 и 88 рублей соответственно). Кроме того, сопоставима и наполненность обоих кластеров – в один из них вошли 7,4% от общего числа идентифицированных по данному набору признаков, в другой – 9,2%. В то же время различными оказались представления о нормативной величине оплаты труда. Первый кластер «оценил» себя в 280 рублей в час, второй – лишь в 181 рубль.
Данное различие соответствует и различиям в профессиональном составе кластеров: из 19 профессий, представленных в каждом из кластеров, только 6 являются общими, причем эти 6 в каждом имеют незначительный удельный вес. Исключение составляют только программисты, «делегировавшие» четверть своего состава в каждый из двух обозначенных сегментов. Наиболее же характерными для кластера более «амбициозных» респондентов являются профессии адвоката, юриста, работающего на предприятии, переводчика, репетитора и крупье, а для кластера «не питающих иллюзий» на счет своей специальности – профессии следователя МВД, художника, моряка командного плавсостава и военнослужащего. Профессии, вошедшие в первый список, действительно представляются нам более «ликвидными», по крайней мере, по состоянию на 2001 г.
Оставшиеся кластеры слишком малочисленны по своему составу, чтобы делать какие-либо обобщения, однако они чётко отражают реально сложившиеся экономические практики и поэтому интересны. Один из них резко выделяется высокой долей респондентов, не получающих не данный момент заработной платы, что объясняется, видимо, тем, что из десяти его представителей двое являются предпринимателями в сфере торговли. Оставшиеся 8 опрошенных принадлежат различным профессиям, и объединены низкой самооценкой ( в смысле оценки стоимости своего труда): ведь они согласны работать за зарплату, более чем в 5 раз меньшую той, которая, по их мнению, является средней для людей их профессий (97 рублей в час против 510). Впрочем, их «ничтожные» амбиции почти в четыре раза выше тех, которые характерны для самого массового кластера (напомним, там речь шла о готовности трудится за 26 рублей в час), а реально получаемая ими зарплата несколько превышает зарплату представителей всех упомянутых выше кластеров и практически равна зарплате семи респондентов, объединенных в кластер, имеющий другую удивительную особенность: для вошедших в него профессионалов минимальная приемлемая зарплата почти в 5 раз превышает среднюю, по из же мнению, зарплату из коллег (230 рублей в час против 50). Все семеро принадлежат к разным профессиям, и эта ситуация диаметрально противоположна только что рассмотренной. Поэтому первый соблазн состоит в том, чтобы отнести оба случая на счет индивидуальных психологических качества данных категорий опрошенных, их самооценки. Однако в реальности, вероятно, можно наблюдать и результат воздействия сложившейся самооценки на экономические практики, причём не только на индивидуальном, но и, так сказать, на цеховом уровне. Например, известны примеры формирования ценовых барьеров в среде практикующих представителей «свободных профессий» - юристов, психологов, репетиторов, архитекторов, мастеров-отделочников и т.п. В результате найти «более дешёвого» мастера (репетитора, консультанта и т.д.) оказывается практически невозможно несмотря на очевидную конкуренцию на данном рынке. В то же время завышенные по отношению к средним цены на услуги в рассматриваемом секторе часто выступают инструментом позиционирования высококвалифицированных специалистов (или тех, кто стремится таковыми казаться). Повторимся, что реально получаемый личный денежный доход представителей двух последних кластеров практически одинаков, но одни смиряются с ролью аутсайдеров в высокодоходном сегменте, а другие стремятся лидировать в сфере с умеренными доходами.
Сопоставим он и у самых «зажиточных» респондентов, образовавших ещё два кластера. Первый из них ничем не примечателен и состоит всего из трех представителей – начальника отдела, специалиста по административно-организационной деятельности и бухгалтера. Второй же интересен тем, что его представители в значительной мере получают доходы всех других видов помимо зарплаты. Семь респондентов, отнесенных к этой группе, принадлежат четырем профессиональным категориям: танцоры (все, попавшие в выборку), директора предприятий (примерно одна пятая), начальники отделов и станочники (по одной десятой каждой категории). Кому какие именно виды доходов принадлежат, можно только догадываться, перечень профессий, на наш взгляд, не дает возможностей для обоснованных предположений по этому поводу.
В целом, распределение респондентов по кластерам, выделенным по критериям, связанным с их доходами, показало меньшее, чем можно было бы ожидать, разобщение профессиональных групп: три четверти из них вошли целиком в тот или иной кластер. Распределенными по трем или более кластерам оказались директора предприятий, начальники отделов, преподаватели, технологи, специалисты по продажам, по административно-организационной деятельности, учителя, бухгалтеры, специалисты по техническому обслуживанию, водители, работающие на предприятиях и личные водители, строители и станочники. Как видно, в основном это представители профессий, связанных со сложным умственным или, как минимум, с квалифицированным трудом. Следовательно, статус простого труда более стереотипен с точки зрения его стоимости, здесь более устойчивы расценки, тогда как уровень отдачи от труда
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 высококвалифицированных специалистов в большей степени вариативен и зависит от конкретной ситуации, т.е. комбинации «рабочее место - корпорация».
Следующая группа индикаторов условно может быть обозначена как культурный капитал субъекта экономических практик. В данном случае учитывались: фактический уровень образования 11 респондента на момент опроса, соответствие основной экономической практике профессии (специальности) по образованию 12 и соответствие выполняемой работы уровню квалификации респондента 13 . Как и в случае с классификацией по уровню доходов и отдачи на вложенный труд, в данном случае мы отдали предпочтение варианту, включающему 8 кластеров. Однако следует отметить, что в отличие от предыдущих случаев респонденты достаточно равномерно распределились между выделенными по названным признакам сегментам, самый крупный из которых (16,8% идентифицированных) превосходит самый малочисленный (7,4%) менее чем втрое. Также особенностью данного варианта классификации является высокий уровень идентификации опрошенных по каждому из трёх признаков (что выступает необходимым условием процедуры кластерного анализа).
Наибольшее несоответствие между фактически основной экономической практикой полученному ранее профессиональному образованию (оценки 1-2 по семибалльной шкале) отмечен респондентами, распределившимися по трем из восьми кластеров. Рассмотрим последовательно каждый из них. Численность первого относительно невелика – 9 % от общего числа идентифицированных. Второй признак – соответствие выполняемой работы имеющемуся уровню квалификации – в одном из рассматриваемых кластеров соответствует 3 по семибалльной шкале, что означает некоторый недостаток у респондентов опыта и квалификации для выполнения работы, в то время как уровень образования, представляющий собой третий признак, у них достаточно высок – модальными здесь оказались неполное высшее и высшее.
Профессиональный состав этого кластера таков: все представленные в выборке работники аптек, кондукторы и предпринимателей в сфере услуг, две трети фасовщиц, половины продавцов на улице, а также значительная часть директоров предприятий, директоров школ, бухгалтеров, судебных приставов, продавцов в оптовых фирмах, военнослужащих. Очевидно, что в большинстве случаев фактический уровень образования опрошенных значительно превышает уровень, необходимый для реализации перечисленных профессиональных практик. Недостаток же опыта и квалификации понятен в том случае, если указанные профессии являются новыми для представителей рассматриваемого кластера, основу которого, таким образом, составляют респонденты, сменившие профессии на более простые и менее престижные. Исключение составляют директора предприятий, директора школ и бухгалтеры – профессии, в которых, на наш взгляд, опыт не менее, а может быть и более важен, нежели образование. Если исключить три эти категории, то данный кластер можно обозначить популярным термином «Внутренние эмигранты» , драматизм положения которых складывается как раз из девальвации ранее накопленного символического капитала и необходимости адаптироваться к новым условиям существования.
Два других кластера с низким уровнем соответствия основной работы респондентов их специальности по образованию сходны и по критерию соответствия выполняемой работы имеющемуся уровню квалификации, оцененному между 6 и 7 баллами, что означает квалификацию, соответствующую или даже чуть более высокую, нежели необходимо для решения производственных задач. Различаются же эти кластеры уровнем образования попавших в них респондентов. Один из них включает специалистов с высшим и незаконченным высшим образованием, и их круг очень широк: это все представленные в выборке эксперты МВД, водители такси, портье, ремонтники бытовой техники, промоутеры (вероятно, студенты), дворники и предприниматели в сфере индивидуального производства, две трети библиотекарей, половина специалистов по страхованию, товароведов, инспекторов МВД, продавцов на улице, социальных работников, менеджеров неопределенной сферы деятельности, гардеробщиков и предпринимателей в сфере торговли, а также значительная часть директоров магазинов, юристов на предприятиях, журналистов, специалистов по продажам, по обработке и анализу информации, по PR и рекламе, по административно-организационной деятельности, дизайнеров, кладовщиков, агентов по недвижимости, барменов, официантов, охранников, работающих в охранных предприятиях и диспетчеров.
В этом многообразии можно, на наш взгляд, выделить две группы. Первую составляют преимущественно работающие студенты и, вероятно, респонденты, действительно не закончившие обучение в вузах. Однако их актуальная профессиональная деятельность в большинстве случаев настолько примитивна, что и минимальный опыт является для нее более чем достаточным. Вторая группа представлена в основном специалистами с высшим образованием, занятыми квалифицированным умственным, но преимущественно офисным, «канцелярским» трудом, рутинность и однообразие которого, скорее всего, и объясняет тот факт, что респонденты этой группы считают свою квалификацию несколько избыточной. Весь кластер включает 14,9% идентифицированных, и является вторым по величине.
Наконец, третий кластер объединяет респондентов, закончивших ПТУ и техникумы. Их сравнительно немного – 10,1 %, однако профессиональный состав их достаточно разнообразен и включает всех идентифицированных продавцов в киосках и ларьках, работников прачечных и химчисток, танцоров и грузчиков, две трети продавцов в оптовых фирмах, половину директоров магазинов, товароведов, продавцов на рынке, косметологов и водителей общественного транспорта, а также значительную часть директоров школ, операторов ПК, кладовщиков, агентов по недвижимости, служащих неопределенной сферы деятельности, охранников на предприятиях, консьержей и вахтеров, рабочих, занятых квалифицированным ручным трудом, ремонтом квартир, уборщиц.
Интересно, что респонденты с тем же уровнем образования составили еще один кластер, отличающийся чуть более высокой средней оценкой соответствия основной работы опрошенных их специальности по образованию - 2-3 балла по семибалльной шкале - а также гораздо более низкой оценкой соответствия выполняемой работы имеющемуся уровню квалификации - 3-4 балла (что подразумевает соответствие или незначительный недостаток опыта и квалификации в избранной области профессиональной деятельности). Это самый многочисленный кластер, включивший три четверти всех кассиров и крупье, две трети художников, композиторов и водителей на автопредприятиях, половину или чуть меньше адвокатов, специалистов по страхованию, секретарей, судебных приставов, продавцов в магазинах, барменов, официантов, поваров, рабочих, занятых ремонтом квартир, уборщиц и гардеробщиков, а также значительное число специалистов по продажам, журналистов, банковских служащих, дизайнеров, продавцов на рынке, социальных работников, водителей на предприятиях и личных водителей, консьержей и вахтеров, ремонтников оборудования, станочников, рабочих, занятых квалифицированным ручным трудом, строителей и предпринимателей неопределенной сферы деятельности.
Среднее образование (профессиональное или специальное) является прерогативой представителей и еще двух кластеров, сходных также и по критерию соответствия основной работы полученной профессии, оцененной респондентами в основном выше 6
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 6, 2003 баллов (что означает полное или почти полное соответствие). Отличает эти кластеры друг от друга уровень соответствие выполняемой работы квалификации сотрудника. Представители одного из них (13,6 % идентифицированных) оценили этот критерий в основном на 4-5 баллов, что подразумевает соответствие квалификации выполняемой работе всех опрошенных фотографов и массажистов, двух третей следователей МВД и операторов, обеспечивающих работу оборудования, половины директоров школ, артистов, медицинских сестер в детских садах, школах и на предприятиях, рядовых милиционеров, водителей общественного транспорта, ремонтников оборудования и профессиональных спортсменов, одной трети банковских служащих, композиторов, корректоров, библиотекарей, строителей и военнослужащих. Сказанное также справедливо для значительного числа директоров магазинов, журналистов, бухгалтеров, лаборантов, кассиров, продавцов на рынке, барменов, крупье и предпринимателей неопределенной сферы деятельности.
Представители же другого кластера, самого малочисленного, оценили соответствие выполняемой ими работы имеющемуся уровню квалификации преимущественно в 6-7 баллов, что характеризует их квалификацию как более высокую, нежели это необходимо для работы. В этот кластер вошли все назвавшиеся главными бухгалтерами, парикмахерами и водителями-дальнобойщиками, половина всех медицинских сестер (как работающих в медицинских учреждениях, так и в детских садах, школах и на предприятиях), воспитателей в детских садах, косметологов и работников автосервиса, треть банковских служащих, водителей на автопредприятиях и фасовщиц, а также четвертая часть всех станочников и рабочих, занятых ремонтом квартир.
Нетрудно заметить, что профессиональный состав двух только что рассмотренных кластеров во многом схож, что можно объяснить тем, что критерий соответствия выполняемой работы имеющемуся уровню квалификации в значительной степени субъективен, во всяком случае, когда он оценивается самим работником. А поскольку в данном случае речь не идет о недостатке опыта и квалификации, а лишь об их соответствии или некоторой избыточности, то эти два кластера, на наш взгляд, могут быть объединены и рассматриваться как один, включивший в себя респондентов со средним профессиональным или специальным образованием, работающих по полученной специальности.
Два оставшихся кластера повторяют ситуацию предыдущих с той разницей, что образовательный уровень их представителей выше - здесь модальным является высшее образование. Соответствие основной работы полученной профессии оценено здесь, как и в предыдущем случае, в среднем на 6 баллов, а соответствие выполняемой работы уровню квалификации аналогично различается. 13,9 % определили его на уровне 4 – 5 баллов (т.е. выполняемая ими работа соответствует имеющемуся у них уровню квалификации). Это все респонденты-юристы в юридических консультациях, переводчики и предприниматели в сфере строительства, две трети научных сотрудников, половина всех ИТР, программистов, врачей, специалистов по обработке и анализу информации, экономистов, артистов, моряков командного плавсостава, менеджеров неопределенной сферы деятельности, охранников в охранных предприятиях и профессиональных спортсменов, треть специалистов по техническому обслуживанию и художников, а также значительная часть директоров предприятий, начальников отделов, адвокатов, специалистов по административно-организационной деятельности, учителей, лаборантов, социальных работников.
Представители последнего кластера, по численности близкого к предыдущему, оценили собственную квалификацию преимущественно на 6 баллов, т.е. как достаточную или даже более высокую, нежели это необходимо. В этот кластер вошли все капитаны, почти все преподаватели и технологи, две трети корректоров, половина всех ИТР, юристов на предприятиях, учителей, лаборантов и моряков командного плавсостава, треть врачей, инспекторов МВД, рядовых милиционеров и военнослужащих, а также значительное число начальников отделов, адвокатов, журналистов, специалистов по обработке и анализу информации, экономистов, бухгалтеров, служащих неопределенной сферы деятельности и диспетчеров.
Профессиональный состав двух последних кластеров во многом повторяется, что, как и в рассмотренном выше случае, позволяет объединить два кластера в один. С другой стороны, очевидно значительное отличие профессионального состава последнего кластера, полученного в результате объединения, от предыдущего (также составленного из двух изначально разных кластеров), что приводит к выводу о сегментирующей функции культурного капитала в современном профессиональном поле.
В завершении рассмотрим классификацию, выполненную на основании набора индикаторов, условно объединённых в категорию социальный статус (в его материалистической трактовке). В данном случае учитывались такие показатели как стратификационная идентичность, 14 динамика благосостояния семьи за последние 10 лет, 15 наличие в домохозяйстве автомобиля и компьютера. Комбинация четырёх индикаторов позволила отдать предпочтение 12-кластерному варианту классификации.
Кластер, объединивший респондентов, причисливших себя к высшему слою или к слою между высшим и средним, состоит всего из трех представителей (0,5% идентифицированных), являясь самым малочисленным из всех. Достаток и возможности семей этих трех респондентов за последние 10 лет в целом выросли, однако достойна внимания умеренность в оценках (2 из 3 выбрали вариант «скорее выросли», 1 - «не изменились»). В среднем на семью они обладают 3 или даже более автомобилями и 2 и более компьютерами. Кто же эти счастливцы? Начальник отдела и 2 дизайнера.
Следующая ступенька стратификационной лестницы занята заметно большим по размеру кластером - 3,1% идентифицированных. Для них также характерна смешанная идентичность. Примерно в равных весах здесь представлены отнёсшие себя к среднему слою и прослойке между высшей и средней стратами. Доминирует убеждение о росте собственного достатка за последнее десятилетие (категоричные и умеренные оценки данного параметра представлены приблизительно в равных весах), семьям респондентов этой категории в среднем принадлежит 1,7 автомобиля (т.е. чаще 2, чем 1) и по одному компьютеру. Этот кластер переросших средний слой включил в себя всех идентифицированных артистов, две трети рабочих, занятых ремонтом квартир, почти половину предпринимателей неопределённой сферы деятельности. Уровень представительности других категорий существенно ниже (преимущественно 10-20%). Среди них чётко выделяется административный состав - директора предприятий, начальники отделов, юристы на предприятиях, бухгалтеры. Также представлены художники, официанты и предприниматели в сфере торговли. Можно предположить, что столь причудливая комбинация творческих и административных ролей (вкупе с рабочими-отделочниками и официантами) на самом деле объединена практиками предпринимательства как дополнительной стратегии , маскирующейся за номинированным видом деятельности. И именно такое латентное предпринимательство является основой роста благосостояния и социального статуса.
Представители двух кластеров относят себя преимущественно к среднему слою, однако по остальным критериям эти кластеры сильно различаются. 12,4% респондента охарактеризовали динамику благосостояния своих семей за последние 10 лет как умеренно позитивную, однако при этом практически ни у кого из них на момент опроса не было автомобиля, и меньше половины владели домашним компьютером. Напротив,
8,2% идентифицированных горожан, говорят о динамике достатка и возможностей своей семьи отмечали скорее негативные тенденции 90-х гг. При этом примерно каждый третья семья из этой группы владела автомобилем, но ни у кого из них (!) не оказалось собственного компьютера.
Профессиональный состав первого кластера оказался достаточно любопытен. В него вошли все идентифицированные промоутеры, крупье и капитаны. Также данная категория является модельной для барменов, кладовщиков, медсестёр в мед.учреждениях, товароведов, экономистов. Представлены в данной группе юристы на предприятиях, повара, работники автосервиса, медсёстры в детских садах, школах, на предприятиях, грузчики, предприниматели в сфере торговли, директора магазинов и предприятий, ИТР, специалисты по административно-организационной деятельности, секретари, агенты по недвижимости, судебные приставы и ещё целый ряд профессий. На наш взгляд наиболее вероятным фактором, объединяющим всех перечисленных выше выступает доступ к корпоративным ресурсам , которые можно в большей или меньшей мере использовать в собственных целях. Кстати, возможным объяснением отсутствия у представителей данной категории собственных автомобилей является именно доступность служебного транспорта, использование которого существенно экономит бюджет домохозяйства.
Второй кластер, образованный носителями идентичности среднего слоя оказался более разношёрстным. В него попали все идентифицированные предприниматели занятые индивидуальным производством, работники химчисток, парикмахеры, продавцы на рынках и продавцы в оптовых фирмах. Модальный характер носит членство в этой группе для директоров магазинов, технологов, секретарей, банковских служащих, агентов по недвижимости. Кроме того оказались представлены в нём небольшие доли военнослужащих, грузчиков, консьержей и вахтёров, уборщиц, ИТР, специалистов по обработке и анализу информации, переводчиков, экономистов и двух дюжин категорий, среди которых опять не обошлось без директоров предприятий и начальников отделов. Что же может объединят парикмахера, консьержа и специалиста по обработке и анализу информации? На наш взгляд, основание есть - это индивидуалистическая стратегия профессиональной карьеры, стремление полагаться только на свой труд и расчёт на адекватное вознаграждение за выполненную работу. Нет ничего удивительного, что такая стратегия оказалась не особо успешной в 90-е гг. и её адепты хоть и не очень быстро, но двигались в статусном поле по нисходящей. В то же время их исходный статус, определённый запас ресурсов (как материальных, так и символических), а также высокие профессиональные и социальные амбиции позволили им удержаться «на плаву». В пользу последнего свидетельствует наличие автомобиля в каждой третьей семье. В то же время полное отсутствие домашних компьютеров говорит о том, что новые потребительские (и, естественно, конструирующие статус новых средних слоёв) практики для этой категории горожан остаются закрытыми.
Три кластера состоят из респондентов, позиционировавших себя на стыке среднего слоя и слоя между средним и низшим. При этом представители двух их этих кластеров приблизительно одинаково характеризуют и динамику благосостояния своих семей как достаточно позитивную (присутствуют как безусловные, так и умеренные оценки). В то же время показатели наличия автомобиля и компьютера демонстрируют различия этих категорий домохозяйств. Семьи 9,7% респондентов демонстрируют модель «один автомобиль - один компьютер», в то время как домохозяйства 5,5% идентифицированных горожан отличаются большей нагрузкой по параметру автомобиль (в среднем 1,5 на одну семью) и практически полным отсутствием домашних компьютеров.
8,5% идентифицированных по рассматриваемому набору параметров петербуржцев представляют третьего кластер в номинации ниже среднего. Они отмечают слабую позитивную динамику благосостояния в 90-е гг. (достаток семьи скорее вырос либо не изменились), владеют в среднем одним автомобилем, а вот компьютеры есть лишь у каждого третьего из них. Интересно, что во всех трех случаях идентичность ниже среднего совпадает с более высокими значениями параметров наличия автомобиля и компьютера в семье, чем у горожан, уверенно относящих себя к среднему слою.
Каковы же модальные номинации представленной триады кластеров? Первый объединяет всех предпринимателей в сфере строительства и услуг и косметологов, половину адвокатов, специалистов по страхованию, корректоров, судебных приставов, водителей на автопредприятиях и профессиональных спортсменов, более четверти военнослужащих, предпринимателей в сфере торговли, агентов по недвижимости, воспитателей в детских садах, бухгалтеров, специалистов по PR и рекламе, специалистов по анализу и обработке информации, директоров предприятий, врачей и юристов на предприятиях. Всего здесь представлены 31 профессиональная категория. Если отталкиваться от результатов кластерного анализа, здесь мы видим просто успешных обывателей, тех, кто востребован новой экономикой и чья социальная траектория на момент исследования проявляла восходящие тенденции.
Спектр второго из кластеров данной триады существенно уже - 17 статусов, причём особенностью данного кластера выступает его, так сказать, немодальность - попадание в него не является типичным практически ни для одной профессиональной группы. Возможно, это случайно оформившаяся группа (напомним, что её отличительной чертой высокий уровень «автомобилизации» домохозяйств). Однако обратим внимание, что среди попавших в кластер с максимальными весами чётко выделяется торговый сектор -продавцы в оптовых фирмах, продавцы в магазинах, грузчики, предприниматели в сфере торговли и в неопределённой сфере. Здесь также можно обнаружить некоторых водителей на предприятиях и личных водителей, рядовых милиционеров, следователей, операторов ПК и др. категории.
Наконец, третий элемент триады с идентичностью ниже среднего образован представителями 27 категорий. Здесь также трудно чётко проследить тенденцию интеграции (если, вообще, здесь наблюдается интеграция). Пожалуй, единственное предположение по поводу природы следующего списка состоит в том, что здесь можно наблюдать удачно устроившихся профессионалов, которым корпоративная принадлежность позволила оставаться «на плаву» в бурные 90-е. Итак, это: моряки -командный плавсостав, начальники отделов, директора магазинов, банковские служащие, инспекторы МВД, лаборанты, официанты, работники автосервиса, профессиональные спортсмены и опять предприниматели в сфере торговли и неопределённой сфере, директора предприятий, специалисты по продажам, учителя, художники, рядовые милиционеры и т.д. и т.п. Отметим, что все три кластера триады отличаются широким составом и включают значительное число «выскочек» из разных профессиональных групп, что свидетельствует в пользу предположения относительно иной (кроме профессиональной) природы формирования данных ниш в экономической сфере города.
Следующие два кластера сходны сразу по двум параметрам. Во-первых, их представители в пропорции 2 к 1 демонстрируют идентичность соответственно промежуточного между средним и низшим слоя и среднего слоя. Во-вторых, среди них доминируют представления о заметном сокращении материальных возможностей семьи в 90-е гг. А вот индикаторы наличия автомобиля и компьютера принимают в этих кластерах диаметрально противоположные значения. Семьи 6% идентифицированных владеют (в среднем) одним автомобилем каждая, тогда как компьютеры есть едва ли у третьей их части. Второй кластер объединяет 9,6% идентифицированных для которых, наоборот, характерно наличие компьютера, и лишь в одном случае из трёх - автомобиля. Заметим, что и здесь последние два показателя выше, нежели у представителей среднего слоя.
Первый из этой пары кластеров включил представителей традиционных профессиональных статусов. Среди них все опрошенные водители-дальнобойщики и эксперты МВД, треть кассиров, военнослужащих и охранников в охранных предприятиях, четверть научных сотрудников и операторов ПК, 15-20% технологов, программистов, учителей, секретарей, специалистов по техническому обслуживанию, дизайнеров, продавцов в магазинах, служащих неопределённой сферы деятельности и уборщиц. С меньшими весами представлен ещё десяток категорий. Складывается впечатление, что здесь мы наблюдаем неудачников, стратегию которых можно обозначить как мытарство, т.е. вынужденные и заведомо неэффективные практики в сферах, где налицо позитивные примеры других акторов.
Второй кластер данной пары них наполнен представителями новых экономических практик эпохи реформ - тех видов деятельности, которые были востребованы стихийным рынком и подразумевали интенсивный труд с элементами предпринимательства на рабочем месте. Некоторые из этих профессий рекрутировали горожан, лишившихся возможности зарабатывать на прежнем месте работы, другие - стимулировали активность в формально прежней, но в то же время кардинально изменившейся сфере. Итак, модальные категории кластера - диспетчеры, ремонтники бытовой техники, водители такси, инспекторы МВД. Также здесь можно обнаружить научных сотрудников, адвокатов, специалистов по страхованию, следователей, библиотекарей, продавцов на улице, судебных приставов, барменов, воспитателей в детских садах. Всего 31 профессиональный статус. Это стратегия пота , которая, как выясняется, соответствует скорее нисходящим траекториям мобильности.
Оставшиеся три кластера объединили петербуржцев, причисливших себя к двум низшим стратам. Причем представители двух из них отмечают, что достаток и возможности их семей за последние 10 лет существенно сократились. Однако если семьи 19,3% идентифицированных (составивших, кстати, самый многочисленный кластер), действительно не имеют ни автомобилей, ни компьютеров, то 11 горожан (0,9% идентифицированных), сформировавших второй кластер указали, что имеют в среднем по 2 автомобиля (!) и по одному компьютеру. Последнее соответствует ситуации в кластере, включившем респондентов, причисливших себя к двум высшим социальным слоям. Вероятно, если в первом случае мы имеем дело с категорией новых бедных , то во втором -с «беднеющей аристократией» номенклатурной эпохи, чья интеграция в новую экономику не оправдала ожиданий.
Первый из названных кластеров очень представителен - в нем нашлось место для половины (всего 51) выделенных нами статусов. Однако модальных, чей вес составляет 50% и более, не так уж и много. Это фасовщицы, уборщицы, гардеробщики, дворники, ремонтники оборудования, портье, массажисты, водители общественного транспорта и водители на автопредприятиях, социальные работники, медицинские сестры в детских садах, школах, на предприятиях, продавцы на улице, работники аптек, лаборанты, корректоры, библиотекари, репетиторы и преподаватели. Что объединяет этих горемык? Вероятно отсутствие у них уникальных, специфических профессиональных навыков, низкие входные барьеры на данных сегментах рынка труда. Как следствие, высокая конкуренция и низкая отдача на вложенный труд.
А что же беднеющая аристократия? Во-первых, этот кластер оказался немодальным - ни один из попавших в него статусов не представлен здесь более чем третью своего состава. А во-вторых, аристократизм на поверку оказался исключительно рабочих и сомнительно-административных кровей - станочники, рабочие, занятые квалифицированным ручным трудом, кассиры, служащие неопределённой сферы деятельности, учителя и специалисты, занятые административно-организационной деятельностью.
Наконец, последний из рассматриваемых кластеров - 16,5%. Идентичность двух низших страт. Динамика благосостояния в 90-е гг. - слабо позитивная (доминируют варианты: достаток и материальные возможности «скорее выросли» и «не изменились»). Лишь немногие (примерно пятая часть) владеют автомобилем или компьютером. Пожалуй, это «старые бедные», те, чьё положение в обществе оставалось стабильным с советских времён. Здесь представлены 39 категорий. Вот модальные: главные бухгалтеры, журналисты, повара, охранники на предприятиях, операторы, обеспечивающие работу оборудования, официанты, рядовые милиционеры, машинисты метро, операторы ПК, служащие неопределённой сферы деятельности, художники, специалисты по техническому обслуживанию, банковские служащие, специалисты по PR и рекламе, врачи... Не правда ли, странная компания? Без комментариев.
Подведём итог. Точку в нашем исследовании ставить явно рано, пожалуй, только запятую. Ясно, что поле профессиональных статусов размыто, однако некоторые из них позиционируются довольно уверенно даже в результате такой «лобовой» процедуры как кластерный анализ. Вероятно, это как раз те категории, идентификация которых соответствует формирующейся системе новых экономических практик горожан. Вероятно, именно вокруг них могут формироваться новые статусы, в т.ч. и социальные (в точном понимании этого термина). Напротив, профессиональные группы, «размазанные» по всему полю, скорее всего гетерогенны по содержанию, т.е. являются устаревающими символическими конструктами, которые вряд ли способны удержать вместе разнородные практики и обречены на сегрегацию последних. Немаловажна в этом процессе, на наш взгляд, и функция культурного капитала, конструирующая и катализирующая социальнопрофессиональные статусы. Своими эмпирическими наблюдениями в этой области мы рассчитываем поделиться в одной из следующих публикаций.