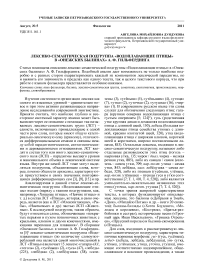Лексико-семантическая подгруппа «водоплавающие птицы» в «Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга
Автор: Дундукова Ангелина Михайловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.
Бесплатный доступ
Язык фольклора, былина, лексико-семантическая группа, семантика, синтагматика, происхождение, морфемика, словообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/14749950
IDR: 14749950
Текст статьи Лексико-семантическая подгруппа «водоплавающие птицы» в «Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга
Изучение системности организации лексики как одного из языковых уровней - сравнительно новое и при этом активно развивающееся направление исследований в современной лингвистике. Принято считать, что наиболее глубоко и всесторонне системный характер лексики может быть выявлен через ее описание с помощью так называемых лексико-семантических групп (ЛСГ) -единств, включающих принадлежащие к одной части речи слова, которые имеют общую категориально-лексическую сему (архисему), отличаются дифференциальными семами и связаны между собой парадигматическими, синтагматическими и деривационными отношениями. ЛСГ входят в состав того или иного лексико-семантического поля (ЛСП) - парадигмы высшего уровня и максимального объема в лексической системе языка. Внутри же самой ЛСГ тоже могут выделяться подгруппы, объединяющие слова, которые, помимо общности архисемы, характеризуются присутствием в своих значениях повторяющихся дифференцирующих сем [3], [9], [15] и пр.
Анализируемая в данной статье лексико-семантическая подгруппа «Водоплавающие птицы» входит (наряду с такими подгруппами, как, например, «Хищные птицы», «Певчие птицы» и т. д.) в состав ЛСГ «Птицы», которая, в свою очередь, является (как и ЛСГ «Млекопитающие», «Рыбы», «Насекомые» и др.) частью ЛСП «Животные». К исследуемой подгруппе, таким образом, будут относиться слова, обозначающие «покрытых перьями и пухом позвоночных животных с крыльями, клювом и двумя конечностями, имеющими перепонки для плавания»1. В сборнике «Онежские былины» в записи А. Ф. Гильфердинга [5]2 лексико-семантическая подгруппа «Водоплавающие птицы» (по количеству словоупотреблений она является самой многочисленной в ЛСГ «Птицы») включает 15 лексем: «гагара» (4)3, «гоголь» (2), «гусёныш» (2), «гусь» (47), «лебедь» (225), «лебёдка» (2), «лебёдушка» (38), «селе- зень» (3), «утёныш» (5), «утёнышек» (4), «утица» (7), «утка» (2), «уточка» (2), «утушка» (16), «чирка» (1). В современном русском языке эти слова служат для обозначения следующих птиц: гагара (крупная северная водоплавающая птица с густым оперением [5; 124]4), гусь (родственная утке крупная дикая и домашняя водоплавающая птица с длинной шеей, 150), лебедь (большая водоплавающая птица семейства утиных с длинной, красиво изогнутой шеей, 320), утка (водоплавающая птица с широким клювом, короткой шеей и короткими, широко поставленными лапами, 843). Остальные лексемы, входящие в лексико-семантическую подгруппу, называют либо отдельные разновидности этих птиц (гоголь -нырковая утка, 135; чирок / диал. чирка - мелкая речная утка, 885), либо их самцов / самок (селезень - самец утки, 709; нар.-поэт. утица - самка утки, 843; лебёдка, ласк. лебёдушка - самка лебедя, 320), либо их птенцов (гусёныш, утёныш, нар.-поэт. утёнышек - птенцы гуся и утки соответственно [7; Т. 1,410, Т. 4, 520]), либо являются уменьшительно-ласкательными названиями этих птиц (уточка, нар.-поэт. утушка [7; Т. 4, 520]).
С точки зрения жанровой характеристики тексты, в которых функционируют описываемые лексемы, это былины («Добрыня и Змей», «Дюк», «Михайло Потык» и др. - всего 20 сюжетов); былины-баллады («Хотен Блудович», «Молодец и королевна», «Кострюк», «Братья-разбойники и сестра»), исторические песни («Грозный царь Иван Васильевич», «Гришка Отрепьев», «Прусский король») и былина-скоморошина («Птицы»).
Для слов, входящих в рассматриваемую лексико-семантическую подгруппу, характерны типичные корневые морфемы: гус- (гусь, гусёныш), лебед- (лебедь, лебёдка, лебёдушка), ут- (утка, утёныш, утёнышек, утица, уточка, утушка), имеющие соответственно индоевропейское, общеславянское и исконное происхождение, а также словообразовательные суффиксы -ёныш- (гусёныш, утёныш) и -ушк- (лубёдушка, утушка).
С точки зрения семантики и синтагматики наиболее интересными в пределах описываемой подгруппы являются лексемы «лебедь» и «лебёдушка». Они выступают в одинаковых или сходных контекстах и отличаются лишь частотностью употребления (первое слово встречается почти в 6 раз чаще), поэтому в дальнейшем будем рассматривать их вместе. Обе лексемы:
-
I. Выступая в прямом значении, называют одну из составляющих мира живой природы. 1) Дикую птицу, на которую герои былин едут охотиться, но которая чаще всего по каким-то причинам отсутствует или ее никак не удается подстрелить (40): Стрелял Илья гусей да лебедей. <..> Не мог убить ни гуся, ни лебедя (Илья Муромец и Идолище, 2, 445, 5). При этом в основном наблюдается сочетаемость с глаголами, обозначающими действия богатыря («стрелять», «бить», «ловить», «заворачивать», «убить», «палить», «не находить», «привезти» и т. д.); есть также 1 случай сочетаемости с глаголом, обозначающим действие самой птицы («лететь»), и 3 – адъективной сочетаемости («белый»). Интересно, что в большинстве примеров (35) с лексемой «лебедь» / «лебёдушка» соседствует лексема «гусь», также обозначающая в подобных контекстах дикую птицу, предмет охоты. Благодаря такому одинаковому употреблению эти слова сближаются в значении и периодически употребляются как нечто единое: Гуся-лебедя [неведомые люди] повыстреляли (Молодость Чурилы, 3, 228, 42). 2) Домашнюю птицу, которую пасут (5). Стадо этих птиц полностью уничтожает, чтобы привлечь к себе внимание, превращенный Маринкой в тура Добрыня Никитич: Притоптал же [тур] лебедей всех до единое, не оставил он лебёдушки на симена (Добрыня Никитич, 1, 127, 104–105); пасти лебедей отправляет Илью Муромца его сын Сокольник, который хочет так оскорбить отца, указать на слишком пожилой возраст родителя и отсутствие у него прежней богатырской силы (Илья Муромец и Сокольник, 2, 281, 34). Сочетаемость в данном случае только глагольная, птица выступает как объект действия («притоптать», «пасти»). Слово «гусь», выступая в аналогичных сочетаниях, постоянно соседствует с описываемой лексемой и в этих примерах. 3) Предмет дани, которую должен заплатить князь Владимир Сорочинскому королю Ботияну Ботиянову за 12 с половиной лет, а позже, наоборот, платит Киеву сам Ботиян (6, причем в таком контексте употребляется только лексема «лебедь»): А двенадцать лебедей, двенадцать креченей [послать надо в качестве дани] (Добрыня и Василий Казимиров, 2, 68, 17). Наблюдается постоянная сочетаемость с лексемой «двенадцать», а также глагольная сочетаемость (птица – объект действия: «отвезти», «при-
- носить», «положить») и соседство со словом «кречень».
-
II. Называют блюдо из мяса лебедя, яство, которое на пиру герои «рушают», то есть делят [7; Т. 4, 115] друг с другом, когда все в порядке, или не делают этого, если этот порядок чем-то нарушен (35 случаев): И белую лебедь оны [богатыри] рушают (Сухман, 1, 568, 12). Сочетаемость у лексемы «лебедь» / «лебёдушка» в таких примерах постоянная: как глагольная (обозначение действия, совершаемого человеком, – «рушать», «есть»), так и адъективная (во всех случаях используется эпитет «белый»).
-
III. Входит в состав тропа или фигуры: 1) элемент отрицательного параллелизма (4): Не ясен сокол да напущает на гусей на лебедей да на малых перелётных на серых утушек, напущает-то богатырь святорусьския а на тую ли на силу на татарскую (Илья Муромец и Калин царь, 2, 26, 361–364); 2) элемент сравнительного оборота (2): [В погребе висят три бочечки], будто белыи лебёдушки разговаривают (Дюк, 1, 266, 149); 3) является метафорой (1): А й за столом-то сидел прусский король белой лебеди [т. е. «лебедью»] (Прусский король, 3, 45, 18).
-
IV. Обозначает героя. 1) Частично антропоморфный персонаж, птицу, которая выступает в роли, присущей человеку (4): Лебеди на море были бояра (Птицы, 2, 378, 49). В других вариантах этого сюжета высокое социальное положение в птичьем мире, выступающее калькой с мира человеческого, у лебедей также сохраняется: они являются «боярицкими жёнами» или «кня-гинами». 2) «Лебедь» / «лебёдушка» / «лебёдка» – символическое обозначение девушки или молодой женщины (16): А й да белая лебёдка со двора сошла [Имеется в виду жена Добрыни Настасья Микулична] (Добрыня и Алеша, 3, 124, 208). Подобное употребление вполне ожидаемо: лебедь в славянской культуре – ярко выраженный женский символ [6; 677–680], знак женской красоты, любви, нежности, верности5. В текстах «Онежских былин» этот образ используется для номинации любой молодой представительницы женского пола вне зависимости от морально-нравственных качеств героини: это может быть и верная жена (возлюбленная), и изменщица. Во всех примерах описываемая лексема сочетается с эпитетом «белый», а также может быть связана со словами «гусь» и «сокол», символически обозначающими героев-мужчин (по одному примеру с каждым из орнитонимов)6. 3) «Лебедь» / «лебёдушка» / «лебёдка» – зооморфное воплощение героини, которая умеет превращаться в птицу (20): Обвернуласе она [королевна] да лебедью белою (Молодец и королевна, 3, 588, 44). В сюжете «Королевичи из Крякова» лебеди выступают в роли волшебных помощников героя, который сначала хочет подстрелить птиц: они дают богатырю совет, куда ехать, чем заняться. Такую же
функцию в текстах «Онежских былин» выполняет и ворон [8]: обе птицы в народных представлениях являются почитаемыми, священными, тотемными. Следует отметить и то, что лексемы «ворон» и «лебедь» во многих языках обычно этимологизируются как указание на окраску птицы - черную и белую соответственно [16; Т. 1, 353, Т. 2, 470], [17; Т. 1, 166; Т. 2, 471], а эпитеты «черный» и «белый» для этих орнитонимов являются постоянными: определение «белый», например, сочетается со словами «лебедь» / «лебёдушка» в этой группе 17 раз.
Однако лексема «лебедь» в текстах сборника А. Ф. Гильфердинга выполняет еще одну, не свойственную словам «лебёдушка» и «лебёдка» функцию: в былинном сюжете «Михайло Потык» этот орнитоним в сочетании с определением «белая» выступает в качестве постоянного приложения к имени главной героини Марьи, ее прозвища, дополнительного обозначения. Подобное употребление слова «лебедь» - самое частотное в «Онежских былинах» (132), «Марья лебедь белая» - королевична-подолянка, умеющая превращаться в птицу лебедя, - явно отрицательный персонаж. Она становится женой Михайло Потыка, заключив с ним соглашение, по которому один из супругов в случае смерти другого должен последовать за ним в могилу; вскоре после свадьбы Марья умирает, а Потыка хоронят с ней; богатырю удается оживить жену и вернуться вместе на белый свет, но Марья тут же изменяет мужу, убежав с «королём политовским»; Потык пытается вернуть неверную супругу, но Марья, хитростью опоив богатыря сонным зельем, старается вновь извести мужа: превращает его в «бел-горюч камень» или приказывает закопать живым, прибивает к стене гвоздями и т. д. С точки зрения носителя современного сознания то, что отрицательная героиня постоянно именуется «белой лебедью», кажется странным: символика этого образа в народных представлениях обычно светлая и положительная. Однако если проследить мифологические истоки образа, все становится понятным: Марья - это переосмысленное имя Мары, в славянской мифологии злого духа, воплощения смерти, мора [10; Т. 2, 110], [13; 398-411]. Лебедь же, помимо своей положительной символики, имеет и почти забытую отрицательную7: нередко темные силы маскируются образом белого лебедя, лебедь является одним из символов смерти [10; 41], в средневековых бестиариях лебедь предстает как олицетворение лицемерной души и обманчивого нрава (облик птицы противоречит ее сущности, поскольку ее прекрасное белое оперение скрывает черное мясо [14, 261]); на тесную связь с именем Марьи / Мары, по всей видимости, также повлияло то, что весной эти птицы улетают на север, в страну холода и смерти [13; 402]. А слово «белый», являющееся постоянным эпитетом описы- ваемого орнитонима (в целом слова «лебедь», «лебёдка», «лебёдушка» в текстах «Онежских былин» сопровождаются эпитетом «белый» 209 раз, что составляет 79 % от общего числа употреблений этих лексем в сборнике А. Ф. Гильфердин-га), называет цвет, который у многих народов был траурным. Неслучайно, вероятно, и то, что «Марья лебедь белая» - «королевна» (это слово характеризует образ в 32 примерах), «подолян-ка» (3): в былине подчеркивается, что героиня -часть чужого мира. Интересно, что в одном из вариантов сюжета «Михайло Потык», записанном в Толвуе от Андрея Тимофеева, Марья называется не только «лебедью белой», но и «ланью злоторогой» (5 случаев), а лань «во многих мифах представляет собой женскую животную природу потенциального демонического характера» [1; 144], золотая же окраска «есть печать иного царства» [12; 245]. Таким образом, тексты сборника А. Ф. Гильфердинга отражают как женскую, традиционную и известную большинству, так и связанную с чужим миром, миром смерти, почти забытую символику лебедя8.
Остальные слова, входящие в лексико-семантическую подгруппу «Водоплавающие птицы», в текстах «Онежских былин» выполняют в основном те же функции, а также имеют те же значения, что и лексемы «лебедь» / «лебёдушка» / «лебёдка». Значение «дикая птица, на которую охотятся» имеет, как уже было отмечено, орни-тоним «гусь»: [Не видал Добрыня] Не серого гуся пролётного (Добрыня и Алёша, 3, 220, 125). Эту же семантику имеют слова «утушка» (10), «утица» (7), «утёныш» (5 случаев), «утёнушек» (4), «уточка» (1): Стрелял Дунаюшка Серыхуту-шок (Дунай, 2, 730, 3). Значение «домашняя птица» характерно для лексем «гусь» (4), «гусёныш» (2), «утушки» (2): [Сокольник говорит отцу: Пас бы ты, Илья] Да ведь пернатых серых утушок (Илья Муромец и Сокольник, 2, 282, 82). Слова «гусь» (2), «утушка» (1), «уточка» (1) входят в состав отрицательного параллелизма, лексема «гоголь» является частью фразеологизма «плыть гоголем», то есть «двигаться величественно, гордо, высоко подняв нос» [2; 143]: Ещё горе вслед да гоголем плывёт, и гоголем плывёт, да выгова-риват (Горе, 2, 669, 34-35). Слова «гусь» (5), «селезень» (3), «утушка» (2), «утка» (1) служат для обозначения частично антропоморфного персонажа, птицы, которая выступает в роли, присущей человеку: А гуси-ты на море бояра (Птицы и звери, 1, 562, 45), или: Селезни [на море] гости торговые (Птицы, 3, 516, 49)9. Лексема «гусь», как было сказано ранее, 1 раз является символом добра молодца: А где пал как ведь серой гусь [там пала и лебедь] (Молодец и королевна, 3, 588, 52), а слово «утушка» в 1 примере обозначает зооморфное воплощение героя-мужчины: [Роман Митриевич умеет] А й как по синим морям плавать серой утушкой (Наезд литовцев, 1, 660, 70).
Орнитонимы «гагара» (4), «утка» (1), «чирка» (1) употребляются в контекстах, отражающих внешний вид и особенности поведения этих птиц: «утка» – «сероплавка» (Птицы, 2, 379, 62), «чирка» и «гагара» – «рыболовки» (Птицы, 2, 378, 56 и 3, 516, 51).
С точки зрения синтагматики постоянную адъективную сочетаемость можно наблюдать только у лексем «утёныш», «утёнышек», «утица», «утка», «уточка», «утушка»: эпитет «серый» встречается 24 раза, «малый» – 23, «пернатый» / «пер-настый» – 15, «перелётный» – 8, «заморский» – 2, при этом обычно к одному существительному относятся 2–3 прилагательных, например «малые серые пернатые утушки». Слова «гусь» и «гусёныш» имеют эпитеты гораздо реже: «серый» – 5 и «пролётный» – 2 примера, но и в этом случае они употребляются попарно. Глагольная сочетаемость лексем с корнями гус- и ут- почти полно- стью дублирует подобную сочетаемость слов с корнем лебед-.
Итак, на основании анализа лексико-семантической подгруппы «Водоплавающие птицы», проведенного на материале текстов «Онежских былин», отметим, что компоненты этой парадигмы демонстрируют практически все свойства, которые характерны для подобных единств (например, способность единиц вступать в отношения сопредельности, то есть взаимодополнительности, гиперо-гипонимические отношения, а также отношения подобия и противоположения). Подобный метод работы с лексическим материалом дает возможность не только наиболее подробно и с разных сторон охарактеризовать каждый из компонентов парадигмы, но и выявить его значимость в пределах как одного текста, так и целого текстового корпуса, что при работе с языком фольклора представляется особенно важным.
Список литературы Лексико-семантическая подгруппа «водоплавающие птицы» в «Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга
- Бидерманн Г. Энциклопедия символов/Общ. ред. и предисл. И. С. Свентицкая. М.: Республика, 1996. 336 с.
- Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология: Историко-этимологический словарь. М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. 928 с.
- Васильев Л. М. Теоретические проблемы лингвистики: Внутреннее устройство языка как знаковой системы. Уфа, 1994. 208 с.
- Веселовский А. Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля//Веселов-ский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. С. 101-154.
- Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года: В 3 т. Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 2000.
- Дундукова А. М. Концепт «ворон» и его функционирование в русской былинной традиции//Материалы XXXVI Международной филологической конференции, 12-17 марта 2007 г. Вып. 21: Кафедра истории русской литературы/Под ред. А. О. Большева. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. С. 99-107.
- Кузнецова Э. В. Русская лексика как система. Свердловск: УрГУ, 1989. 89 с.
- Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Рос. энциклопедия, 1997.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. М.: ИТИ ТЕХНОЛОГИИ, 2003. 944 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
- Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. 783 с.
- Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия/Авт.-сост. В. Э. Богдасарян, И. Б. Орлов, В. Л. Телицына. М: Локид-Пресс, 2003. 495 c.
- Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантической системе языка. М.: Наука, 1968. 272 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Астрель: АСТ, 2007.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М.: Русский язык -Медиа, 2007.