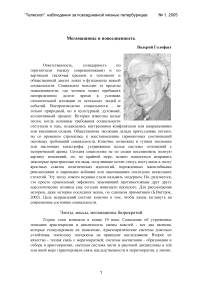Мегамашины и повседневность
Автор: Голофаст Валерий Борисович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 1, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181610
IDR: 142181610
Текст статьи Мегамашины и повседневность
отступали в тень, подавлялись внутренними конфликтами или напряжениями или внешними силами. Общественная эволюция делала причудливые зигзаги, но со временем стремилась к восстановлению гармоничных соотношений основных требований социальности. Конечно, возможны и тупики эволюции или настоящие катастрофы, устранявшие целые системы отношений с исторической арены. Сегодня социологии не по силам восстановить полную картину изменений, но, по крайней мере, можно попытаться исправить некоторые пристрастные взгляды, получившие почти статус постулатов в эпоху яростных схваток политических идеологий, порожденных масштабными революциями и мировыми войнами или завоеваниями последних нескольких столетий. Эту эпоху совсем недавно стали называть модерном. Но, разумеется, это просто приемлемый эвфемизм, заменивший противостоящие друг другу идеологические штампы еще сегодня живущего прошлого. Для рассмотрения истории, даже истории последних веков, он слишком примитивен (Б.Виттрок, 2002). Цель исправлений состоит конечно в том, чтобы иначе взглянуть на современное состояние социальности.
Элиты, массы, мегамашины бюрократий
Теории элит возникли в конце 19 века. Сожаление об утраченных позициях аристократии и цикличность смены властей - вот два явления, которые стимулировали их появление. Аристократические системы довольно устойчивы, поскольку построены на принципе наследования. Второе их качество - тесная связь с меритократией; системы воспитания - образования и отбора в аристократиях, светская система чести и ранговой дисциплины в той или иной мере гарантировали связь наследственности и меритократии, а значит, устойчивость и качество правящего слоя. Были, конечно, исключения и сбои в истории, но они быстро ликвидировались. Все правые мыслители в России сожалели об утраченных позициях аристократии, о ее деградации, от Хомякова до Бердяева.
С появлением правительственных и промышленных бюрократий, правовых систем, конституций и олигархий-демократий возникла цикличность смены властей, игра властвующей элиты и контрэлиты-соперников. Моска и Парето еще интересовались связью элит с меритократией, они считали эту связь просто естественной, природной (а не институциональной). Моска считал меритократию, впрочем, делом далекого будущего. Позже (1958 г.) социолог, а потом политик и член палаты лордов, Майкл Янг, в Великобритании, уже писал о меритократии, как идеологическом течении, противостоящем демократии сегодня, почти вне связи с наследственными элитами.
Теории масс возникли как непосредственное продолжение теории элит, их расцвет - 1920-1950 гг. (Хосе Ортега-и-Гассет, Элиас Канетти, Ханна Аренд, Эрих Фромм, Герберт Маркузе - все европейцы), хотя о них вспоминают и сегодня (Жан Бодрийяр). Образы общества масс тесно связаны с тоталитаризмом, фашизмом, нацизмом, сталинизмом, маоизмом и их производными. Явление массы интересовали мыслителей еще с конца ХУШ века. Вначале было неясно отличие толпы, публики и массы как политической и культурной силы, оставалось и запутанным соотношение между человеком с устойчивыми социальными связями и человеком массы, как продуктом дестратификации традиционного и современного общества (Ханна Аренд). Ретроспективно большое значение имела позиция Ницше. Человек массы представлялся природным осколком дисгармоничной, разрушенной или распадающейся социальности, стремящейся в тупик истории. Извращения качества человека в массе приводили его в ужас, только в особом человеке он видел воплощение всех сил природы и жизни, необходимые для здоровой социальности.
Весь девятнадцатый и часть двадцатого века прошли под путаницей классы-массы. Когда общества оказывались на грани разрушения (революции, переструктурирования), классы казались более реальными, чем все социальные институты. Машина общества-нации-государства казалась фикцией, просто невоплотимым на практике, одним из идеологических проектов, либо пережившей свое время, обветшалой и запутанной «надстройкой», преградой на пути движения. В современном обществе сверхсложных бюрократий больше нет уже места стихийным масштабным массам прошлого, бюрократиям противостоит просто атомизированная пыль.
Похоже, что классические массы приобрели несомненную убедительность в период первой мировой войны, - сцепившиеся в ней мегамашины не справлялись с воздействием на людей. Бюрократии старого типа - аристократии, монархии, армии, империи - рушились как карточные домики. Но понадобилась вторая мировая война и деколонизация, чтобы процесс пришел к более или менее устойчивому состоянию на пространстве «цивилизованного мира». Массы остаются атомизированными и бесструктурными, хотя иногда и превращаются в угрожающие порядку потоки (например, экономических мигрантов) или скапливаются в возбужденные толпы под влиянием массовых удовольствий (пивные фестивали, парады любви в Берлине, толпы болельщиков, громящие города и стадионы, бесконечные пробки автомобилей на дорогах), или возникают как фантом варварской стихии в местах природных катастроф (землятресения, наводнения, технологические сбои). Впрочем, сегодня теоретики готовы похоронить массы, массовое производство и потребление, массовую культуру и информацию в прошлом, считая, что их смерть наступает под влиянием производства «на заказ», индивидуализации, разжижения социального, его фрагментации в лоне новых технологий на всех локальных уровнях (М.Кастельс, 2000).
Понятие бюрократии выдвинулось в центр внимания после Великой французской революции. Долгое время оно было просто оружием памфлетистов, тогда как социальные мыслители были к нему равнодушны (Сен-Симон и Конт исключение). (Так, древнее понятие демократии стало заново осмысляться после анализа ее американского варианта любопытным аристократом де Токвилем). Вебер попытался снять пежоративный оттенок этого слова (бюрократия), уровняв бюрократизацию и рационализацию общественой жизни. Легитимность бюрократии и власти (после многих революций и разрывов, и опыта многих конституций) больше не зависела от религиозной санкции. Замечу, что в эпохи становления разделения властей в центре столкновений и внимания были вовсе не раскол исполнительной, законодательной и судебной, а светской и духовной власти, ибо так рождалось современное государство - «богу богово, кесарю кесарево», и церковные суды и другие формы церковной бюрократии долго еще существовали параллельно со светскими аналогами. Харизма, вождизм, наследственный авторитет еще оставались, но выражали отношение к власти не вполне освободившихся от традиций, недостаточно «рационализированных», не охваченных повседневным легальным и полицейским контролем масс. Понимание бюрократии стало нормативным, превратилось в легальный и идеологический проект. Замечательно, что на фоне Вебера фундаментальные результаты Р.Михельса и М.Острогорского более полувека оставались незамеченными, не принимались во внимание веберовскими эпигонами в США и Европе.
Совершенно другая линия рассмотрения - палеоисторическая. Люис Мамфорд открыл созидательные и разрушительные социальные мегамашины в далеком прошлом. Строители пирамид и других мегалитических сооружений древности, прежде всего ирригационных и транспортных систем, городов и храмов, крепостей и дворцов, садов и плантаций изобрели созидательные мегамашины. А с другой стороны - создатели армий, великих империй, завоеватели и разрушители древности создали военную бюрократию много веков назад. Потом возникли религиозные бюрократии (чего стоит только история инквизиции). Странно, что Вебер считал все традиционные, «патримониальные» бюрократии иррациональными, противопоставляя их современным частно-хозяйственным рациональным бюрократиям и специализированным чиновничьим государственным структурам. (Гайденко, Давыдов, 1991).
Современная масса организаций - это сплетение бюрократизированных мегамашин. Не только в национальном масштабе, но и в международном, внеправительственном, корпоративном, транснациональном секторе и т.п. Самочувствие человека в них описывает Франц Кафка. В эпоху Сталина люди представлялись винтиками. Нет человека - нет проблемы. Незаменимых людей нет. (В круге власти другой вечный плач - где взять подходящих людей для освободившихся вакансий.) Лозунги Гитлера-Геббельса воплощались в приказы и чертежи на основе законов и инструкций. Никто не сомневался в добродетели послушания. Абсурд мегамашины прошивал жизнь насквозь, любые табу и моральные колебания были отброшены. Неолиберализм (а бюрократия торговли и бизнеса фундаментальна, поскольку предельно упрощена) доктринально разрушает любые табу уже в наши дни. Никакое право не помогает, а власть становится просто храмовой проституткой. Ко всему прочему реальности культуры, традиции, влияние истории кажутся слишком мягкими. Ибо современные организации хорошо вооружены.
Традиции и культуры
Чтобы уравновесить притязания традиционных общностей с их институтами и властных организаций на индивида, возникла абстракция права, сложилось понимание политики как функции всеобщего гражданства (в отличие от эллинских и феодальных систем). Но политика (и право) - не вне мегамашин, а внутри них. «Равный масштаб, применяемый к неравным...»
Политика остается занятием властвующих кругов и тех, кто прямо с ними конкурирует, а гражданство служит охране территории власти, а не ее отправлению, изменению и связи с другими процессами общественной деятельности.
Другой ход - это разделение властей, а также становление отсеков в социальном пространстве; земного, подземного и небесного, публичного и приватного, освоенного и неизвестного, духовного и светского, отечественного и зарубежного, глобального и локального, человеческого, технологического, символического, космического... Эти разделения (Иохан Галтунг назвал их «социальной космологией», Galtung, Nishimura, 1983) тянутся издавна и закрепляются за разными типами учреждений. Особо обратим внимание на разделение повседневного и неповседневного, возвышенного, выпадающего, исключительного, отклоняющегося, странного (мы к этому еще вернемся).
Следует сказать, что за пределами западного мира культурные основы эволюции были иными.
Конфуций - ультратрадиционалист - строил из того, что было вокруг, типы отношений в его время не выходили далеко за рамки личной лояльности, он их и сопоставлял с золотым веком образцовых правителей и гармоничной социальности. И одевал в кокон культуры. Книги песен, Ли, музыки, законов и т.п. Как Учитель, Конфуций признавал самостоятельность любого (талантливого) Ученика. В сообществе учитель-ученики открытие или восстановление ценности, знания, понимания было делом взаимным. Последователи Конфуция изобрели слово Канон. Даосцы добавили космизм, индивидуальную неисчерпаемость, свободу в отношении преемственности, чань-буддисты - значение связи учитель-ученик, место и роль школы и течения, как сил, стоящих за разными проектами. Легисты обнаружили различие качеств личной лояльности и скрытые ресурсы безличных отношений и иерархий, формальной власти, контроля и манипуляции.
Школы и течения, впрочем, характерны для всех философий и духовных движений древности и в Китае, и в Греции, и в Индии, и в Арабском мире, и даже в Египте, Персии, Месопотамии, Шумерах, Вавилоне. Моральные учения были откровенно диалогичными, все время отсылали к контексту оппонентов, если и не прямо полемизировали с ними. Горизонтально текущий культурный процесс воплощал воспроизводство и обогащение традиции.
В монотеистических религиях ритуальность (церемонии Конфуция) довольно рано стала несущей платформой - отдельной, особой - всей мегамашины. На нее можно было громоздить любые варианты всего остального. Даже здания храмов вначале были не обязательны, проповедь возникала не только на агоре, но и на улице или в тайной пещере. Здесь диалог был замаскирован, вещала Пифия или пророки, доминировала иерархия. Догматизация учений в монотеистических религиозных движениях разрушала диалогичность школы. Слабость диалога в этих вариантах развития потом сказалась на апологии субъекта, разума, рациональности и индивидуализме. Единство космоса (логоса), действия и познания в западном мире было разорвано утвердившейся иерархией Бога и его Творения, а взаимность, солидарность и преемственность были подмяты властью абсолюта и абсолютной властью. Тем самым, с одной стороны, были созданы макроусловия для бурного развития в расколотых направлениях, а с другой стороны, в деформированной социокультурной системе эволюция приобретала все более зловещие, односторонние черты.
(Не забыть, что монастыри породили как университеты, так и движение религиозных орденов как автономий в лоне церкви. Кроме того, все церковные институты так или иначе поддерживали и культивировали этику служения, так же как охраняли систему догм и иерархий.)
Там, где монотеизм не возник, трансцендентное сохраняло вид звездного неба, плюрализм был не только в социальном космосе, но допускался даже на индивидуальном уровне, как в Китае, Японии, в Таиланде или во многих субкультурах Индии. Монотеизмы же неизменно приводили к религиозным войнам, предельной жестокости и тупости, как и императорские режимы, будь они самозванными, как в Китае, или божественными, как в Японии. Учения же (конфуцианство, буддизм, даосизм...) хранили диалогичность как самую главную драгоценность, даже если и принимали авторитарную форму отношений учитель-ученик или выстраивали преграды к полноправию - экзамены, испытания, ритуалы инициации,- все они требовали личного, самостоятельного усилия и свершений от ученика, а не просто внешней санкции на изменение статуса.
Если ритуальность - это прообраз институциональности отношений, то она стоит на страже социального диалога, сохраняет его возможность в любых условиях и для любых сторон или участников. В монотеистических религиях и в абсолютных системах власти безусловный приоритет институциональности отрицается, ритуальность становится подчиненным, техническим условием процесса отправления власти, а безгласное подчинение - основной добродетелью. Никакие требования к пророку или к правителю со стороны традиции не могут быть подкреплены солидарностью последователей или подданных. В лучшем случае остается только апеллировать к догмату священных текстов. Но толкование текстов быстро становится доходной профессией и превращается в игрушку власти, денег или силы. Не помогают и ереси - всегда возможен возврат к авторитарному толкованию текста, его догматизации.
Институциональность традиции (ритуал, церемония, обычай) всегда шире и глубже любого текста, любой авторитарной кодификации. Она открыта для импровизации, мутации, эволюции, притом, что всегда остается пространство устойчивого понимания возможностей действия всех участников и сторон, всех партий, всех ролей. Особость, неопределенность и случайность являются естественными составными измерениями пространства традиции, они не подрывают ее, а потенциально обогащают, кристаллизуются как прецеденты, и если повторяются, то откладываются в социальной памяти как ее обычные элементы. Их не нужно загонять в категории чуда, злонамеренного вмешательства или в темную область недоступного, непознаваемого, неподвластного человеку и обществу.
Перенос центра социальности в трансцендентность или в точку абсолютной власти лишает участников голоса и пространства возможностей понимания и толкования традиций. Эти тенденции также приводят к формализации вертикальных отношений прежде, чем будут отрегулированы все прочие отношения и учтены все дополнительные обстоятельства социального действа или процесса. Именно поэтому оказалось возможным представить традиционное прошлое как идеал и утопию социального порядка. Это утопия и идеал, поскольку все скрытые напряжения в его образе сглажены, вынесены вовне, к другим социальностям, столкновение с которыми время от времени неизбежно и опустошающе. Социальная вселенная имеет только свой горизонт.
Только «мы» можем культивировать идеал порядка, противопоставить его варварству окружения, защитить и восстановить его. (Идея «золотого века» в прошлом и грехопадения, искажения его скорее всего не является культурной универсалией, она возникает только во многих, но вряд ли во всех, специфических переходных духовных ситуациях, как и идея рая и ада.) В ветхозаветной традиции идея разделения добра и зла, Бога и Дьявола заимствована из египетского пантеона, тогда как идея избранничества
(дифференциация норм для мы и они) акцидентально связана с еврейской историей (вавилонское пленение).
При возникновении новых факторов функционирования социального организма (прежде всего геополитического, военно-политического и межкультурного контекста, а затем капитализма) существенные звенья этих идеалов были утрачены, подмяты, затемнены новыми явлениями, и социальные системы вошли в режим повторяющихся внутренних кризисов и пульсирующих структурных напряжений. Они взывали к необходимости заново урегулировать весь процесс в целом, пересмотреть заново и исходно все пространство социального во взаимосвязи его частей. Иначе говоря, возникло пространство социальных учений, этических проектов, духовных поисков. Почти сразу же оно было расколото на критику и утопию, на апологетику и реформизм.
На Востоке эти функции так и развивались по осям власть - учения, школы, течения. И отныне почти всегда побеждала власть или стихия (восстание, война, внешнее вторжение).
На Западе потребовалась Реформация и распад, отрыв религии от власти, чтобы пространство духовных поисков приобрело автономию от прагматических забот власти или догматических забот церквей. В девятнадцатом веке возникли социальные науки, безнадежно конкурировавшие с идеологиями и морально-гуманитарными учениями на протяжении всего двадцатого века. Между тем, в деформированном социокультурном универсуме как бы возник и прижился механизм социальных затмений - забвения, замалчивания, подавления или искажения императивов социальной гармонии. Радикализм, войны, революции и социальные бунты, колониализм и геноцид, дискриминация и безразличие, этноцентризм и элитизм - вот далеко не полный список социальных болезней последних двух веков европейской цивилизации. Черные пятна этих болезней к концу двадцатого века приобрели глобальный характер. Со временем часть из них была переопределена из нормальных явлений именно в болезни, но ситуация даже в духовном плане довольно далека от любых образов «золотого века», где бы их не размещали, в прошлом, в будущем, на острове или в космосе.
Возникновение колониального, коммерческого, а затем промышленного капитализма перенесло на некоторое время центр тяжести в экономическую сферу, привело к расколу общества на экономические категории и расцвету светских идеологий, как более или менее радикальных или односторонних систем убеждений, способных мобилизовать значительные общественные движения, взрывы и бунты. Борьба блоков стран, консолидированных разными идеологиями, сменилась глобализацией. Транснациональные структуры вышли из-под контроля правительств, подчинив национальные и международные правовые системы своим интересам.
(Заметим, что только финансовая и экономическая глобализация является новым явлением. Наука, технология, образование, религия, информация и значительная часть высокой и массовой культуры существуют в глобальном контексте уже не первое десятилетие).
После эпохи революций исчезло, кажется, и пространство для радикальных социальных действий (проблему терроризма мы затронем отдельно и позже).
Повседневность
Теперь можно вернуться к повседневности. Каков культурный статус этого слоя реальности сегодня? В наши дни повседневность предстает опустошенной, вернее лишенной основных сил, которые, как ныне представляется, движут вперед современный мир. Существует масса теорий, как это произошло за последние два-четыре века. Прежде всего нужно констатировать, что же оставлено человеку в повседневности наших дней. Роли работника, служащего, солдата, пенсионера или учащегося. Потребление и масскульт, туризм и воскресный отдых. Не будем говорить о неприкаянных -беженцах, экономических мигрантах, бездомных или наркоманах. Не будем вспоминать о долгих болезнях, поздней беременности, природных осложнениях или служебных поездках. И все-таки, как далеко это все от основных сил, формирующих наш мир - науки, технологии, экономики и политики.
Сегодня предполагается, что достижения цивилизации снисходят в опустошенную обыденную жизнь с эзотерических, закрытых, тайных высот научных лабораторий, испытательных полигонов, монструозных кабинетов большого бизнеса или политики, в крайнем случае - колдовских мест или сцен ведущих телеканалов, театральных залов или студий, фестивальных холлов или крупнейших стадионов мира, - т.е. мест, вся магическая сила которых создается сверхбольшими деньгами, усредненным статусом собравшейся избранной публики или концентрацией власти.
Что противостоит этой кардинальной предпосылке глубоко иерархизированного общества, размещающего сакрально-магическое высоко вверху, вне пределов досягаемости обыденной жизни и обычного человека? К чему ведет опустошение повседневности и презрение или небрежение человеком массы, улицы или квартиры? Возвышает ли достоинство человека только сам факт того, что он добивается в своей жизни, в своей обыденной жизни, нормального уровня потребления, устойчивой работы, жилья и отдыха, сохранения здоровья? Если основные страсти жизни - открытие, свершение, достижение, осмысленное созерцание, наслаждение, стремление, страдание, напряженное усилие, игра с собой и другими - покидают повседневность, изгоняются из нее, перестают цениться окружающими в самом их процессе и месте, не требуют духовных и физических сил, эмоций и ресурсов, если повседневность дегероизируется, опрощается, аккуратно упакованная, превращается только в денежный предмет потребления, она и раскрывается человеку как пустота жизни, дезориентация и проклятие - бессмыслица времени.
Теоретики обыденной жизни отмечают, что ее обесценивание произошло под влиянием современного формального образования, технократического роста роли экспертов в экономике, политике и государстве. Эти силы приводят к подмене действительной глубины и полноты жизни, ее многокрасочности и полиморфности перемолотыми коммерческой властью и бюрократическими требованиями суррогатами: «На место духовной культуры общества и специализированных знаний экспертов приходят бульварная литература, уличный жаргон, анекдоты, возделывание огородиков, соседская взаимопомощь, самообразование и все другие воплощения принципа «сделай сам» (Вальденфельс, 1991, с.45). Повседневность атомизированного, индивидуализированного общества оторвана от функционирования основных институтов, сохраняет черты архаических малых порядков традиции, остается «закваской» нового и странного, даже сохраняет качества «плавильного тигля» всех форм рациональности, творчества и отклонения, но она явно противопоставлена мегамашине государства и общества (Вальденфельс, 1991). Силы разделения труда, разделения знания и рынков, бюрократические иерархии, привилегии правящих элит, капитала и статуса монополизируют основные ценности жизни и организуют их в противостоящий обыденной жизни макропорядок - сакрально-магическое пространство, где только и происходят все важные события.
(Признаем, однако, что в современном мире существуют силы, противостоящие такому явному разведению макропорядков общества и микропорядков повседневности. Среди прочих, одна из таких сил - интернет. Виртуальная реальность может соединить несоединимое по мере того как она просачивается во все поры общественного организма. Впрочем, не забудем, что пока она служит в большей мере господствующим механизмам финансовых спекуляций, военной координации, науке и технологии, коммерции и масскульту. Борьба за социокультурньгй потенциал виртуальной реальности еще только разворачивается.)
Согласно расхожим теориям, обыденная жизнь образует «нишу выживания», антропологических императивов, она построена на «тактиках случая», является способом «сопротивления тех, кто лишен власти». Устройство современных макропорядков таково, что они не нуждаются более в легитимации посредством идеологий, рассчитанных на всех или только на лишенных власти, поскольку могут опираться на старое как мир насилие, манипуляцию и «потребительский соблазн», являющийся побочным продуктом современной экономики. (Добавим, что фактически господствующие силы не нуждаются даже и в безусловном послушании отдельных элементов массы. Об этом говорит стандартный абсентеизм во время выборов, терпимость к любым отклонениям, поддержка любого плюрализма, переполненные тюрьмы и бесконечные гетто современных мегагородов, конструирование все новых и новых средств контроля над массами и новых барьеров для их скитаний через границы стран, охраняемые властью.)
В связи с этим теряют свою функцию разоблачителей идеологии и интеллектуалы, а социальные науки оказываются не у дел, они становятся не нужны власти и воротилам экономики. Социальные науки в лучшем случае превращаются просто в гуманитарное занятие, опираются на стремление сделать жизнь понятной себе и в какой-то степени и другим, но без претензий «нести им истину», гуманитариям предстоит «спасать культурные ценности» от технократического давления и растворения в релятивизме ради взаимопонимания между людьми. (См. Козлова, 1992, которая так интерпретирует работы Лиотара, Фейерабента, Баумана, Маффесоли, де Серто).
Интересно, что есть по крайней мере одна область высокой культуры, которая долгое время как бы не замечала униженного, обесцененного статуса повседневности. Более того, именно в обыденной жизни она искала и черпала все свое вдохновение и все свои наивысшие достижения. Эта область -литература, прежде всего проза. К ней примыкал театр (со всем его отчаянным консерватизмом) и в меньшей степени кинематограф (по определению, вечно авангардный и высоко-технологичный). Но, заметим, - не телевидение, не радио, не периодика, не масскультура как целое (малые исключения -популярные песни и танцы).
Конечно, искусство - это сфера воображаемого. Но поскольку эта сфера -часть реальности, ей и не удается избавиться от повседневности, отвернуться от нее, третировать как примитив, пережиток или убожество, отбросить как мусор. Отдельные жанры пытаются это делать (фэнтэзи, вэстерны и вообще коммерческие жанры). Они обслуживают рынки, тогда как традиционные медиа - прежде всего власть.
Может быть, дело в том, что именно в повседневности проносятся мысли и чувства, замирают сожаления и желания и зреют замыслы, порывы и стремления. А без них литература или театр - пусты. И реализм повседневности не подавить никакой техникой. Здесь человек не только повторяет изо дня в день незаметно для него все время меняющуюся свою жизнь, но и без конца пробует новое или пытается от него уклониться, избежать экспериментов с собой, опять таки не вполне сознавая это.
Наконец, есть по крайней мере одна категория населения, для которой повседневность составляет весь круг жизни,- в его пределах осуществляется открытие мира и его освоение, испытание себя и преодоление других. В этом круге жизни укоренены все их мечты и страдания. Эта категория - дети. И как известно, мир детства не существует без своего мифического дополнения -сказки. Области воображаемого и фантазии. Идеального и таинственного, в которую проектируется основная ценность - будущее, «когда я вырасту».
Если согласиться с подобными общими оценками повседневности, становятся более понятны многие другие выводы теоретиков «постсовременности». Так, 3. Бауман (Бауман, 2002) обращает внимание на странную двойственность положения элитных кругов: они чрезвычайно мобильны территориально, оснащены всеми средствами деятельности в глобальных контекстах, освобождены от ответственности за последствия своей деятельности в пространстве своей активности и одновременно выстраивают себе эксклюзивные пространства, непроницаемые и закрытые для постороннего внимания и воздействия.
Другая судьба ждет в условиях мегагородов обычного человека. Традиционная организация локальной жизни разрушена, растворена, со всех сторон он натыкается на административные и институциональные барьеры и границы, человек чувствует себя одиноким, заброшенным и неприкаянным. И наряду с этим обречен на пребывание в неустроенной локальности, не может ни преодолеть ее хаос, ни выскочить из круга обыденного существования ни в одиночку, ни групповыми усилиями. «Взрослые дети» выталкиваются в мир воображаемого, ложного жизнеустройства, где им оказываются доступны только ограниченные возможности удовольствий реального или виртуального потребления, симулированного «участия» в жизни «большого общества».
Даже самая «сильная» форма «социальной самореализации» человека -его занятость, профессиональная жизнь - оказывается под угрозой. Неустойчивость и гибкость коммерческих систем подрывает глубину переспективы в этом секторе индивидуальной жизни, фрагментирует ее, подрывает тем самым ее ценность для человека как поле долговременных замыслов, стремлений, проектов и стратегий. Психологически есть только один выход - дистанцироваться от этого сектора, снизить его значение в круге жизни.
Для многих социальных категорий оказываются недоступны другие горизонты жизни, кроме повседневности. Монотонность и малозначимость событий начинает угнетать человека, чувство реальности притупляется, интерес замирает. Нужны сильные внешние толчки, чтобы вывести человека из надоевшего состояния. «Взрослым детям» явно требуется социальная помощь. Между тем, подогреваемые коммерческим давлением и социальной дезориентацией, современного человека со всех сторон осаждают ловушки архаических решений - мифов, суеверий, новых религий, паранаучных манипуляций и давно отживших технологий.
В этом контексте можно рассмотреть такие проявления жизни человека, как образование и работу, потребление и развлечения, сексуальное развитие и отношения, любовь, брак и гендер, родителей и детей, здоровье и болезнь, рождение и смерть, - короче, все витальные проявления. Это значит, что изменения проникают в самую глубину ткани человеческого существования. (См., например, Бауман, 2002).
Вначале молодежь, а затем прочие члены общества отходят от ориентации на господствующие институты, учреждения государства, бизнеса, коммерческих систем и вовлекающих агентств политики - партий, движений и прочих «приводных ремней» власти. Повседневность активных членов общества организуется в виде более или менее устойчивых тусовок, которые некоторые авторы (Маффесоли, Фуре, 2002, с.36-40, Согомонов) сравнивают с «трибами» прошлых эпох или с мигрирующими стаями, рыхло организованными виртуальными (с помощью мобильного телефона и интернета) или реальными малыми сообществами современных мегагородов. Однажды мы их назвали «плавающими сетями», а некоторые (например, Михаил Донской) называют их «облаками».
В каждом таком сообществе можно выделить центр и периферию, более или менее устойчивых и относительно случайных временных членов, вся деятельность которых завязана на общение, совместное существование, взаимопонимание, инициативу и поддержку. Их отношение к окружающим институтам имеет значение, но используется в качестве фона, чрезвычайного ресурса или только символического признака, который позволяет ориентироваться другим. Но в качестве правила, на передний план выступают индивидуальные чувства и способности, инициатива и отклик, взаимное опознание или опыт, добровольность и умеренное бескорыстие как основа всех отношений. Перспектива, которая волнует членов подобных объединений, это возможность открытия и укрепления личных отношений, их поддержания и возобновления за пределами ситуации «здесь и теперь», вхождение в устойчивые сети и связи, где можно сохранить себя, где тебя будут устойчиво опознавать, где к тебе будут относиться как к особой единице, к особе, к уникальности, индивидуальности. По принципу дистанциации отношений (их независимости от контекста пространства-времени, Э. Гидденс) теперь строятся не только личные отношения, но и многие общественные инициативы, даже глобальные, а тем более многие профессиональные связи, светские или коммерческие доверительные отношения. Эти, проникнутые личным элементом, интересом или признанием, связи противопоставляются анонимности, безразличию и техницизму административно-бюрократических иерархий. В последних личный элемент или незаконен, или просто утрачен, его нужно всякий раз завоевывать или покупать заново, не говоря уже о том, что гарантии давления или цены непрочны, двусмысленны и чреваты неопределенностью и риском.
Безличности, равнодушия, голой функциональности и так хватает в окружающей общественной среде. Идет ли речь о контакте частного лица с общественным институтом или о регулярном или случайном собрании многих лиц под их эгидой - эффект, как правило, один и тот же. Любые общественные ритуалы и церемонии превратились в тягостное отбывание повинности, на них солируют представители власти или «официальные фигуры», неудержимы формализм и пустота таких собраний, их предсказуемая конечность и выхолощенность оставляет чувство глубокой душевной пустоты у всех участников. И никакие перспективы в этом чуждом повседневности социальном хаосе по большому счету не интересуют людей. С ним люди вынуждены взаимодействовать, но это акты технические, конечные, без развития, без продолжения, кроме разве тех случаев (как правило, чреватых трагедией или по крайней мере неприятностями), когда мегамашины втягивают в себя человека как очередную новую жертву. И грозят изувечить или превратить в ресурс. Даже в умеренно сносных условиях уделом «человека-клиента» становятся томительное ожидание, скука, раздражение, злость или ярость. Хотя, как известно, «клиент всегда прав» и его уделом должны быть удовольствие и счастье. Остаться только техническим клиентом мегамашины, раз уж пришлось обращаться к ней, - вот основная установка экзистенциальной безопасности, разумности, «рациональности». Выйдя из всякого технического акта, человек нередко говорит себе «ух, пронесло», он даже готов поклясться, что никогда больше не будет его повторять. Но, конечно, это случается снова и снова. Вот почему человек стремится найти убежище в трибах.
Спектр тусовок, трибов чрезвычайно широк: от дружеских пирушек до более или менее спонтанных массовых собраний, концентраций, шествий и даже демонстраций. И разумеется, можно наблюдать масштабные классовые или статусные вариации. Коллективная повседневность низших слоев относительно бедна и близка к формам традиционных образований и времяпрепровождении. Более или менее состоятельные слои («средние») оформляют свое участие вполне целенаправленно, опираясь на значительные ресурсы и ценности, они стремятся придать коллективной жизни глубину, богатство и сохранение (а не разрушение) многозначности и культурного смысла.
Личные отношения в сходных сообществах в прошлом обычно назывались дружбой. Но дружба была подростковым или мужским - женским союзом, сопоставимым с другими традиционными формами отношений -браком, любовной парой, расширенной семьей, знакомыми и коллегами, соседями или родственниками. Теперь все эти традиционные формы отношений в мегагородах почти унифицировались, гомогенизация и охлаждение отношений уничтожили, стерли или предельно ослабили все традиционные и когда-то столь важные оттенки заложенных в них институционализированных чувств, содержаний и перспектив. Теперь сами люди переопределяют столетние традиции, но усилия каждого должны поддерживаться другими, чтобы успех распространялся на всех участников. А это и есть содержательная характеристика новых трибов.
Патологические формы повседневности
Сегодня тусовки, трибы не всегда нейтральны, они не только воодушевляют человека или дают ему пространство свободной игры индивидуальности. На первый взгляд по принципам тусовок функционируют сегодняшние секты, криминальные сообщества и другие теневые образования. Было время, их пытались интерпретировать в терминах клубной самоорганизации. Различие состоит в закрытости подобных форм, в их привязке к территории или локальности, в исходной функциональности, в борьбе за внутреннюю иерархию и за лидерство.
Современные трибы снимают все эти ограничения, они полуоткрыты, транслокальны, синтетичны по интересам и избегают любой жестко заданной эволюции формы, они исходно анархичны, не признают никакой, ни символической, ни реальной власти. Реакция ухода, выпадения является универсальным механизмом, предохраняющим трибы от вырождения.
Другой ложной формой, которую легко принять за трибы, являются коммерчески или политически организованные мероприятия. В них тоже наблюдается иногда интенсивное общение, брожение, воодушевление. Это значит, что такие мероприятия могут использоваться трибами в своих целях, но как только вырисовывается любая угроза их самодеятельности, трибы в таких мероприятиях немедленно исчезают, растворяются, испаряются и перемещаются в другую обстановку.
Утрата перспектив в «большой социальности», равнодушие и незаинтересованность в ней значительных групп активных членов общества, перенос центра тяжести индивидуальной и коллективной жизни в трибы ведет к очень странному состоянию социальности. Вряд ли это состояние может быть исторически долговременным и устойчивым. Куда же повернет социальная эволюция дальше?
Совершенно ясно, что трибы довольствуются «малым» духовным содержанием, а именно тем, что составляет текущие духовные запросы обычных активных людей. Именно в силу «малости» они рискуют соскользнуть в формы предельных стремлений (секты) или в эксперименты с предельными жизнеными состояниями (преступность, наркотики, рисковые жизненные авантюры, архаические учения и идеологии). Удержать людей в зоне «нормальности» могут только «большие» исторические традиции, социетально проверенные жизненные ценности. Но именно они сегодня не вызывают у людей доверия, именно их монополизировали силы «большого общества» и превратили в гигантскую машину манипуляции людскими массами и потоками. Такова дилемма постсовременных обществ.
Новые племена, разумеется, никуда не кочуют. Идея триба - это попытка описать отсутствие внешне заданной формы, текучесть самоорганизации в сложном обществе, которую легко принять за имманентную неустойчивость и эфемерность, случайность и незначительность. Между тем это впечатление было бы ошибочным. Трибы характерны сегодня для ситуации больших городов, там, где людям все время приходится уклоняться от воздействия социальных мегамашин, стоящих в основе, в базисе и на страже макропорядков общества.
Иной ситуация выглядит в небольших сообществах или в этнических общностях культурных меньшинств, сохраняющих внесемейные традиционные институты. В них традиционные иерархии и инстанции власти не могут также легко игнорироваться или релятивизироваться как современные бюрократические институты в мегагородах. Более того, современный манипулируемый традиционализм («изобретение традиций») обостряет борьбу за место в иерархиях, использует в этой борьбе угрозу социальной изоляции (остракизма, бойкота, в отличие от городского или бюрократического безразличия) или прямое применение силы. На силу или власть так или иначе приходится опираться и при любой попытке коллективной самоорганизации. Так этнические неотрадиционалистские образования становятся питательной средой терроризма. Опираясь на достижения современных технологий (панорама потребления открыта всем!), но расходясь с современными макроинститутами в целях, средствах, принципах и нормах, или прямо противостоя им, террористические команды становятся экстремальными патологическими формами нового трибализма.