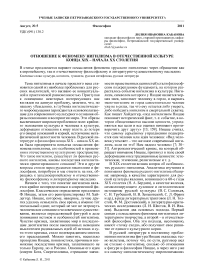Отношение к феномену нигилизма в отечественной культуре конца XIX - начала XX столетия
Автор: Кабанова Лилия Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.
Бесплатный доступ
Культура, нигилизм, гуманизм, русская метафизика, русская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14749951
IDR: 14749951
Текст статьи Отношение к феномену нигилизма в отечественной культуре конца XIX - начала XX столетия
В статье предлагается вариант осмысления феномена «русского нигилизма» через обращение как к европейскому, так и отечественному философскому и литературно-художественному наследию. Ключевые слова: культура, нигилизм, гуманизм, русская метафизика, русская литература
Тема нигилизма в начале прошлого века становится одной из наиболее проблемных для русских мыслителей, что вызвано ее концептуальной и практической равновеликостью. Приступая к освещению некоторых интересующих нас взглядов на данную проблему, заметим, что, по нашему убеждению, в глубинах нигилистического мироощущения зарождаются основополагающие для современного культурного сознания образы понимания и восприятия мира. Эти образы высвечивают широкое проблемное поле: крайнего положения культуры и человека в культуре, деформацию отношения к миру вплоть до потери его (мира) оснований и корней, истончение метафизической целостности человека. В русской литературе и философии конца XIX – начала XX века была предпринята попытка осмысления феномена нигилизма, его особенностей в применении к отечественному культурному пространству. Что такое нигилизм, существует ли феномен русского нигилизма, каковы последствия нигилистически ориентированного сознания? Эти и другие вопросы стояли перед русскими писателями и философами, попробуем и мы ответить на них, обращаясь к западноевропейскому и отечественному философскому и литературному наследию.
Начнем с того, что понятие нигилизма является крайне неопределенным в современной философии. Классическое определение предложил Ф. Ницше, затем его реинтранслировал М. Хайдеггер. Ницше, которому, наверное, лучше других удалось осмыслить свое время, а именно тот эпохальный сдвиг, который не мог не затронуть человеческое сознание и человеческое существование, является определяющей фигурой в деле понимания истоков и особенностей нигилизма. Чувство кризиса, захватившее мир в последующие десятилетия после высказанных немецким мыслителем радикальных идей об истоках и сути этого кризиса, стало подтверждением многих его предсказаний. Можно заметить, насколько прозорлив Ницше, поняв истоки, причины и возможные последствия кризиса, захватившего не только Европу, но и Россию. Основные его идеи (смерти Бога, Сверхчеловека, отрицание значи- мости нравственных ценностей) стали философским подкреплением фундамента, на котором разрасталось событие нигилизма в культуре. Нигилизм, символом которого у Ницше является черная змея, заползает человеку в горло, и вырвать змею-нигилизм из горла самостоятельно человек уже не в силах, так что ему остается либо умереть, либо победить нигилизм в смертельной схватке. Как пишет Хайдеггер, «под нигилизмом Ницше понимает исторический факт, т. е. событие, в котором обесцениваются высшие ценности, упраздняются все цели и все оценки начинают противоречить друг другу» [13; 159]. Ницше считал, что самому серьезному упразднению подвергается сам человек или идея человека: «Вид человека утомляет – что же иное современный нигилизм, если не это? Нам надоел человек» [7; 30– 31]. Антропологический кризис, на который обращает внимание Ницше, притянул в поле своей деформации и все традиционные ценности: эстетические, этические, религиозные и т. д.
В XIX столетии возник вопрос об особенностях русского нигилизма. Аналитика изучения и понимания феномена русского нигилизма обширна: например, в качестве характерного для русской культуры явления, возникшего в 60-е годы XIX столетия (Н. А. Бердяев), в качестве явления, символизирующего духовное и онтологическое истощение русской культуры (В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, В. В. Зеньковский, С. Л. Франк и др.), в ряде литературных трактовок (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский), в литературно-критических исследованиях (Л. И. Шестов, В. И. Иванов). Выделим два основных подхода. Первый связан с осмыслением феномена нигилизма в литературном творчестве, а второй – в отечественной философии. Оба эти подхода, несомненно, имеют «точку схода», ибо получают свое развитие от единого культурного корня.
В русской литературе в постановку проблематики нигилизма фигура Ницше оказалась тесно вплетена, потому что, по сути, разговор шел не столько о нигилизме, сколько об отношении к фигуре и философии Ницше, а через него уже и к самому нигилистическому миропониманию.
Неслучайно иронично, но верно замечает С. Хоружий: «Разве Ницше не русский философ? Какая свадьба без баяна, какой без Ницше Серебряный Век… Ницше – его пророк и столп!» [14; 24]. Символично, что нигилизм именуется Ницше еще и как «русский фатализм». Вполне возможно, это, может быть, случайное сравнение, используемое Ницше, когда он говорит о фатализме без возмущения, с каким русский солдат, когда ему слишком тяжел военный поход, ложится в снег и умирает, приобретает весьма недвусмысленное значение в деле понимания русского нигилизма. Ничего не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя, вообще не реагировать больше (формула «мне все равно»). В литературе появляется такой «новый герой», но даже не Базаров Тургенева, в котором есть эта нигилистическая определенность, но человек, не осознающий вполне, что с ним происходит и почему, и куда девались все цели и устремления, и что делать со своим страданием. Разумеется, хочется сказать словами Достоевского: «…я говорю лишь про тех, которые живут и думают. Остальные же наживаются и не знают, для чего живут на свете» [3; 119]. Но есть ведь и начало этой фразы, в которой те, которые живут и думают, «циничны и сплошь нигилисты» [3; 119].
Такой человек живет по принципу «все равно», часто впадает в сомнамбулическое состояние перманентного самоубийства (вспомним интерес Достоевского к самому феномену самоубийства в русском обществе). На грани реализации этого последнего своего жеста находится типологический с точки зрения нигилистического миропонимания персонаж, герой рассказа Достоевского «Сон смешного человека». У него нет имени. Оно ему ни к чему, ибо имя определяет что-то весомое и важное. Именем многое предопределено. Оно предохраняет от падения в бездну невнятного и смешного. Достаточно того, что герой рассказа определяет себя в качестве «Я». «Я» – человек без имени, уставший, не реагирующий более ни на что. «Они» – люди, вызывающие грусть и тоску в его уставшей душе. Это чаще всего люди, на которых герой «натыкается», случайные прохожие или собеседники. Они удивляют его своей жизненностью. Идут куда-то, о чем-то горячо спорят, отстаивают свое мнение, не понимая, что им, в сущности, тоже все равно, однако признаться в этом – значит прослыть смешным или, хуже, сумасшедшим. Смешной человек всю свою жизнь подозревал, что смешон, но, подобно другим, боялся признаться, боялся думать об этом, пока и сама эта боль не притупилась более весомой, ощущением бессмысленности всего происходящего с ним. Тогда в душе зародилась и укрепилась мысль о том, что «везде все равно» [2; 479].
Если для Достоевского опустошенная душа, находящаяся на грани сведения счетов с жиз- нью, – литературная тема, то для Льва Толстого – испытание всей жизни. Разумеется, тема нигилизма проходит сквозь его творчество невнятно, приобретая четкие контуры в одном из самых сложных произведений с точки зрения феноменологии души – в «Исповеди». Можно сказать, что это произведение об уникальном опыте преодоления (или непреодоления) душевной пустоты, возникшей вдруг, ниоткуда на самом пике жизни и творчества, когда все как будто безупречно: семья, дети, состояние, успех, здоровье, но… пустота (чему я могу научить, повторяет вновь и вновь Толстой, если сам ничего не знаю о жизни). Вопрос, который привел писателя в возрасте около пятидесяти лет к мысли о самоубийстве: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожал бы неизбежно предстоящей мне смерти?» [10; 54], так и остался без ответа. На главный вопрос жизни «зачем?» для Толстого не нашлось ответа ни в современной науке, ни в философии, ни в религиозных учениях. Ответа Толстой не только не нашел, как ни старался, но убедился еще прочнее, что «бессмыслица жизни есть единственное и несомненное знание, доступное человеку» [10; 53]. Истиной стало убеждение, что жизнь есть бессмыслица, и оно сделало из жизни писателя, как он сам признается, «одно нераздельное по времени страдание» [10; 48]. Толстовская песнь отчаянию с перебором цитат из Платона, Шопенгауэра, библейских притч Соломона и индийской мудрости – это гимн нигилизму: «мир есть ничто» [10; 61]. В русской литературе тема нигилизма слилась воедино с темой бессмысленности (одновременно в русской философии тематика поиска смысла станет определяющей). Что же до творчества Толстого, то, как замечает Шестов, в основе его желание разрешать только те вопросы, которые лично глубоко волновали писателя, а также «потребностью понять себя и окружающую жизнь, отбиться от преследующих сомнений и найти для себя – хоть на время – прочную почву» [15; 54]. Поиск почвы характеризуется бескомпромиссностью и беспощадностью в отстаивании своих принципов, но разве не то же самое, задается вопросом Шестов, так раздражало русскую публику, прикоснувшуюся впервые к текстам Ницше? Не эта ли сосредоточенность Ницше на своих внутренних переживаниях, кои должны были стать мерилом для всех и ни для кого? И почему тогда именно Толстой в русском сознании явился той нравственной силой, которая может и должна противостоять европейскому ницшеанству? И насколько, собственно, они чужды друг другу – Толстой и Ницше? Доводы Шестова основаны на идее понимания добра Толстым и Ницше. В обоих случаях концепт добра безотносительно к мотивам и способам его реализации становится определяющим, а тезисы «Бог умер» и «Бог есть добро» имеют один и тот же источник – страда- ющая душа автора. Впоследствии Толстой признается, что смысл можно найти в вере, и именно в вере простых людей, но как поверить? Ницше, как известно, также положил все силы своей души на то, чтобы найти веру. И вот резюме Шестова: «Там, где не верит Ницше, не верит и гр. Толстой. Но Ницше этого не скрывает (он скрывает другое), граф же Толстой считает возможным не рассказывать своим ученикам о той пустоте в своем сердце, над которой он воздвиг столь блестящее в литературном отношении здание проповеди» [15; 112].
Огромное влияние литературы на культуру в России бесспорно. На данный аспект обращает свое внимание А. Пятигорский, определивший ли-тературоцентризм русского сознания как «фиксацию» [8; 262] объекта, и таким объектом была и остается литература, поэтому и отечественная философия, возникнув в сфере литературы, вокруг литературы как своего основного объекта, продолжала развиваться на протяжении всего XIX, да и XX столетия тоже.
С философской точки зрения определяющим в деле понимания феномена нигилизма является представление о его сущностных, связанных с истощением онтологических приоритетов в культуре, основаниях. Одной из основных причин распространения нигилизма стала углубляющаяся с середины XIX столетия в европейском и русском сознании тенденция к позитивизации и закономерному в этих условиях смещению от метафизического измерения в сторону утилитарно-позитивистскую, что отразилось на общем состоянии культуры. Наиболее актуальными оказались в связи с возникшей обеспокоенностью положением культуры размышления Владимира Соловьева. Согласно важнейшей для становления русской философской традиции концепции Соловьева о Всеединстве, частное бытие идеально лишь тогда, когда не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, а общее идеально в той мере, в какой оно дает место частному. Эти элементы не должны исключать друг друга и одновременно не должны исключать целого, то есть утверждать свое частное бытие на единой всеобщей основе. В ситуации ухода от онтологических приоритетов в культуре теряется «целое культуры» [9; 78], что является показателем нарушения взаимной солидарности и равновесия частей и целого. Следствием «разбалансировки» будет то, что почва начнет уходить из-под ног, обнаруживая критическую недовоплощенность, несформиро-ванность опыта онтологического постижения мира. Не выдерживая напора того, что должно быть понято и реализовано в неком сознательном усилии, но не понимается и не реализуется, прорвется тончайшее заграждение над бездной, именуемой хаосом. Обнаружится вдруг, что подпорка, на которой держалось Все, не вызывавшая, однако, сомнения в своей прочности и надежно- сти, может оказаться не более чем жалкой бута-фориадой, не обеспеченной ничем, как то усилием понимать и видеть, и человек виснет в пустоте, прямо как во сне Л. Н. Толстого, описанном им на последних страницах «Исповеди». Кажется, что все хорошо и прочно, но вдруг видишь себя висящим над бездной на одной помочи, которая тоже того и гляди не выдержит.
Поиск онтологических ориентиров в начале XX столетия выдвинул на первый план проблему смысла. Интерес к проблеме смысла в русской философии свидетельствует о поиске адекватных времени и состоянию человеческого сознания ответов. Важность данного усилия нарастает по мере укрепления в культуре и сознании феномена нигилизма, определяемого в русской философии, как, собственно, и в литературе, что мы могли заметить, через актуализацию тематики бессмысленности.
Е. Н. Трубецкой пишет книгу «Смысл жизни», в которой поясняет, что смысл – это безусловная, общезначимая мысль, которая носит всеобщий и необходимый характер и потому является истинной. Он наделяет смысл онтологическими качествами, которыми в ранней греческой философии наделяется Бытие. Однако любая постановка вопроса о смысле упирается в непостижимое и мучительное для человека представление о бессмысленности жизни: «Тот смысл, которого мы ищем, в повседневном опыте нам не дан и нам не явлен; весь этот будничный опыт свидетельствует о противоположном – о бессмыслице» [11; 23]. Символом бессмысленной жизни является порочный круг, ницшеанская идея вечного возвращения. Интуиция порочного круга, замечает Трубецкой, – основа нигилизма, религиозного, философского, экзистенциального (феномен скуки). «Но впечатление “скуки” производит это круговращение лишь до тех пор, пока речь идет о мертвом веществе. Скучным может казаться бесконечное чередование прилива и отлива в море, бессмысленное вращение земли, наподобие волчка, вокруг своей оси. Но когда мы от мертвого переходим к живому, ощущение этой всеобщей суеты становится несравненно более болезненным» [11; 24]. Эта болезненность связана с осознанием бессмысленного кружения человека по кругу (словно волчок вокруг своей оси), в котором цель остается недостигнутой, а иллюзия смысла – разрушенной. Русская литература богата персонажами, находящимися в тисках дурной бесконечности, и чем более они эту свою человеческую участь осознают, тем невыносимее и отвратительнее кажется им жизнь. Но и это еще не предел бессмыслицы человеческого существования. Предел наступает тогда, когда человек не по своей воле оказывается втянутым в чужие планы, является средством в большом и равнодушном механизме государственной, идеологической или военной машины. Включение хотя бы одного человека в механизм убийства, вражды или наживы обнаруживает мировую бессмыслицу «культуры». Что же говорить о бесконечных военных кампаниях, в которых люди убивают друг друга? Мы не знаем, замечает Трубецкой, служит ли культура очеловечению или «озверению духа», так как очень часто мы наблюдаем картину, при которой человек приобретает звериные черты, опускаясь в примитивный биологизм. Размышляя о «новом» положении современного человека, Вяч. Иванов в одной из работ по теории культуры замечает, что основным настроением человека в мире стали растерянность и уныние: «…неопределенно-жуткое ощущение, как будто бы почва поплыла из-под ног» [5; 103]. Это настроение стало проявляться в начале века в эпидемии самоубийств, прокатившихся не только в России, но и на Западе. Мир заболел нигилизмом. Нигилизм – «пафос обесценения и обесформления» [6; 83]. Русский нигилизм, продолжает Иванов, кроется в отрицательном полюсе человеческой объективирующей способности, то есть, попросту говоря, в определенном взгляде на мир, который характеризуется «отрицательной, нетворческой, косной, дурной стихией варварства… истинный русский нигилизм следствие… полунадменного, полубуддийского убеждения нашего в несущественности и неваж-ности всего» [6; 83].
Основной в отечественной философии является мысль о духовных истоках нигилизма. В. В. Зень-ковский отмечает, что «бесшабашный нигилизм» довольно прочно вошел в русский обиход в XIX веке: «…весь этот нигилистический строй ума слагался в связи с утерей былой духовной почвы» [4; 87]. Нигилизм, по мнению автора, проходит красной чертой через всю историю духовной жизни в России; Зеньковский связывает его проникновение в сознание с характерным для русского миропонимания радикализмом и максимализмом. Эта особенность русской души нашла себе поддержку в религиозном чувстве. Присущие ему формы «ухода» от мира способствовали формированию и укреплению в русской душе демаркационной линии между миром эмпирическим и миром божественным, что связано с русским восприятием христианства, для которого существенно чувство «нераздельности», но и «неслиянности» мира божественного и человеческого. Если выразить это в философских терминах, то мы имеем здесь дело с мистическим реализмом, который признает всю действительность эмпирической реальности, но видит за ней иную реальность; обе сферы бытия действительны, но иерархически неравноценны; эмпирическое бытие держится только благодаря «причастию» к божественной реальности. Умозрительное видение за этим чувственным миром мира божественного и трансцендентного породил феномен, называемый Зеньковским русским ради- кализмом (нигилизмом), который учит бояться всякой «серединности» и умеренности. Таким образом, радикализм становится оборотной стороной нигилизма, а обе эти стороны крайне опасны, так как вкупе порождают монстров сознания то в виде какой-нибудь утопии, то в виде отказа от какой-либо деятельности вообще. Отсюда и антитеза «все или ничего». Так как «все» остается лишь мечтой, то «ничего» приобретает практическую значимость, «оставляет душу чуждой житейской трезвости» [4; 40].
Кульминацией развития темы служат размышления С. Л. Франка. В стремлении распознать и описать особенности современной культуры, «схваченной» нигилизмом, он использует метафорический образ «тьмы» и характеризует это духовное затемнение как «кризис веры в человека или кризис гуманизма» [12; 40]. В основе философской концепции Франка – вера в Богочеловеческую основу человеческого существования, в идею того, что Бог есть внутренняя основа нашего собственного бытия – та почва, на которой мы стоим. Настаивая на необходимости восстановления идеи человека, кризис которой в современной культуре породил феномен нигилизма, то есть безверия и опустошенности, Франк разделяет в человеке природное и сверхприродное: «Бытие человека не ограничено тем, что он есть природное существо; именно в качестве личности он есть существо сверхприродное, родственное Богу» [12; 85]. Сама идея личности привнесена в мир христианством и не была знакома античному миру. Осознание себя личностью в новоевропейской истории привнесло трагическое чувство одиночества в мире, но, будучи одиноким в мире, человек не должен быть одиноким в бытии, и это чувство рождается вместе с верой в свое божественное происхождение. Не обходит вниманием Франк и упоминаемое уже нами в свете рассмотрения философии Ницше понятие гуманизма. Гуманизм, или вера в человека, имеет христианскую основу. Новоевропейский гуманизм, дитя эпохи Просвещения, возникший в качестве оппозиции христианскому человекоутверждающему мировоззрению, подразумевает идею прогресса и материализма. Это мировоззрение, властвовавшее над умами людей на протяжении XIX и XX столетий, Франк именует «профанным гуманизмом» [12; 42]. Профанным, ибо человек, согласно научным теориям, получившим самое широкое развитие с конца XIX столетия, был признан частью природного мира, потомком обезьяноподобного существа. Дарвинизм переместил внимание с человека как существа нравственного и разумного к представлению о человеке как существе природном. Так называемый профанный гуманизм, по мысли Франка, стал новой псевдорелигиозной верой, и опасной стороной его распространения становится культивируемое в натуралистиче- ских установках довольно примитивное представление о человеке. Не вдаваясь в дальнейшие развиваемые Франком идеи, отметим, что основная критика за саму возможность распространения нигилизма в русском обществе возлагается им на интеллигенцию. Франк критикует русскую интеллигенцию за пассивность и несмелость в вопросах противостояния негативным тенденциям в культуре, что связано с сильно развитым субъективизмом, а «субъективизм адекватен только чистому последовательному нигилизму» [12; 54]. Субъективизм руководствуется местечковым (провинциальным) миропониманием, а любой провинциализм – это узость взглядов и сужение ореола фундамента, почвы. То, на что мы опираемся, должно быть чем-то большим, чем наше собственное субъективное настроение: «Опираться можно только на почву, которая нас держит, а не на собственное “нутро” и руководиться можно только звездами, а не собственным вымыслом» [12; 54].
В некотором смысле особняком в деле понимания «истоков и смысла русского нигилизма» стоит точка зрения Н. А. Бердяева, который обозначил нигилизм как характерно русское явление, возникшее в России в неизвестной для Западной Европы форме, то есть как политический, а не духовный феномен. Бердяев отмечает, что в основе нигилизма – некая принципиальность, тоталитаризм русского сознания, доведение всего до крайности, например, в увлеченности какими-нибудь политическими или социальными идеями. Потому и русскую интеллигенцию он называет не иначе, как радикальной, догматической интеллигенцией, которая приняла раскольничий характер, то есть жила в расколе с окружающей действительностью. «Русские, – пишет Бердяев, – вообще плохо понимают дифференциацию разных сфер культуры. С этим связан русский максимализм» [1; 19]. Бердяев поясняет, что нигилизм – это своеобразное «эмансипированное умственное движение» [1; 37] 60-х годов, главными идеологами которого выступили Писа- рев, Добролюбов, Чернышевский – представители русских просветителей-материалистов, догматично и революционно настроенные: «Русский нигилизм отрицал Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности. В основе русского нигилизма лежит… признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли» [1; 38]. Что стало исходом подобного умонастроения, общеизвестно. Нигилизм и большевизм слились в революционном порыве, приведя Россию к тому, к чему они ее привели, но это, вероятно, тема для другого исследования.
Резюмируя, заметим, что осмысление нигилизма в русской культуре не было однозначным, но объединяющим для литературы и философии стало представление, согласно которому нигилизм соразмерен с онтологической, духовной, экзистенциальной недовоплощенностью человеческого бытия. Нигилизм – потеря опоры или почвы. Поэтому практически в каждом тексте на эту тему и в тех, которые мы рассмотрели, есть интуиция этой утраченной основы, того, что удерживает человека на поверхности. Чувство потери почвы на философском языке означает потерю мира, потерю смысловых ориентиров, невозможность дать адекватный ответ на вопрос о смысле жизни. Тогда нигилизм приобретает черты отрицания принципиальных оценок, объективного различия между добром и злом, объективных ценностей, таких как научная истина, художественная красота, религиозная вера и т. д. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, – это первоначальная кажущаяся безобидность нигилизма, при которой попадание в это состояние не воспринимается как попадание во что-то такое, что действует разрушительно, и тем более не воспринимается как смертельная опасность. Но вспомним образы проникновения нигилизма в душу человека, которые описывает Ницше, Достоевский или Толстой. Нигилизм – черная змея, заползающая в горло, и этот неприглядный образ тем и хорош, что убедителен.
Список литературы Отношение к феномену нигилизма в отечественной культуре конца XIX - начала XX столетия
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 c.
- Достоевский Ф. М. Сон смешного человека//Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. М.: Лексика, 1994. С. 478-497.
- Достоевский Ф. М. Записные книжки. М.: Вагриус, 2000. 158 с.
- Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 544 с.
- Иванов В. И. О кризисе гуманизма. К морфологии современной культуры и психологии современности//Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 102-111.
- Иванов В. И. Спорады//Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 73-90.
- Ницше Ф. Генеалогия морали//Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Избранные произведения. Кн. 2. М.: Мысль, 1990. С. 3-149.
- Пятигорский А. М. Философия или литературная критика//Пятигорский А. М. Избранные труды. М.: Языки русской культуры, 2005. С. 256-263.
- Cоловьев В. С. Общий смысл искусства//Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 73-90.
- Толстой Л. Н. Исповедь//Толстой Л. Н. Не могу молчать. М.: Сов. Россия, 1985. С. 39-97.
- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. 432 с.
- Франк С. Л. Свет во тьме. М.: Факториал, 1998. 256 с.
- Хайдеггер М. Ницше: В 2 т. Т. 1. СПб.: Владимир Даль, 2006. 457 с.
- Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции. М.: Издательский дом «Парад», 2005. 446 с.
- Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше//Избранные произведения. М.: Ренессанс, 1993. C. 39-159.