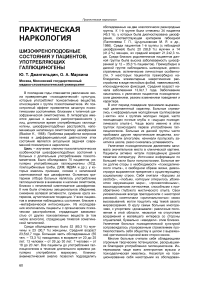Шизофреноподобные состояния у пациентов, употребляющих галлюциногены
Автор: Джангильдин Ю.Т., Маркина О.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Практическая наркология
Статья в выпуске: 3 (50), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295272
IDR: 14295272
Текст краткого сообщения Шизофреноподобные состояния у пациентов, употребляющих галлюциногены
Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет
В последние годы отмечается увеличение числа приверженцев «психоделической» культуры, которые употребляют психоактивные вещества, относящиеся к группе психотомиметиков. Их психотропный эффект проявляется зачастую психотическими состояниями, близкими к типичной шизофренической симптоматике. В литературе имеются данные о высокой распространённости у лиц, длительное время употреблявших галлюциногены, шизофреноподобных расстройств, напоминающих негативную симптоматику шизофрении (Blacker K., 1968). Проблема разработки вопросов генеза и дифференциальной диагностики этих состояний является актуальной задачей современной психиатрии и наркологии.
Цель – изучение клинико-психопатологических особенностей шизофреноподобных состояний у больных с длительным употреблением психото-миметиков. Было обследовано 75 пациентов, регулярно употребляющих галлюциногены (ЛСД, псилоцибиновые грибы, ДХМ, МДМА и др.), у которых имелись признаки, схожие с негативной симптоматикой при шизофрении. Основным критерием отбора больных являлось употребление галлюциногенов в анамнезе и наличие симптомов, близких к негативной симптоматике шизофрении. К ним были отнесены эмоциональное обеднение, снижение волевой активности, сужение круга интересов, аутистические тенденции. У всех пациентов в анамнезе наблюдались состояния, близкие к «метафизической интоксикации». Из исследования исключались пациенты с органическим психическим расстройством, страдающие зависимостью от других психоактивных веществ (в том числе алкоголя), страдающие тяжёлой соматической патологией.
Среди обследованных было 52 (69,3 %) мужчины и 23 (30,7 %) женщины. Средний возраст 23,5±2,7 года. Большая часть обследованных (55 чел. – 73,3 %) находилась в возрасте от 20 до 25 лет, 13 человек – от 26 до 30 лет, 7 человек – от 18 до 20 лет. Все пациенты до употребления галлюциногенов в течение длительного времени регулярно употребляли марихуану. Клиникоанамнестический анализ позволил подразделить обследованных на две нозологически разнородные группы. К 1-й группе были отнесены 34 пациента (45,3 %), у которых была диагностирована шизофрения, соответствующая критериям гебоидной (Пантелеева Г. П., Цуцульковская М. Я. и др., 1986). Среди пациентов 1-й группы (с гебоидной шизофренией) было 20 (58,8 %) мужчин и 14 (41,2 %) женщин, их средний возраст 21,2±2,3 года. Среди близких родственников пациентов данной группы была высока заболеваемость шизофренией (у 12 – 35,3 % пациентов). Преморбидно в данной группе наблюдались шизоидные, демонстративные, астенические личностные особенности. У некоторых пациентов преморбидно наблюдались элементарные невротические расстройства в виде нестойких фобий, навязчивостей, ипохондрических фиксаций. Средний возраст начала заболевания 13,9±1,7 года. Заболевание начиналось с увлечения пациентов психоделическим движением, резким изменением поведения и характера.
В этот период поведение принимало выраженный делинквентный характер. Больные стремились к неформальным молодёжным группировкам («хиппи» или к группам молодых людей, часто посещающих ночные клубы и «ищущих психоделического опыта»). Чаще всего именно в этих группах происходило первое употребление галлюциногенов. Больные из данной группы часто пробовали другие наркотические вещества, злоупотребляли алкоголем, начинали пропускать занятия в школе, резко снижалась успеваемость.
Увлечение психоделическим движением занимало значительное место в клинической картине. Пациенты активно читали посвящённую данной тематике литературу. Источники информации по большей части были популистскими. Больные вели долгие споры о необходимости «психоделического опыта», о свободном образе жизни, демонстрируя выраженное презрение к существующему социальному строю. Себя считали « борцами за свободу », « людьми, которым открылось убожество окружающего мира », « просветлёнными », высокодуховными личностями, способными к приобретению глубокого мистического опыта. Свои умозаключения всегда преподносили с некоторой рисовкой, кокетничали «оригинальностью» своих высказываний, могли пошутить над темой своего мировоззрения. В кругу семьи больные многоречиво, с упорством «доказывали» различные положения в этой области, несмотря на отсутствие возражений и малейшего интереса со стороны слушателей, буквально «изводили» этим близких. Увлечение больных психоделической культурой сопровождалось утрированным стремлением противопоставить себя обществу в целом с выраженной критической оценкой всех сторон жизни.
Многие больные считали себя обладающими огромным творческим потенциалом, раскрывшимся благодаря употреблению галлюциногенов. Интересовала чаще всего электронная музыка и психоделическая живопись. Несмотря на позиционирование себя некоторыми из обследован- ных людьми творческими, мало кто из них мог представить реальные плоды своей деятельности. При указывании на этот факт больные злились, обвиняли окружающих в «непонимании себя и искусства». Произведения больных отличались примитивностью, стереотипностью. В рисунках часто повторялись одни и те же темы, узоры. Наблюдалось общее обеднение контактов. Употребление галлюциногенов (в отличие от проб других наркотических веществ) больными от близких не скрывалось. Напротив, они бравировали своей сопричастностью к данной области.
Вышеописанная симптоматика у больных наблюдалась в течение 2—3 лет, а затем постепенно сглаживалась. Больные возвращались к принятому в своей среде образу жизни, восстанавливались в учебных заведениях, некоторые из них получали высшее образование. Увлечение психоделической тематикой отходило на второй план, хотя время от времени и вспоминалось больными. На момент обследования выявлялась разной степени выраженности негативная симптоматика. У них наблюдалось сужение широты интересов. Хотя часть больных и заявляла об интересе к психоделической литературе, к буддизму, к духовным практикам в период, непосредственно предшествующий обследованию, ими не предпринимались попытки к изучению этой тематики. Родители больных отмечали, что больные, ранее целые дни проводившие в изучении подобной литературы, значительно к ней охладели. Хотя они и продолжали принимать галлюциногены, но менее регулярно, чем ранее. Преморбидные увлечения также не вызывали у больных особой заинтересованности. В то же время они могли успешно справляться с учёбой или служебными обязанностями. Часть обследованных работала в сферах интеллектуального труда. Эти больные уделяли внимание изучению профессиональной литературы. Эмоциональные проявления отличались незрелостью и поверхностностью. Отношение к близким людям было сугубо рациональным, хотя у многих больных данной группы и существовала потребность в их опеке. Отмечалась некоторая замкнутость. Социальная адаптация была достаточной или несколько сниженной из-за того, что при большом объеме знаний, при способности к хорошему запоминанию, комбинированию, умению хорошо говорить больные не могли достаточно полно применять их на деле.
У 14 больных негативные изменения на момент обследования были более глубокими, у них выявлялась выраженная эмоциональная холодность, иногда в сочетании с избирательной повышенной чувствительностью («психэстетическая пропорция», по Э. Кречмеру), пассивность и бедность интересов, выраженная ограниченность контактов, нарушения мышления с отчетливыми признаками резонерства, грубая задержка психического развития, низкий уровень социальной адаптации.
Средний возраст начала употребления галлюциногенов в группе пациентов с гебоидной ши- зофренией составил 15,2±2,1 года. Употребление наркотических веществ начиналось в скором времени после развёртывания вышописанной клинической картины. Первое употребление галлюциногенов у всех пациентов данной группы происходило в компании (часто в неформальных молодёжных группах). Первым употреблённым галлюциногенов у 14 (41,1 %) обследованных был ЛСД, у 10 (29,4 %) – псилоцибиновые грибы, у 10 (29,4 %) – ДХМ. После первого употребления галлюциногенов обследованные продолжали приём наркотических веществ этой группы с регулярностью от 1 раза в месяц до 1 раза в неделю. Все обследованные за период употребления галлюциногенов «пробовали» разные препараты данной группы. Для пациентов с гебоидной шизофренией была характерна частая смена препаратов, хотя практически у всех можно было выделить наиболее предпочитаемый наркотик.
Наиболее часто употребляемым препаратом (не менее 1 раза в 2 месяца) у 11 (32,3 %) обследованных был ЛСД, у 14 (41,1 %) – ДМТ, у 9 (25,7%) – псилоцибиновые грибы. 12 человек, в том числе 5 регулярно принимавших ЛСД и 7 регулярно принимавших ДМТ, сезонно употребляли псилоцибиновые грибы. Пик употребления галю-циногенов у пациентов с гебоидной шизофренией приходился на возраст 15—18 лет, в период развёрнутых проявлений гебоидных расстройств. С угасанием гебоидной симптоматики галлюциногены использовались обследуемыми значительно реже (около 1 раза в месяц), многие пациенты заменяли их полностью или частично марихуаной.
Среди мотиваций к употреблению редко присутствовало желание к самопознанию, чаще наблюдались стремление к облегчению межличностных контактов, жажда новых впечатлений. Увлечение психоделическим движением в рамках описанной клинической картины можно квалифицировать как проявление своеобразной «метафизической интоксикации». Употребление галлюциногенов, с одной стороны, для обследуемых было важным атрибутом принадлежности к психоделическому движению, с другой – употребление этих препаратов часто помогало пациентам в общении с другими людьми.
В группу пациентов с шизоидной психопатией был включен 41 пациент. Среди них было 32 мужчины (78,0 %) и 9 (21,9 %) женщин. Средний возраст 25,7±3,5 года. Большая часть обследованных (35 чел. – 73,3 %) находилась в возрасте от 20 до 25 лет, 6 человек – от 26 до 30 лет.
У пациентов второй группы в преморбиде отмечались шизоидные черты на уровне акцентуации. С первых лет жизни у них наблюдались признаки дизонтогенеза в виде ускоренного психического развития: интеллектуальное опережение сверстников, ранняя дифференцированность эмоциональных проявлений при отсутствии дисгармонии между физическим и психическим развитием. Этим больным были свойственны богатство воображения, склонность к фантазированию и мечтательность. Наряду с этим родственники отмечали такие черты, как ранимость, чувствительность, впечатлительность, ограниченность контактов, капризность, упрямство и связанные с этим некоторые трудности адаптации. С 5—6 лет уже обнаруживались избирательность интересов, склонность к коллекционированию, увлечение чтением при хороших успехах в учебе. В первую фазу пубертатного периода (11—12 лет) происходило формирование стойких сверхценных интересов (поэзия, музыка, живопись, философия, математика и др.). Из-за неумения пациентов приспособиться к общепринятым стандартным требованиям и высокомерного упрямства при отстаивании своих взглядов и образа жизни возникали конфликты со сверстниками, родителями и педагогами. К 13—14 годам особенно ярко проявлялось критическое отношение к действительности, стремление к самостоятельности и независимости, преклонение перед авторитетами одних и пренебрежение и даже неприятие других. В 15— 16 лет на этом фоне происходило формирование односторонней направленности интересов, приобретающих сверхценный характер, перенос их в область восточных религиозных учений, психоделического искусства, духовных практик, усиленное чтение книг по этим темам. В это же время часто происходила первая проба галлюциногенов. Деятельность этих больных носила продуктивный и даже творческий характер, что выражалось в успешном окончании специализированных школ, получении призов на олимпиадах, похвальных отзывах специалистов, ранних первых публикациях. В психоделческих кругах больные часто считались знатоками, собирали вокруг себя группы единомышленников. К психоделическим практикам относились серьёзно, тщательно подходили к выбору дозировок и препаратов, окружающей обстановке. Переживаемые во время наркотического опьянения ощущения часто фиксировали в специальных дневниках, анализировали их, делились впечатлениями с единомышленниками. В этот период отношения с родителями становились более отчуждёнными, часто возникали конфликты из-за образа жизни больных. Несмотря на свои увлечения, большинство пациентов успешно заканчивали средние учебные заведения и продолжали обучение. В дальнейшем интерес больных к духовным практикам не уменьшался, они продолжали изучать специальную литературу, проводить эксперименты с наркотическими веществами. Постепенно сужался их круг общения, чаще они предпочитали ограничиваться общением с единомышленниками. Больные начинали меньше прислушиваться к мнению родственников, часто пересматривали свой жизненный уклад, полностью концентрируя свою деятельность на духовных практиках и экспериментах с наркотическими веществами. Если в подростковом возрасте больные ещё пытались учиться общению с окружающими, то с возрастом переставали видеть в этом смысл, обосновывая свою позицию выборочными положениями из восточных духовных учений. На момент обследования испытуемые были пассивны, находились в некотором смысле «на обочине жизни», работали в меру необходимости, часто лишь для того, чтобы не конфликтовать с родственниками. Они старались избегать ситуаций, в которых было возможно возникновение негативных аффектов. Часть пациентов объясняла это «желанием избежать плохих трипов», другие говорили о «нежелании погружаться в суету жизни».
Даже если пациенты из данной группы вставали перед необходимостью решения насущных проблем, они старались минимизировать аффективную насыщенность ситуации. Многие пациенты для решения проблем использовали галлюциногены, под воздействием которых пытались отыскать верные решения и «отрешиться от ситуации». Один из пациентов описывает эту жизненную позицию как желание избежать «вовлечения в реальный мир со всеми его проблемами и трудностями» при помощи «медитации и абстрагирования» и достижения «нирваны». Проблемы он разрешает и возвращается в мир «через заднюю дверь», без вовлечения и эмоциональных затрат. У большинства пациентов наблюдались малое осознание недееспособности, минимальные ощущения внутреннего конфликта, низкая мотивация для терапии.
Круг их общения был очень узким, в него чаще всего входили единомышленники. Общение с друзьями ограничивалось совместными медитациями, «разделённой тишиной» или дискуссиями о наркотиках. Они избегали новых близких знакомств, с людьми вне избранного круга общение было формальным, поверхностным, были способны к общению, когда речь шла об интересующих их темах, и подчас оказывались интересными, увлечёнными собеседниками. Однако в силу исходно свойственной шизоидам аутичности и под воздействием своеобразного психоделического взгляда на жизнь не видели в общении особой необходимости.
Средний возраст начала приёма галлюциногенов у пациентов этой группы составил 21,2±3,1 года. Периоду употребления галлюциногенов у большинства пациентов (35—85,4 %) предшествовал период регулярного употребления каннабиноидов. Первая проба галлюциногенов у части (23—56,1 %) пациентов данной группы происходила в компании (не более 2—3 человек), у 18 (43,9 %) – в одиночестве. Первым употреблённым галлюциногенов у 20 (41,1 %) обследованных был ЛСД, у 7 (17,0 %) – псилоцибиновые грибы, у 14 (34,1 %) – ДХМ. После первого употребления галлюциногеном все пациенты продолжали приём наркотических веществ этой группы с регулярностью от 1 раза в месяц до 1 раза в неделю. Все обследованные за период употребления галлюциногенов «пробовали» разные препараты данной группы. Большинство пациентов данной группы со временем находили «свой препарат», после этого другие препараты употреблялись редко. Наиболее часто употребляемым препаратом (с частотой не менее 1 раза в месяц) у 23 (56,0 %)
обследованных был ЛСД, у 15 (36,6 %) – ДХМ, у 3 (7,3 %) – псилоцибиновые грибы.
Галлюциногены использовались обследованными в высоких дозировках, необходимых «для мистического опыта». Так, ДХМ использовался в дозировках от 7,5 мг/кг, что соответствует 3 и 4 «плато» (распространённая в кругах употребляющих галлюциногены терминология, обозначающая выраженность наркотического эффекта). В популярном среди наших пациентов руководстве по употреблению ДХМ приведено следующее описание эффектов этих плато: « Высшие плато гораздо менее рекреационнее низших, они более интроспективны, спиритуальны и шаманичны. Многие люди, использующие ДХМ для психонав-тических исследований или духовной работы, делают это на высших плато ».
Галлюциногены рассматривались пациентами этой группы как важный шаг на пути к духовному совершенствованию. Кроме того, целый ряд свойств галлюциногенов приводил к формированию психической зависимости у пациентов данной группы. А. Е. Личко (1983) отмечалось, что шизоидные подростки склонны к употреблению дурманящих вещества, которые «льют воду на мельницу» шизоидных фантазий, делая их более чувственными и красочными. Галлюциногены же обладают рядом эффектов, делающих их особенно привлекательными для сенситивных шизоидов. Фактически эти препараты давали шизоидам по собственному желанию практически в любой момент возможность погружаться в столь близкую для них среду собственных фантазий, отрешаться от мира. Система взглядов, пропагандируемая в психоделических кругах, позволяла шизоидам не ощущать своей ущербности, а, напротив, чувствовать себя духовно совершенствующимися, не зависящими от условностей.
Описанные особенности формирования доминирующих познавательных интересов психоделической направленности нельзя расценивать как собственно метафизическую интоксикацию. Согласно дифференциально-диагностическим критериям, предложенным А. Е. Личко (1989) для истинной метафизической интоксикации, в отличие от транзиторной, характерно нелепое, противоречащее логике содержание идей, которые излагаются нечетко, даже сумбурно, вычурно; такие больные не ищут единомышленников; наблюдаются падение работоспособности, отчуждение от близких. Симптоматика больше соответствует признакам транзиторной «метафизической интоксикации». Однако, если по описанию А. Е. Личко (1989) транзиторная «метафизическая интоксикация» у шизоидов претерпевает обратное развитие к 22—24 годам, то у обследованных нами пациентов подобной тенденции не отмечалось.
У пациентов выделенной группы не наблюдалось коренных личностных изменений и речь скорее идет о своеобразном психопатическом развитии. Каких-либо перемен в характере или появления новых «нажитых» особенностей личности после пубертатного периода не отмечалось. Сохра- нялся свойственный им и прежде личностный склад. Постоянство их личностной дисгармонии с преобладанием аутистических установок, некоторого своеобразия эмоциональных реакций и особенностей протекания интеллектуальных процессов дают основание оценивать этих пациентов в рамках шизоидной психопатии. В пубертатном периоде имеет место заострение личностных свойств. Наблюдавшаяся динамика проявляется не столько в качественном, сколько в количественном видоизменении личностных черт в период полового созревания. Имеющаяся симптоматика является отражением психопатического развития сенситивных шизоидов.
Таким образом, шизофреноподобные состояния у пациентов, длительное время употребляющих галлюциногены, имеют разную нозологическую природу. У части пациентов эта симптоматика является следствием дебютировавшей в пубертатном периоде гебоидной шизофрении. В период развёрнутых гебоидных расстройств у пациентов наблюдались делинквентное поведение, эмоциональное обеднение, сужение контактов, неожиданное горячее увлечение психоделической культурой, познания в которой оставались крайне поверхностными, употребление галлюциногенов.
Важной является дифференциальная диагностика этой группы с пациентами, у которых наблюдается своеобразное развитие шизоидной личности. У последних увлечение психоделической культурой формировалось постепенно, часто ему предшествовал глубокий интерес к восточным учениям. Пациенты этой группы изучали посвящённую их увлечению литературу, творчески её перерабатывали. Принципы, лежащие в основе психоделического движения, инкорпорировались в жизненные установки больных, которым премор-бидно были свойственны аутистичные установки. Это сочетание приводило к формированию у больных состояния, первоначально оцененного нами как «шизофреноподобное». Дифференцированный подход в оценке психопатологических нарушений у пациентов с регулярным употреблением психотомиметиков позволяет решать не только теоретические вопросы их генеза, но и нацеливает на разработку более адекватных индивидуализированных терапевтических программ.