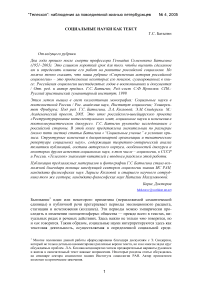Социальные науки как текст
Автор: Батыгин Геннадий Семенович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Современная история российской социологии
Статья в выпуске: 4, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181629
IDR: 142181629
Текст статьи Социальные науки как текст
В качестве объекта исследования всегда выступает текст как результат работы языковой системы. Однако само различение внутри корпуса научного знания невербализованного компонента, в том числе замысла, дискурсивных техник производства и организации текстов науки, включая бытовую коммуникацию, полемику и институционализированный текст, принимающий форму публикации (сообщения, охраняемого дисциплинарным узусом, приоритетами и авторскими правами), дает возможность прояснить языковую перспективу в социологии знания. В фокусе исследования оказываются схемы действий говорящего, а также языковые единицы, которыми он оперирует по определенным правилам. Проблемой является также перенос когнитивных моделей из одной тематической области в другую, в том числе qui pro quo. Языковая компетентность не сводится к знанию морфем, лексем, норм синтаксиса и фонетики. Здесь работают прототипы научных концептов, неэксплицированные представления. Различение концептуальной и языковой картин мира позволяет проблематизировать полноту языковых ресурсов дисциплины и их адекватность концептосфере науки. Достаточно ли оснащена теория языковыми ресурсами, чтобы стать парадигмой? Гипотеза заключается в том, что парадигматизация знания определяется степенью его вербализации: чем более специализирован лексикон дисциплины, «правила соответствия» и область фактофиксирующих предложений, тем сложнее ее институциональная организация и влияние на совокупный научный текст. Иными словами, теория начинает доминировать в научном сообществе только тогда, когда ее текст принимает завершенную структурную форму.
Социальные науки редко рассматривались как автономная текстовая «вселенная». Методом изучения гуманитарии как литературного образца был «вульгарный социологизм» — выведение ее задач из научных и культурных запросов эпохи, идеологии или «быта». В этом случае знание неизбежно редуцируется к субстанции производственных отношений, «власти», «травмы» или иных таин- ственных сил, образующих настоящую, а не самосознательную, реальность. Ю.М. Лотман прочертил обратную траекторию: от литературы к жизни — и представил все это как «текст» — универсальную объяснительную модель. Отсюда и идея реальности текста, который приводит к возникновению новой реальности, уже внетекстовой: культуре, политике, социальной жизни, в том числе повседневности. Так происходит «олитературирование» социальных наук, политического сознания, идеологий (официальных и повседневных).
Социальные науки представляют собой эпистемическую химеру — соединение сущностно несоединимых феноменов знания: описания реальности как она есть и идеального проекта, не признающего мир в его наличном бытии и стремящегося изменить его в соответствии с художественным идеалом. Этот разрыв между проектом и миром, отчетливо артикулированный романтической традицией, в значительной степени определяет интеллектуальный контекст социальных наук в России, где печатное слово является источником «коллективных представлений», репрезентантом священного3. Результатом конституирования «письма» как формы организации природного и человеческого материала стала реификация социального проекта как вырожденной формы эсхатологии. Социальные науки подчинены здесь задаче социального преображения4 и, соответственно, освобождены от тривиальных «позитивистских» проблематизаций, обнаруживающих значимость в безыскусности факта и тем самым ставящих свое предназначение в зависимость от сопротивления материала. Избавленные от фактичности, социальные науки (равно как и идеологии) выполняют не денотативную функцию (описание реальности), а функцию фигуративную, связанную с производством репрезентаций — превращением внетекстовой реальности в текстовую социальность5. Тематическая картография науки в немалой степени определяется включенностью знания в денотативный или фигуративный контекст. Математика, химия, физика описывают мир. Философия, социология, культурология и политическая наука, в меньшей степени филология должны выражать личность творца и получать от него свою ценность6. Тем самым нормы производства социального знания оказываются интегрированными в инородную идейную среду, а научное сообщество — подчиненным разнонаправленным ценностным векторам: оно должно быть сообществом «социальных ученых» (эта некорректная для русской литературной нормы конструкция в данном случае достаточно точна), задача которых заключается в связывании общезначимых определений реальности для массового сознания, и одновременно исследователей «фактичности», работающих для колледжа. Так приходится служить двум господам.
«Нормальные» науки отличаются от наук социальных и других форм знания (эстетического, повседневного, религиозного) не столько предметным материалом, сколько методом текстообразования. И в том и другом случае создаются текстовые конструкты. Однако конструкт конструкту рознь. Одни конструкты проверяемы и, следовательно, в этом смысле реальны , другие являются вымышленными (данное обстоятельство может быть открыто задано семантикой конструкта, но может никогда не обнаружиться), третьи принадлежат сфере воображаемого (имагинативного)7. Наука как форма знания конституирует внетекстовую реальность, точнее, создает специфический вид текста, репрезентирующий внетекстовую реальность, — данные, которые очерчивают область «фактов». Их отличие от высказываний заключается прежде всего в референциальности, то есть возможности универсальной процедурной проверки независимо от «точки зрения» исследователя. Действительно, цифры обладают магическим свойством быть объективными. При этом «данные» всегда могут быть отличены от внетекстовой реальности и оценены параметрами релевантности, надежности и точности. Данные, концепты и связывающие их рассуждения (выводные процедуры) образуют «теорию», преобразующую реальность в текст и таким образом соединяющую в себе «реальное», «вымышленное» и «воображаемое». В результате акта вымыслообразования воображаемое приобретает сущностное свойство реального и обретает непроницаемость социального факта. Действие текста состоит в том, чтобы сделать наглядным взаимодействие вымышленного, реального и имагинарного, создать предпосылки для перекодировки наличного мира для постижения мира неналичного. В. Изер отмечает, что пока системы знания являются организующими формами наличного мира и исполняют свою регулятивную функцию, их принимают за саму реальность и поэтому не замечают. Акт селекции разрушает их заданный порядок, тем самым превращая их в объект наблюдения. Но сама селекция не задана системой, как акт вымыслооб-разования она обнаруживает интенциональность текста, вводит в текст внетекстовые реальности. В этом отношении совершенно не важны «подлинные» намерения авторов, поскольку различения, которыми они руководствуются, заданы самим текстом.
Вымысел играет существенную роль в производстве научного знания и в деятельности социальных институтов, но литературный вымысел своей вымыш-ленности не скрывает. Соответственно, требуется и определенное отношение к тексту как вымыслу. А в социальных науках вымысел приобретает промежуточную форму точки зрения, которая есть не что иное, как форма селекции, преодоления границ. Так или иначе, «реальный мир» заключается в скобки — «как если бы» он был вымышленным. Социальные науки отличаются от литературы тем, что сохраняют естественнонаучную установку на существование реального мира. С помощью кантианской конструкции als ob8 из представления о возможном извлекаются необходимые следствия для реального и указываются направления пересечения границ как основное условие вымыслообразования. Но почему из внетекстовой реальности произведен именно такой отбор — установить невозможно9. К. Поппер считал, что область «творчества» в методологии науки не может быть проблематизирована: выбор als ob конструктов и новых селекций может быть вызван сновидением, озарением, экстазом, страхом, но ни один из эмоциональных или волевых импульсов не объясняет селекции и способа текстообразования.
Основная трудность текстового анализа социальных и гуманитарных наук в России заключается в их структурной неотграниченности от публичной агенды, представленной в массовой информации, социальной публицистике, политических дебатах, в определенной степени — художественной литературе. Это создает феномен тематически и стилистически контаминированного дискурсивного пространства, где социальные и гуманитарные науки должны быть предварительно вычленены из совокупного текста по некоторым неявным, но значимым критериям. С аналогичной проблемой сталкивается библиограф-систематизатор, обязанный отнести произведение к одному из разделов публикационного потока и руководствующийся, как правило, явными критериями: заглавием произведения, сведениями об ответственности и видом издания, зная, что элементы библиографического описания лишь репрезентируют авторскую речь. Так и проникновение во внутренние пласты совокупного текста гуманитарии часто дает иную картину, чем представленная на авансцене науки.
Погруженная в публичный дискурс научная речь сопротивляется своему растворению в чужеродном идейном составе, иногда ругается, но чаще капсулиру-ется, прячется от давления внешней среды и создает защитные слои и буферные формы взаимодействия с «общественностью». По всей вероятности, этот промежуточный, по природе химерический, слой образует основную массу текста социальной и гуманитарной науки, где находят выражение не столько профессиональные, сколько собственные мысли гуманитариев. Иной вопрос, откуда возникают собственные мысли. Актуальность научной темы, то есть ее способность изменить модели объяснений, заменяется здесь актуальностью общественного интереса, прозрачная доказательность соседствует с эзотеричностью и суггестивностью аргументативных стилей, внутренняя экспертиза вытесняется эффективным продвижением текстового образца на рынок «символических репрезентаций», профессиональная работа уступает место интеллектуальной жизни и свободе самовыражения.
Создаются «элитно-маргинальные» зоны гуманитарной науки, порождающие специфический вид текстообразования, где ключевую роль играют альтерна- тивные образцы теоретизирования и экзальтированного речевого поведения10. Сформировавшись в 1960–1980-е годы как «андерграунд», или катакомбный (самиздатовский) слой социального знания, внутренне связанный своей борьбой с официальной культурой11, в 1990-е годы этот текст утратил возможность автономного существования и выродился в разновидность «великого отказа», оснащенного концептуальными фантомами «насилия», «травмы», «власти», «деконструкции», репрессированного либидо и т. п. Семантические аналоги «совращения» стали наиболее заметной инновацией в социальных науках переходного периода. Аналогичный параллельный процесс наблюдается и в российской литературе12. В частности, одной из важных (судьбоносных) дискуссий, открывших период «гласности», была допустимость эротических тем и ненормативной лексики в литературной речи. Фактически задача заключалась в делегитимации привычных селекций нормативного универсума и определений «должного», лежащих в основе социальных порядков и норм литературного (и научного) вкуса. Направления преобразований были определены в рамках литературного процесса 1920-х и 1930-х годов13, но в точно таком же виде они были привнесены «докторальной публицистикой» конца 1980-х годов в философию, социологию, экономику, частично в литературоведение и языкознание.
В условиях быстрой переориентации тематического репертуара и смены «иконостаса» хрестоматийных имен происходит и поиск новых образцов и базовых метафор социально-гуманитарного знания. Поскольку институциональная организация науки, моральный контроль «колледжа» и механизмы нормативной регуляции научного воспроизводства (школы, нормы рецензирования, стратификация литературного корпуса, «эффекты Матфея») оказались в значительной степени разрушенными еще при коммунистическом режиме, в 1970–1980-е годы, реструктурирование текстового пространства социальных и гуманитарных наук в определяющей степени стало зависеть от энтузиазма (одержимости) индивидуальных акторов, осваивающих рынок идей примерно так, как осваивается terra incognita. Так возникло множество новых «звездных» имен в библио- графических списках социальных и гуманитарных наук постперестроечного периода. Однако и традиционная (профессиональная) наука продолжала свою работу, усилив формирование многослойного текстового пространства — конгломерата тем, речевых стилей, разновидностей успеха, публикационной активности, «трастовых» отношений, стратегий цитирования, включенности в сети научной коммуникации, отношения к публичным институтам, социальных статусов. Иными словами, «республика ученых» приобрела вполне демократический вид, где на фоне перманентного гражданского конфликта идет интенсивный поиск канона, классики, форм солидарности, институциональной поддержки и трансмиссии культурного образца — создается «нормальная наука» и соответствующие институциональные реквизиты профессии.
Если рассматривать вертикальную стратификацию текстового пространства, можно предположить, что его высшие страты маркируют себя противостоянием нормативизму и «свинцовому позитивизму», создают эталон виртуозной интеллектуальной игры, где техника репрезентации материала не выходит за рамки бриколажа, и индивидуализация авторского стиля является условием воспри-знания в сообществе14. Однако «альтернативная гуманитария» все-таки стремится создать матрицу нормативных образцов и, следовательно, проходит неизбежный для каждого интеллектуального стиля период рутинизации. Поиск этих образцов реализуется, как правило, по схеме масс-коммуникативного воздействия, где исповедь, разоблачение, скандал, сенсация, интеллектуальная (а также светская) жизнь «героя-звезды» являются функциональными эквивалентами воспризнания (успеха)15. Процессы структурной дифференциации совокупного текста социальных и гуманитарных наук сопровождаются и соответствующей дифференциацией научного сообщества уже вне модели академической иерар -хии16, путем воспроизводства художественного, «интеллектуально- культурного», образца, включенного в ряд символических репрезентаций, «зрелищ» и инсценировок, в том числе и инсценировок научной деятельности. Одним из маркеров альтернативной интеллектуально-культурной «элитности» в 1990-е годы являлась «признанность на Западе», и сама позиция репрезентанта «западных» ценностей позволяла создать новое измерение социального статуса в российском интеллектуальном сообществе17. Какие бы внешние различия ни проводились, задача отграничения научного текста от публичного в условиях структурных преобразований институтов воспроизводства знания (сама постановка такой задачи часто отвергается) требует учета семантического задания, стилистики и прагматики текста — его обращенности к «публике» либо профессиональному сообществу — референтной группе ordo literatorum, являющейся гарантом воспроизводства корпоративных ценностей дисциплины. Проблема заключается не в нарушении норм производства знания и «разрушении науки»18. Даже когда нормы нарушаются, само осознание нарушений поддерживает нормативный порядок. Иная ситуация возникает при создании социаль-но-эпистемических химер, подмене норм, когда научное производство превращается в производство культурное, непредвиденный результат деятельности интеллигенции. Тогда механизм взаимозаменяемости институтов начинает способствовать разрушению нормативного образца. Если так, то диффузность тематического репертуара социальных наук определяется не столько поиском новых идей и концептуальных подходов, сколько неразвитостью академических институтов, отсутствием автономии академического сообщества от внешних форм социальной регуляции и воспризнания научного результата19.
значительно трансформировались. Вместе с тем возник и новый слой, отстраненный от научных институтов.
Воспроизводство литературного образца эпохи включает и соответствующий ему тип чтения. Читатель пересоздает текст, превращает его в факт семиотического обращения и воспризнания (или невоспризнания) в дискурсивном пространстве. В некоторых ситуациях превращение произведения в социальный факт непосредственно не связано с его открытостью и, в частности, институтом «публикации» — как раз неопубликованные (недоступные) произведения могут формировать значимые сегменты текстообразования, в том числе его мифологии: апокрифические зоны и «предания». В советский период такую, отчасти мифологическую, функцию выполняли так называемые «спецхрановские» тексты (которые были широко известны в узком кругу и способствовали фрагментации профессионального сообщества на «посвященных» и «профанов»), а также переложения идей в аллюзивной «эзоповой речи»20. Советским режимом был поставлен уникальный эксперимент по цензурированию желательного и нежелательного чтения, который привел к фантастическому усилению значимости «закрытых» текстов и их точечного воздействия на круг чтения и интеллектуальное сообщество. Несомненно, советское общество (внутри себя) не было государственно-иерархической (административной) системой с навязанной «сверху» монолитной идеологией «марксизма-ленинзма». Формой существования этой системы бы непрекращающийся идейный конфликт и деконструирование легитимационных фантомов21.
Репрессивность коммунистической идеологии и раздвоение социальных наук на прогрессивную и консервативную части не объясняют эволюцию коммунистического режима. В частности, нельзя не учитывать, кроме репрессий, и механизм общественного согласия, важной частью которого являются социальные науки22. Как показал Е. Добренко, эстетика социалистического реализма не бы- истории творческих союзов, а также истории гратификационных учреждений в Советской России.
-
20 Например, на одной из тартуских конференций по семиотике доклад о поэзии Набокова фигурировал как доклад о некоторых аспектах поэзии Годунова-Чердынцева — всем, кому надо, было понятно.
-
21 Советский дискурс опирается на селекцию прошлого культурного наследия как «прогрессивного» и «реакционного». Соответственно формируется содержание исторических текстов, где, например, гегелевская философия имеет две стороны, а некоторые авторы вообще исключены из рассмотрения. Исключение из «наследия» также представляет собой форму рецепции, обеспечивающую даже более благоприятные условия для понимания, чем рецепция «прогрессивных» идей, поскольку нет необходимости адаптировать их к «актуальным задачам». Даже состояние «запрещенности», в котором оказались многие источники, в конечном счете позволило сохранить их в качестве неиспорченных анклавов. Кроме того, невозможность представить их в качестве актуальных привносила ореол «запрещенности» в саму работу исследователей. Агиография социальных наук не позволяла отклониться от канона, а изучение ряда исторического забвения было связано с меньшими ограничениями. Б. Гройс считает, что сталинский социалистический реализм действительно уничтожил традицию, приняв ее в качестве наследия, тогда как лефовцы и рапповцы предпочитали «сжечь Рафаэля», но не превращать его в материал для собственного художественного проекта. Отчетливое размежевание с определенным корпусом текстов и помещение его в «спецхран» либо другой ряд забвения сохраняет его как культурный раритет и возможность прочтения, тогда как ликвидация границы и внесение источника в «писание», «предание», массовую информацию или другой инородный текст почти неизбежно превращает его в палимпсест, где требуется расшифровка, «новое прочтение» и другая археологическая работа. Так, после десятилетий «ленинианы» и бытования десятков ленинских прецедентных текстов в массовом обществоведении обнаружилось, что Ленин как мыслитель требует нового изучения.
-
22 «Нельзя представить дело так, что была литература и были надзирающие за ней инстанции. Сказать, что советская литература существовала и развивалась в условиях несвободы, значит польстить ей или оклеветать ее. Цензура не вне литературы, а часть ее. Мемуары Лакшина соз-
- ла придумана Сталиным, Горьким, Луначарским, а строилась в явном соответствии с социальным заказом: «Народность является поистине основным принципом соцреализма, и эстетическая встреча ее с партийностью составляет действительное эстетическое ядро, главное эстетическое событие соцреализма. Социалистический канон во многом порожден читательским “социальным заказом” и лишь оформлен властью, освящен ею действительно во имя читателя»23. Массовые репрессии, материальные лишения, бесправие не могли поколебать режим до тех пор, пока они вписывались в легитимационную систему, как пишет Г.Р. Ромашко, пока они имели упорядоченный институциональный облик24. Но когда в относительно благополучные времена легитимационная система режима начала разрушаться и власть заговорила на разных языках, рухнул и режим.
Догма превращается в ересь тогда, когда массовое сознание стремится почувствовать (а не просто провозгласить) идеологический постулат25. Поэтому стремление к искренности было самым разрушительным и гибельным для идеологии феноменом «оттепели», который она не могла не поддерживать в рамках мифа о «партийности» как отсутствия каких-либо скрытых от партии мыслей. В этом отношении коммунистическая идеология похожа на идеологию ранних протестантских движений, где публичное покаяние и открытость личной жизни были основными требованиями посвящения. Внутренняя жизнь, в отличие от жизни общественной, трактовалась как страдание и переживание. Культ романтического героя разделил общественное и личное как черное и белое, лживое и честное. Характерно , что коммунистический идеал презрения к личному благосостоянию и «накопительству» противостоял «лживой» стилистике партийных постановлений26. Официальный сегмент этой деконструкции маркировался не-прекращающимся требованием «восстановления ленинских принципов» вплоть до начала 1990-х годов. Но и в посткоммунистическую эпоху воспроизводятся прежние оппозиции социального проекта, истоки которого обнаруживаются не столько в тексте реформированных социальных наук, сколько в ситуации чтения, устремлении и настрое читателя, которые сохраняют механизм культурной селекции. Е. Добренко отмечает реальную мозаичность общества, которое всегда разделено на культурные страты, каждая из которых потребляет «свою» культуру, и эта «своя» культура выполняет множество разных функций — эскапистскую, социализирующую, компенсаторную, информативную, рекреацион- дают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая ей литературная бюрократия. См.: Хазанов Б. Левиафан, или Величие советской литературы // Октябрь. 2000. № 1. С. 167.
-
23 Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. С. 124-126.
-
24 Ромашко Г.П. К дискуссии о типах тоталитаризма: Рец. на кн.: Rejman M. O kommunistickem totalitarizmu a o tom, co s nim socvisi. Praha, 2000 // Вопросы истории. 2001. № 8. С. 107-112.
-
25 Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой»: Типология советской массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. С. 76.
-
26 В 1953 году издана книга Д. Бруно «О героическом энтузиазме», где он говорит о двух видах энтузиастов. В одних, как в пустую комнату, входят божественное сознание и дух. Другие энтузиасты действуют не как сосуды и орудия, а как главные мастера и деятели. «Энтузиаст идет ввысь и достигает созерцания и почитания божественной красоты, света и величия; таким образом, от этих видимых вещей он идет к украшению сердца, настолько более превосходного в себе и более почтенного в очищенной душе, насколько оно отдалено от материи и чувства». См.: Бруно Д. О героическом энтузиазме / Пер. с итал. Я. Емельянова; Предисл. Э. Егермана. М.: Худ. литература, 1953. С. 52-53, 124.
ную, престижную, эстетическую, эмоциональную и агитационно-мобилизующую27.
Проблема литературного быта была сформулирована в исследованиях ОПОЯЗа и развита в формальной социологии литературы 1920-х годов. Предметом исследования становилось «бытование литературы». Т. Гриц, В. Тренин и М. Никитин предложили концепцию профессионализации писательского труда, подразумевая формирование литературных рынков и приход на смену писателю-дворянину писателя-профессионала. Функциональная ц епочка «писатель — издатель — книготорговец — писатель» становится институтом культурного производства, секуляризируя печатное слово28. Литература становится важнейшим институтом поддержки и критики массовых идеологий и политической власти. В 1930-е годы окончательно сформировалась репертуарная политика Советской власти, направленная на рост тиражей и ограничение количества наименований. В 1934 году вышло в свет 3,5 тыс . книг средним тиражом 12,9 тыс. экз., а в 1953 году вышло 4,7 тыс. книг средним тиражом 44,6 тыс. экз .29. С оответственно увеличивается средний объем книги. Е. Добренко пишет о замене точечного текстового производства линейным. Это присуще не только литературе, но и кинематографу, театру, науке, системе расселения. Иными словами, модернизация советского общества была связана с централизацией и этатизаци-ей почти всех сфер общественной жизни, в том числе повседневных идеологий. Хотя книги издавались не для чтения, книга стала предметом активного массового спроса.
Принципиальную роль в воспроизводстве образца социальных наук играют техники рецепции печатного и устного текста, в том числе реферирование, заучивание, фрагментация, цитирование, обсуждение. Формирование массовых образцов в воспроизводстве социального знания находит выражение в феномене «звезд» философской и социологической науки. Образы «звезд» несут на себе выраженный отпечаток массово-коммуникативного стиля, где необходимое требование — эпатаж и экстравагантность. Вероятно, именно здесь есть резон искать структурные разграничения в социальных науках. Дисциплинарные границы не имеют значения в той степени, в какой сохраняется общий стиль. Сама философия рассыпается на стилистически несопоставимые фрагменты. Эта проблема может быть изучена только на косвенном материале — данных о тиражах и читательских запросах, «звездных именах», сетях цитирования, прецедентных текстах. Но наблюдать техники чтения и рецепции практически невозможно.