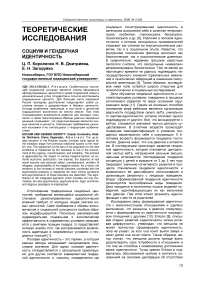Социум и гендерная идентичность
Автор: Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., Загоруйко Е.Н.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Теоретические исследования
Статья в выпуске: 3 (50), 2008 года.
Бесплатный доступ
Особенностью настоящей социальной ситуации является утрата официально сформулированных ценностей и целей социальной жизни и незначительный успех государства в попытке восстановить традиционные ценности. Для большей части населения России последнее десятилетие представляет собой состояние аномии и дезориентации в базовых ценностях. Отсюда ослабление трансляции, в том числе и ценностей традиционного воспитания во многих семьях. При этом открывающиеся возможности развития для молодых поколений, а также транслируемые образцы удачных карьерных решений показывают, что предпочитаемыми являются личные качества и ценности, отвечающие требованиям рыночной экономики и не считающиеся с гендерными особенностями.
Короткий адрес: https://sciup.org/14295249
IDR: 14295249 | УДК: 316.3:159.922.1.
Текст научной статьи Социум и гендерная идентичность
Ц. П. Короленко Н. В. Дмитриева,Е. Н. Загоруйко
Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет
SOCIUM AND GENDER IDENTITY. Caesar Korolenko, Natalia Dmitrieva, Elena Zagorujko. A b s t r a c t : The up-to-data situation in the Russian society includes traits typical for the transitory stage from previous traditional society to the modern one. The adjustment of the part of the population to the new conditions is threatened by the necessity to live in the environment of the urgency, overstimulation, and instability. The process is aggravated by the impact of various negative factors: an extreme economic polarization, low salaries, the absence of real social security and personal safety, unemployment, problem of refugees, unpredictability of the negative events. As a result, the tendency to the increase of mental disorders connected with the psychosocial pressure is registered the main clinical symptoms and psychodynamic of these disorders are described. The significance of the integrated approach which includes not only biomedical, but also psychosocial, psychodynamic, legal, economic, and religious paradigms is emphasized.
Столкновение традиционных гендерных ценностей, требований меняющейся социальной обстановки, разнонаправленных идеологических влияний требует от молодых людей синтеза новых ценностей. Сами требования и образы экономической и социальной успешности особым образом модифицируются. Поскольку максимальная индивидуальная социальная и экономическая эффективность в современных условиях связывается с занятием позиции лидера, то представляет интерес анализ того, как воспринимается возможность адаптации в современных условиях с гендерных позиций [1].
Половая идентичность – это термин, в который разные авторы вкладывают неодинаковое смысловое значение. Для одних половая идентичность отождествляется с сексуальной ориентацией, для других считается эквивалентной гендерной идентичности и, наконец, определяется как социально сконструированная идентичность в категориях восприятия себя в качестве гетеросексуала, лесбиянки, гомосексуала, бисексуала, транссексуала и др. [6]. Различия в половой идентичности и истории сексуальных привязанностей отражают как отличия во внутрипсихическом развитии, так и в социальном опыте. Известно, что внутренние психические факторы включают как биологические, так и психологические дименсии. В сравнительно недавнем прошлом известные сексологи считали, что сексуальные «инверсии» детерминированы биологически. Тем не менее до настоящего времени не удалось подтвердить непосредственного значения гормональных изменений и генетических аберраций в изменении сексуальной ориентации [5]. Таким образом, исследуемое нами поле остается широко открытым для психологических и социальных исследований.
Дети обучаются гендерной идентичности и соответствующему ролевому поведению в процессе когнитивного развития по мере осознания окружающего мира [11]. Одним из основных способов понимания мира ребенком является организация реальности посредством своего self’а, уникального чувства идентичности, которое отличает одного индивидуума от другого. Все, что ассоциируется с self’ом, становится значимой частью детского существования. В 3-летнем возрасте происходят гендерная самоидентификация и усвоение гендерных характеристик себя и окружающих. К 6летнему возрасту формируется гендерное постоянство. Девочка знает, что она девочка и остается ею. В последующем происходит развитие гендерной идентичности, которая становится центральной частью self’а, нагруженной сильным эмоциональным аттачментом. Исследования гендерной концепции у детей в возрасте от 3 до 5 лет подтверждают значение когнитивного развития в процессе становления гендерной идентичности и возможности ее дальнейшего использования в организации связанного с гендером поведения. Вокруг сформированной гендерной идентичности организуются многообразные виды поведения. Дети находятся в постоянном поиске моделей поведения, идентифицирующих их как мальчиков или девочек. При этом может возникать идентификация с кем-то из родителей.
Исследована связь формирования идентичности с межличностными отношениями и сделано заключение, что женщины и девочки стимулируются к формированию их идентичности посредством отношений с другими [13]. Erikson [9], описывая стадию развития «идентичность versus ролевая диффузность», утверждал, что женщина не может полностью сформировать идентичность, пока не узнает, за кого она хочет выйти замуж и каких детей она хочет иметь. Таким образом, автор считал, что женщина должна прежде всего удовлетворять свои потребности в отношениях и что она не способна к независимому достижению своей идентичности. Точка зрения Erikson’а подвергалась обоснованной критике в контексте основанной на сексизме декларации об отсутствии женской независимости. Тем не менее положение о связи формирования идентичности с системой отношений нашло подтверждение в работах теоретиков британской и американской школ self-объектных отношений.
В книге «Поцелуй спящую красавицу на прощание» [11] описаны «постоянно ожидающие женщины». Они ждут другого человека, который сможет заполнить у них что-то недостающее в их идентичности и тем самым сделать их жизнь более наполненной. В период такого ожидания женщины, по мнению автора, живут неполной жизнью, поэтому происходит задержка их развития. Несмотря на то что в настоящее время большинство женщин работают и развивают идентичность в процессе достижения профессионального совершенства, многие чувствуют себя ущемленными и в какой-то степени ненаполненными необходимыми отношениями с мужчинами. Это зависит от исходной убежденности женщины в значении self-объектных отношений с мужчинами как витального элемента чувства идентичности. В работе «Комплекс золушки» [11] высказывается предположение, что женщины могут фиксироваться и пребывать в напоминающем детское состоянии зависимости, не ощущая в себе достаточной свободы, необходимой для самостоятельного жизненного выбора, и ожидая указаний от других, и чаще всего мужчин. Они не чувствуют себя достаточно уверенными в способности постоять за себя, осуществлять заботу о себе и других. Иногда эта зависимость, не проявляясь в поведении открыто, присутствует на эмоциональном уровне, что влияет на неосознаваемые стремления и self-объектные отношения. В конкретных проявлениях отсутствие достаточного чувства идентичности может создавать внутренние барьеры для достижения успеха в различных областях жизни, а также приводить к вступлению в отношения с мужчинами, не вполне соответствующие имеющимся интересам.
Исследователи [12, 13] приходят к заключению, что тенденция женщин сводить свои персональные потребности к замужеству и детям не является причиной лучшего психического здоровья. Авторы считают, что фактор женственности придает женщинам потенциальную возможность обучать мужчин умению действовать в их собственных интересах. В постмодернистском обществе имидж мужа как старшего по возрасту, более сильного, более ловкого и более умного, более способного зарабатывать деньги постепенно утрачивает свои позиции. Отдельным аспектом в изучении гендерной идентичности является установление психологических условий и механизмов возникновения и динамики идентичности у лиц с лесбийской и гомосексуальной ориентацией. Диагностика различий между первичными и бисексуальными лесбиянками связана с серьезными трудностями [5].
Первичные и бисексуальные лесбиянки в большинстве случаев, хотя и не всегда, имеют разную историю первичных отношений с мужчи- нами и женщинами. Их переживания, касающиеся формирования однополой идентичности, отличаются друг от друга. Другие из первичных лесбиянок отмечают, что они всегда были лесбиянками. Даже в очень молодом возрасте они испытывали сексуальное стремление к женщинам. Некоторые чувствовали отсутствие половой идентичности, спутанную или меняющуюся идентичность. Сколько-нибудь серьезные отношения с мужчинами у таких женщин возникали с целью замаскировать, скрыть свойственные им лесбийские стремления. Отмечалось [13], что некоторые из лесбиянок уже с раннего возраста (обычно в период между 6 и 12 годами) считали себя отличными от других девочек. Вне зависимости от того, распознается ли это окружающими, их сексуально привлекали не мальчики или мужчины, а девочки или женщины. Несмотря на наличие или отсутствие лесбийских или гетеросексуальных отношений, во всех случаях у них сохранялось чувство инакости, связанное с доминирующим влечением к женщинам. В ряде случаев они считали, что «родились» лесбиянками.
Бисексуальные лесбиянки часто идентифицируют себя как лесбиянки только в более позднем возрасте. До этого у них могут иметь место значимые отношения с мужчинами. Они выходят замуж, продолжают жить с мужчинами, в которых они влюблены, и испытывают по отношению к ним сексуальное влечение. Часто в таких случаях четкая гетеросексуальная ориентация устанавливалась уже в раннем возрасте. В дальнейшем на каком-то жизненном этапе бисексуальные лесбиянки открывали для себя женщин в качестве привлекательных сексуальных объектов и изменяли свою сексуальную ориентацию. В отличие от первичных лесбиянок, эти женщины в более молодом возрасте не осознавали своего отличия от других девочек в плане сексуальной ориентации. Сексуальную привязанность к женщинам они не считали постоянной и основной. Они имели опыт гетеросексуальных отношений и даже могли вступать в брак с мужчинами, хотя на этом фоне обычно продолжали лесбийские контакты. Эту группу женщин называют «лесбиянками по выбору» [13].
Таким образом, термин сексуальная идентичность у разных авторов имеет различные значения. Одни используют его, имея в виду сексуальную ориентацию, другие – гендерную идентичность, третьи – социально сконструированную идентичность, посредством которой человек идентифицирует себя в качестве гетеросексуала, гомосексуалиста, лесбиянки, бисексуала [6]. По мнению Burch [5], как лесбийская, так и гетеросексуальная идентичность являются социальными конструкциями, включающими психологические элементы. Бихевиористы как представители социологических теорий концентрируют внимание на ситуациях и обстоятельствах, которые обусловливают и усиливают сексуальный выбор. Bandura, например, [2] полагает, что детерминантами гетеро- или гомосексуального выбора является сексуальный опыт, усиленный внешними со- циальными факторами в критические периоды. Некоторые авторы [7, 8] подчеркивают значение в формировании половой идентичности целой системы социальных факторов, влияющих на личность в различные возрастные периоды ее становления. Формирование лесбийской идентичности во взрослом возрасте происходит на фоне других, уже развитых структур социальной идентичности, что может играть серьезную роль в этом процессе. Особое значение обычно имеют личные контакты с представителями или представительницами сексуальных меньшинств или с группами, пропагандирующими соответствующие взгляды.
Burch [5] приходит к заключению, что для первичных и бисексуальных лесбиянок характерны разные пути развития. Первичные лесбиянки начинают, хотя и предварительно, идентифицировать себя как таковых в раннем, часто подростковом возрасте. Автор приводит в качестве примеров описания наблюдаемых ею лесбиянок, которые уже в раннем возрасте ощущали свою инако-вость и в связи с этим испытывали тяжелую психологическую травму, так как оценивали себя как отличающихся от всех других, в том числе и от гомосексуальных мужчин. Информацию о последних они находили в литературе 50-х гг. XX века, но каких-либо данных о лесбийских отношениях (за исключением женщин, находящихся в тюрьмах) они не встречали. В результате возникала убежденность в « ужасной девиантности и непохожести ни на кого другого ». В заключение следует обратить внимание, что переживание отклоняющейся от нормы половой идентичности имеет значительные различия у подростков до формирования психосоциального моратория. В подростковом возрасте происходит формирование различных структурных компонентов социальной идентичности, которое сопровождается большой ранимостью. В ходе данного процесса может происходить регресс на более ранние стадии развития.
Большое значение имеют оценка сверстников, членов группы, клановость, неприемлемость и жестокость, которые проявляют члены группы по отношению ко всему, что не соответствует стереотипам их коллективного имиджа. В этом контексте девиантная внутренняя идентичность может быть болезненным, насыщенным конфликтами явлением. Конфронтация с негативноугрожающей оценкой сверстников в комплексе с неприемлемостью членами семьи при наличии отчетливой девиантной идентичности часто выходит за пределы egо силы подростка, вызывает временную психологическую защиту в виде отрицания своей сексуальной ориентации, или к социальной изоляции, ведет к двойной жизни, вплоть до диссоциативного нарушения идентичности. В каждом человеке присутствует феномен идентификации с обоими родителями, что потенциально позволяет ребенку включать в свой self оба гендера. Предлагается [6] модель гендерного развития, в соответствии с которой мальчики и девочки постепенно идентифицируют себя из недиффе- ренцированной исходной матрицы. До завершения периода дифференциации «ни один аспект мужественности или женственности не исключается из процесса вхождения в структуру self'а».
В этом периоде мужественность и женственность переживаются не как взаимно исключающиеся категории, и поэтому развивающейся личности доступны все половые и гендерные возможности. Постепенная дифференциация гендерных категорий происходит по мере того, как внимание ребенка начинает фиксироваться на анатомических различиях. Мужественность и женственность становятся не только анатомическими противоположностями, возникают отличия в поведении, личностных характеристиках, системах значений. Значения и представления отражают то, что ребенок относит к мужественности или женственности. Отсутствие у себя пениса девочка может ассоциировать с отсутствием особо значимого органа и как реакцию на это чувство развивать в себе пассивность, потерю независимости. Последние качества формируются в ее психической структуре не под влиянием биологических детерминант, а как результат вторичной психологической оценки, связанной с культурально обусловленными представлениями о женственности. Подобно этому мальчик, обнаружив свою неспособность к деторождению, рассматривает ее как обделенность мощной биологической силой, и, по мнению Fast, может не только испытывать не полностью осознаваемое чувство экзистенциальной пустоты, но и находиться в ситуации риска формирования деструктивных вариантов дальнейшего развития. В данном случае имеет место не биология мужественности, а социопсихологические значения, придаваемые женственности.
Более глубокий анализ рассматриваемого феномена можно найти в исследовании [4], проведенном в школе для детей и подростков с нарушенным поведением в Чикаго (Sonia Shankman Orthogenic School University of Chicago). Эти дети (мальчики и девочки) инициировали спонтанные ритуалы, включающие кровопускания, обмен кровью, манипуляции с половыми органами и даже самоповреждения. Наблюдаемое поведение свидетельствовало о том, что как мальчики, так и девочки проявляли подобным образом зависть к половым органам и сексуальности другого пола. Во многих случаях автор обнаруживал у мальчиков зависть к признакам женственности у девочек и отмечал по этому поводу, что такие мальчики признавались в переживаемом ими чувстве зависти к девочкам, которые «по крайней мере, знали о своем половом созревании во время начала менструации». У мальчиков такая уверенность отсутствовала. Они наносили себе раны с целью вызвать кровотечения. Отсутствие вагины воспринималось ими как биологический «обман». Некоторые из них хотели иметь мужские и женские половые органы и испытывали разочарование, осознавая невозможность исполнения этого желания. Причиной зависти к женщинам являлось ощущение того, что жен- щины обладают «более совершенными» половыми органами.
Культура, в которой рождается ребенок, заранее определяет множество значений мужественности и женственности. Ребенок приспосабливается к культуре, выделяя при этом ее гендерный аспект. В процессе формирования гендерной идентичности имеют значение не только психологические ограничения, связанные с анатомическими различиями, но и культуральные традиции, и социальные законы [5]. Идентификации с родителями, постоянно взаимодействующие с другими психосоциальными факторами, приводят к становлению субъективного чувства гендерной идентичности. Развитие идентичности анализировалось в социоисторическом контексте [10]. Авторами сделан вывод о том, что на возникновение нарушений идентичности влияют психотравмирующие ситуации в детстве. Профилактика нарушения идентичности зависит от условий развития ребенка. Stephen [14], исследовавший влияние идентичности на продолжительность жизни, обнаружил, что нормально формирующаяся идентичность увеличивает продолжительность жизни.
В последнее время обращается внимание на возможность развития нарушений формирования идентичности в раннем младенческом периоде. Выделяют [14] в этом контексте периоды до 3 месяцев, от 3 до 9 месяцев и после 9 месяцев жизни. Чем раньше возникает нарушение, тем более серьезные последствия возможны. До 3 месяцев жизни младенец в большей степени ориентирован на внутренние «самогенерируемые события» («self-generated events»). После 9 месяцев у младенца проявляется внутренняя субъективная жизнь, наряду с оценкой наличия внутренней жизни у других. Он начинает интересоваться не только действиями других, но и тем, что стоит «за» этими действиями. Большое значение имеет формирующееся чувство self’a. В чувстве self’a выделяют: 1) чувство self’a как действующего начала. Без него не формируется чувство принадлежности себе и собственных действий; может иметь место переживание внутреннего паралича, потери контроля за тем, что происходит внутри и вовне; 2) чувство self’a как физической спаянности. Без него возникает деперсонализация, фрагментация телесных переживаний, возможны феномены «вне тела»; 3) чувство продолжительности. Без него развивается временная диссоциация, фуги, амнезии; 4) чувство аффективности. Без него характерны ангедония, возникают диссоциации; 5) чувство достижения межличностной субъективности. Без него характерны космическое одиночество или другое экстремальное состояние – психическая трансперентность (прозрачность).
Zabielski [15] проводил диагностику материнской идентичности у 42 женщин, родивших первого ребенка. Половина женщин имела преждевременные роды, вторая половина женщин родила в срок. Исследование проводилось в течение года после рождения первого ребенка. Сравнительный анализ материнской идентичности показал стати- стически достоверную связь между сроком беременности и степенью сформированности материнской идентичности. 62 % женщин, родивших своевременно, и 24 % женщин, родивших преждевременно, отмечали ощущения сформированной материнской идентичности спустя 2 недели после родов. Выявлена статистически достоверная взаимосвязь между ощущениями материнской идентичности и первым контактом с ребенком. Исследовалось [3] влияние позднего материнства на отношения матери к ребенку. Изучались 34 ребенка, рожденных женщинами в возрасте от 37 до 44 лет. Выявлены нарушения отношений матерей к своим детям; характер отношений «мать– ребенок» влияют отношения матери со своей матерью.
Изменение социальных устоев, экономические реформы не только радикально изменили нашу жизнь, но и поставили особые условия к адаптивным механизмам личности. В современных нестабильных условиях психические нарушения затрагивают базис личности – формирование идентичности человека. За последний период увеличилось количество лиц транссексуальной ориентации, обращающихся за помощью к психиатрам с требованием смены пола, что накладывает особую ответственность на специалистов, ведет к необходимости разработки четких диагностических и дифференциальных критериев.