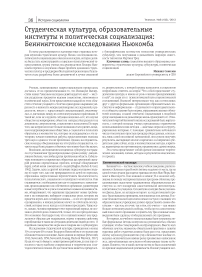Студенческая культура, образовательные институты и политическая социализация: Беннингтонские исследования Ньюкомба
Автор: Соколов Михаил Михайлович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: История социологии
Статья в выпуске: 6, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются малоизвестные страницы истории изучения студенческих культур. Начав с исследования политической социализации в женском колледже, которая должна была стать иллюстрацией к социально-психологической теории влияния, группа ученых под руководством Теодора Ньюкомба перешла к изучению общих проблем динамики студенческих культур в преддверии Молодежной революции. Результатом стала разработка более динамичной и лучше связанной с биографическим контекстом типологии университетских субкультур, чем получившая в дальнейшем широкую известность типология Мартина Троу.
Социология высшего образования, университеты, студенческие культуры, субкультуры, политическая социализация
Короткий адрес: https://sciup.org/142182051
IDR: 142182051
Текст научной статьи Студенческая культура, образовательные институты и политическая социализация: Беннингтонские исследования Ньюкомба
Михаил Соколов доцент Европейского университета в СПб
Ученым, занимающимся макросоциальными процессами, досталось от их предшественников то, что Иммануил Валлер-стайн назвал "ужасным наследием девятнадцатого века" — жесткое разделение предметов ведения социологии, экономики и политической науки. Хотя представители каждой из этих областей в течение уходящего столетия единодушно выражали уверенность в важности междисциплинарных исследований, в реальности, вместе с нарастающей специализацией, увеличивалась и дистанция между их интеллектуальными практиками. В такой же, если не в худшей, ситуации оказались и те, кто изучал общество на микроуровне: объект их интереса был расколот на доминионы антропологии, социологии и психологии. По мере того, как антропологи все больше внимания стали уделять западным модернизированным обществам, а социологи и психологи обратились к множеству тех, которые не укладывались в эту категорию, начали появляться работы, представляющие подходы трех наук к одним и тем же проблемам. Однако, исследовательские команды, объединяющие все эти группы специалистов, остаются куда более редким событием, чем можно было бы желать.
Эта статья представляет собой краткое изложение теоретических оснований, логики, методов и результатов классического проекта.
Беннингтонский колледж
Беннингтон — частное женское учебное заведение, расположенное в Зеленых горах Новой Англии, недалеко от места, где из одной точки лучами расходятся границы штатов Нью-Йорк, Вермонт и Массачусетс. Оно возникло в начале 30-х на волне энтузиазма по поводу экспериментальных программ обучения, преодолевающих недостатки традиционных образовательных институтов за счет поощрения самостоятельной интеллектуальной активности учащихся. Основатели колледжа были учениками Джона Дьюи, из взглядов которого на педагогический процесс были выведены принципы, воплощенные в их детище. В основе беннингтонской идеологии лежал постулат, гласящий, что образовательное учреждение должно предоставлять своим обитателям — как тем, кто учит, так и тем, кто учится — как можно больше интеллектуальной свободы, чтобы вести самостоятельный поиск своего призвания и служить ему. Три основные нововведения были сделаны, чтобы реализовать эту программу.
Во-первых, из учебного плана колледжа были устранены любые формальные методы контроля над успеваемостью, обычно служащие, чтобы стимулировать контролируемого. Вместо всех обычных зачетов, экзаменов, обязательной практики и защиты курсовых работ студентки должны были раз в год представить своему научному руководителю (ему в Беннингтоне вообще отводилась исключительно важная роль) произвольно написанное эссе, запечатлевающее их успехи и обозначающее планы на будущее. Понятно, что в такой системе почти не было исключений по причине академической успеваемости. Плохие учащиеся мог- ли оставаться плохими, сколько им было угодно, зато хорошим ничего не мешало кратчайшим путем идти к тому, чтобы становиться все лучше и лучше.
Во-вторых, наравне с респектабельными предметами типа экономики, колледж позволял своим обитательницам пробовать себя в самых экзотических специализациях, например, современном танце или поэзии. Упор при этом делался на практические занятия, направленные на то, чтобы студентки могли получить представления о своей будущей профессии. Один из учебных триместров — зимний — целиком отводился для этих целей.
В-третьих, студентки имели широкие возможности для влияния на политику колледжа, делавшие их полноправными партнерами в управлении их alma mater. Так, в Совете им принадлежала половина мест, и ни одно решение не могло быть принято вопреки их воле. Для того чтобы сделать разрыв между преподавателями и их подопечными еще меньше, устав оговаривал специальные этикетные правила обращения друг к другу, не подчеркивающие статусные различия: девушки называли своих профессоров "мистер", а те отвечали им "мисс". Надо сказать, что кадровая политика руководства колледжа была направлена на то, чтобы первые не очень отличались по возрасту от вторых.
Колледж располагался в нескольких милях от одноименного городка, слишком маленького и захолустного, чтобы в нем можно было найти какие-нибудь развлечения. Из-за этого обитатели кампуса были практически замкнутой на себе группой, большая часть жизни которой проходила внутри университетских строений. Хотя некоторые отлучались на уик-энды в течение семестра, отдаленное положение колледжа делала эти отъезды довольно затруднительным, и, соответственно, редким, предприятием.
В момент основания в Беннингтоне было 50 преподавателей и 250 студенток. Число учащихся медленно увеличивалось, и за четверть века выросло примерно на сто человек. В основном они происходили из семейств, принадлежащих к верхней прослойке среднего класса и живущих в Нью-Йорке и его окрестностях.
Таким был колледж в момент, когда в 1935 году Ньюкомб начал свои исследования.
Теория коммуникативных актов
Теория, разрабатываемая в тот период Ньюкомбом, была одной из семейства теорий когнитивного дисбаланса (cognitive imbalance), описывающих пути, которыми человек приводит в соответствие противоречия в своих представлениях о внешнем мире [Newcomb, 1958]. Предполагается, что существование таких противоречий переживается как психический дискомфорт, устраняемый с помощью изменения конфликтующих когниций. При этом соответствие или несоответствие оценивается на основании параметров, весьма далеких от законов формальной логики (позднее для них будет изобретен удачный термин "психо-логика"). Хайдер, создавший первую из теорий дисбаланса, давшую затем название всему направлению, предполагал, что основным видом несоответствий, с которым имеет дело обыденная логика, являются расхождения во взглядах с людьми, вызывающими симпатию и уважение [Eiser, 1986]. Действительно, если симпатичный нам человек голосует за партию, вызывающую у нас неприятие, слушает тошнотворную музыку или заводит отвратительных друзей, мы видим в этом противоречие, которое надо разрешить. В целом, есть три пути решения подобной проблемы — разочароваться в этом человеке, наставить его на путь истинный или изменить собственные взгляды на эту партию, эту музыку или этих друзей. Заметим, что если этот некто не вызывает у нас никаких эмоций, то нас вряд ли как-то затронет несогласие с ним во вкусах, а если он нам не нравится, то можно даже испытать некое удовольствие от того, что мы проявили проницательность, сразу невзлюбив его.
Теория коммуникативных актов, в фундамент которой лег- ли беннингтонские исследования, была следующим витком в развитии теории Хайдера. Частота и характер взаимодействия с другими людьми являются, согласно ей, той переменной, которая определяет, какой из путей ликвидации дисбаланса будет выбран. Поскольку за каждым из представлений лежит авторитет каких-то значимых фигур, по контакт с этими фигурами или его отсутствие будет сказываться на силе подкрепленных ими представлений, их устойчивость в конфликте с другими когни-циями. Гипотеза, с которой начался проект Ньюкомба, была прямо выведена из этих допущений.
В юности человек обычно разделяет политические взгляды своих родителей — факт, многократно подтвержденный уже в начале эры массовых опросов. Попав впоследствии в среду, где будут доминировать другие идеологические предпочтения, и где авторитет всех новых значимых фигур будет на их стороне, он или она окажется перед лицом того самого дисбаланса, о котором шла речь выше. Однако, если контакты с родителями будут редкими и короткими, а взаимодействие с представителями новой среды — почти постоянным, то, исходя из сделанных предположений, можно ожидать, что эта проблема будет вскоре решена — взгляды будут приведены в соответствие со стандартами нового окружения.
Это и приводит нас в Беннингтон.
Исследования 30-х годов
С самого начала Беннингтонский колледж имел репутацию либерального. Большая часть его преподавательского состава поддерживала курс Рузвельта и высказывало достаточно левые, по тем временам, взгляды — включая требование признать права профсоюзов на забастовку и поддержать вооруженную оппозицию шедшему к власти генералу Франко. Некоторые не скрывали симпатий к социалистам. Тесный контакт между преподавателями и студентками, и уважение, которое обеспечивал им хотя бы их ролевой статус, не оставлял сомнений в том, что девушки будут во-первых, знать о взглядах своих наставников, а, во-вторых, эти взгляды будут подкреплены достаточным авторитетом. Авторитет же родителей в условиях изоляции от них окажется куда менее действенным. В результате, можно было ожидать, что студентки, чьи взгляды при поступлении в колледж не будут конгруэнтны общим либеральным настроениям в нем, скорее всего, через некоторое время изменят их, чтобы быть принятыми группой и самим принимать ее. Можно было предположить, что останется некоторое количество оппозиционерок, но их статус в сообществе будет низок (поскольку само сообщество ликвидирует дисбаланс в отношении них — но уже другим путем), и многие из них предпочтут покинуть учебное заведение.
Эмпирическое исследование блестяще подтвердило это [Newcomb, 1943]. Действительно, существовала специфическая студенческая культура, которая поощряла следование определенным нормам в отношении мира за стенами колледжа. Придерживаться либеральных взглядов — было одной из таких норм. Используя многократно опробованную в тот период Шкалу политико-экономической прогрессивности (PEP, Political Economic Progressivism scale), Ньюкомб обнаружил существенный сдвиг за время учебы у тех студенток, которые были изначально консервативны. Более того, оказалось, что следование политическим нормам, составляющим часть студенческой культуры, необходимо для того, чтобы обеспечить себе статус в сообществе. Студентки, набиравшие самые высокие баллы при построении социометрических индексов и получавшие больше всего голосов при выборах в органы самоуправления, были, одновременно, и самыми либеральными. Напротив, те, кто сохранил привезенный из дому консерватизм, особой популярностью не пользовались. Эти последние делились на несколько типов — тех, кто был слишком застенчив и погружен в себя, чтобы заметить несоответствие между своими взглядами и взглядами окружающих, тех, кто, по словам университетского психолога, стра- дал излишней зависимостью от родителей, и тех, кто изначально был настроен враждебно по отношению к колледжу. Количество покинувших Беннингтон до конца учебы из числа представителей этой группы было значимо больше, чем из числа более конформных (напомним, что реальны были две причины для того, чтобы покинуть колледж — собственное желание или резкое ухудшение материального положение семьи, поскольку никакой формальной успеваемости не существовало).
Двадцать пять лет спустя Ньюкомб, на этот раз, с компанией молодых коллег, снова вернулся в Беннингтон. Два вопроса, ради получения ответа на которые он решился предпринять повторное исследование, были таковы: во-первых, он хотел узнать, насколько устойчивыми оказались либеральные аттитьюды, приобретенные в годы учебы, на протяжении дальнейшей жизни, во-вторых, его интересовало, как изменилась студенческая культура за эту четверть века. В этой статье нет возможности обсуждать результаты, полученные на первом направлении. Скажем только, что политические ориентации сохранили отпечаток влияния колледжа на протяжении всей остальной жизни его бывших учениц. По-другому обстояли дела со студенческой культурой: она не только изменилась сама, но и потеряла однородность, придававшую ей такую эффективность в трансляции своих норм. Команда Ньюкомба столкнулась с тем, что внутри этой — весьма специфической, с точки зрения господствовавшей тогда "большой" культуры, субкультуры — родились собственные суб-субкультуры, которые представляли собой разные сценарии приспособления к сообществу, существующему согласно нормам субкультуры более высокого порядка.
Студенческая культура в начале 60-х годов
Интервью в общей сложности проводилось с 101 студенткой, отобранной по совету их преподавателей (их попросили выбрать из числа учащихся тех девушек, которые хорошо представляли бы все типы обитательниц Беннингтона и согласились бы отвечать на вопросы). Вопросник состоял из 4 развернутых вопросов в первых 40 интервью, впоследствии было добавлено еще 2. Они касались тех изменений, которые, по мнению респонденток, произошли в них за эти годы, давлению, которое они, возможно, испытали со стороны своего нового окружения, и отличий, выделявших беннингтонский колледж из числа ему подобных.
В качестве вопросов анкет, которыми были охвачены почти все три сотни учившихся в тот момент студенток, использовались:
-
А) список прилагательных, среди которых надо было выбрать отличающие беннингтонианок от девушек из других женских колледжей. Результаты продемонстрировали потрясающее единодушие: 95 % выразили уверенность, что их однокашницы, в среднем, более творческие, 91 % — что они еще и более независимые и уверенные в себе.
Б) просьба перечислить черты, которые были бы присущи "образцовой беннингтонианке". Список этих черт, впрочем, почти точно дублировал ответы на вопросы интервью.
-
В) просьба охарактеризовать черты, присущие самой респондентке. Предлагался список черт, типа "стараюсь быть самой собой" (55 % сочли, что это удачно описывает их) или "неконвенциональна во мнениях и взглядах" (16 %). Можно было предположить, что, как обычно и происходит с вопросами такого типа, ответы будут отражать точку зрения респондентов на то, какие черты являются желательными.
Г) наконец, на основании ответов на вопросы интервью, была составлена анкета, куда вошли вопросы о том, какие из перечисленных утверждений стали больше подходить к респонденткам за время их учебы, а какие — меньше. Так, 51 % признал, что они теперь более склонны к самоанализу, чем раньше, а 58 % заметили, что возрос их интерес к научной работе. Кроме всего остального, два последних вопросника были хоть и грубым, но индикатором степени соответствия групповым нормам.
Полученные ответы были классифицированы на четыре большие группы, соответствующие, как считал Ньюкомб и его ученики, основным нормам студенческого сообщества. Эти нормы были названы им "индивидуализмом", "интеллектуализмом", "терпимостью" и "неконвенциональностью".
"Индивидуализм" — слово, имеющее в русском языке не совсем то же значение, что и английское "individualism", от которого оно произошло. Русский вариант имеет негативный оттенок неприязни к человеку, который во имя собственных интересов жертвует интересами других людей; английский — позитивный оттенок уважения к личности, имеющей силы быть собой. Под этим пунктом Ньюкомб собрал ответы, очертившие значимость, которую в Беннингтоне придавалась росту самосознания, уверенности в себе, внутренней силы и независимости, а также способности к самовыражению. Вообще говоря, значительно более удачным кажется перевод этого комплекса норм термином "стремление к самоактуализации", но, из уважения к оригиналу, здесь и далее сохранен буквальный перевод. 73 % интервьюированных на тему изменений, произошедших с ними за время учебы, дали один из ответов, отнесенных к этой категории.
"Интеллектуализм" обозначал в терминологии Ньюкомба весь комплекс черт, связанных с развитием способностей к познанию и интереса к их применению для того, чтобы взглянуть на мир по-новому. Так же, как и в случае с индивидуализмом, 73 % опрошенных ответили, что Беннингтон изменил их в этом направлении.
"Терпимость" характеризовала готовность принимать окружающих такими, какие они есть, со всеми их странностями, признавать их право быть другими и не разделять тех же ценностей, что и респондентка. 48 % заметили, что за студенческие годы их мировоззрение стало более релятивистским. (Что, правда, не мешало им оказывать давление на своих подруг, не разделявшим, в частности, эту норму).
"Неконвенциональность", готовность отступать от норм общества, господствующих за пределами кампуса, если они препятствуют самореализации, было еще одним свойством, высоко ценившимся в колледже. В некотором роде, вся беннингтонская студенческая культура была вызовом культуре американского общества. Ожидания, которые последняя имела в отношении студенток из хороших семей, состояли в том, что, доучившись и получив диплом, они превратятся в домохозяек, не имеющих возможности ни быть индивидуальностью, ни продолжить свою интеллектуальную карьеру. Любые претензии на это уже были оппозицией господствующей культуре — и в Беннингтоне это хорошо понимали. "Неконвенциональность" назвали в числе направлений своего развития за студенческие годы 24 % отвечавших.
Эти нормы были объединены авторами исследования в две более общие категории — "идеальные" (индивидуализм и интеллектуализм) и "минимальные" (терпимость и неконвенцио-нальность). Минимальные нормы были необходимым условием участия в жизни сообщества — не следующая им, отказывающаяся вести себя не так, как ее учили родители, и не приемлющая такого поведения других, девушка просто исключалась из него. Но и среди тех, кто принимал их, была значительная стратификация по статусу — и уважение завоевывалось степенью соответствия идеальным нормам.
Для того чтобы измерять эту степень, коллеги Ньюкомба использовали опросник OPI (Omnibus Personality Inventory) — батарею, состоявшую из семи отдельных шкал — Авторитариз- ма (сокращенный вариант знаменитой Калифорнийской шкалы Адорно), Агностицизма, Уровня развития (характеризовавшей степень независимости от устоявшихся авторитетов), Эстетизма, Теоретической жизненной ориентации, Оригинальности (не-конвенциональности мышления и поведения) и Либерализма. После того, как была продемонстрирована высокая корреляция баллов, набранных по этой шкале, со степенью подчинения нормам сообщества и статусом в нем, определенных другими методами, стало возможным использовать ее как самостоятельный инструмент, со всеми вытекающими отсюда преимуществами для получения сравнительных материалов.
Итак, после того, как валидность шкалы OPI была продемонстрирована, ее распространили среди только что поступивших в колледж студенток, и повторили измерение через два года. Результаты в целом вполне соответствовали ожиданиям — большинство девушек быстро восприняли нормы индивидуализма и интеллектуализма (что подтверждалось и их самоотчетами). Но некоторые не только не продвинулись в сторону, в которую их толкало давление сообщества, но и, наоборот, выражали еще большую преданность стандартам поведения, усвоенным в родительском доме. Это можно было бы целиком списать на какие-нибудь личностные свойства, если бы не наблюдение, сделанное членами исследовательской команды: сдвиг в баллах был значимо сопряжен с баллами, которые набирались людьми, называемыми респондентом в качестве своих близких друзей.
Другим интересным фактом была разная репутация, имевшаяся у каждого из двенадцати корпусов студенческого общежития. Так, про один из них, называвшийся Эллингтоном, повсеместно утверждалось, что он — богемный (этому прилагательному придавался сугубо положительный смысл), зато про другой, Тэйлор, поговаривали, что он — не беннингтонианский. Все это заставило Ньюкомба и его коллег выдвинуть предположение, согласно которому, помимо доминирующей студенческой культуры колледжа, оппозиционной культуре внешнего общества, внутри него существовал еще целый ряд субкультур, в разной степени оппозиционной уже к ней. Иными словами, внутри одной девиантной субкультуры сложилась другая девиантная субкультура. Это придало исследованию совершенно новое направление.
Типология субкультур
В 30-е годы студентки, чье поведение не согласовалось с нормами студенческой культуры того времени, подвергались разнообразным формам группового давления, начиная с дружеского подшучивания и заканчивая полным бойкотом. Если они и дальше проявляли непокорность, то вынуждены были или пребывать в изоляции, или покидать колледж, не выдержав отрицательных эмоций, сопутствующих такому положению. Весь репертуар негативных санкций, действовавших тогда, использовался и в 60-е, как свидетельствовали ответы, полученные в ходе интервью. Однако некоторые студентки успешно адаптировались к такому положению вещей, и сохраняли неконгруэнтные общей культуре установки, не страдая при этом ни от одиночества, ни от пренебрежения. Дональд Уорвик, ученик и младший коллега Ньюкомба, предположил, что это объясняется тем, что за прошедшие десятилетия молодые люди освоили еще одну стратегию поведения в контексте враждебной культуры — создание девиантной субкультуры. Действительно, так же, как Беннингтон в целом сохранял свое своеобразие за счет изоляции от внешнего мира, в которой имелась возможность влиять на новые поколения студенток, так и внутри него какое-то количество девушек могло бы противостоять принуждению к тому, чтобы быть индивидуалистичными, интеллектуальными, толерантными и неконвенциональными. Для этого им требовалось создать собственный, относительно замкнутый круг общения, взаимодействия внутри которого не вызывало бы нарушений когнитивного баланса, то есть, автономную социальную сеть с особой системой норм и статусов.
Для того чтобы проверить гипотезу о возникновении в Бен- нингтоне одной или нескольких девиантных субкультур и об их функционирование в качестве анклавов альтернативной культуры, было необходимо предпринять следующие шаги:
во-первых, следовало создать типологию, подразделяющую студенток на группы по степени принятия ими определенных нормативных стандартов, которая имела бы значимость не только с точки зрения исследователя, но и повторяла бы классификации, используемые самими девушками. Задача была непростой, поскольку среди беннингтонианок не имелось установившихся обозначений для имевшихся в их среде группировок (иногда, чтобы отличать их, использовались названия домов, как уже говорилось выше, но по поводу этого словоупотребления не было общего согласия).
Во-вторых, необходимо было разработать методику, которая позволяла бы более-менее надежно классифицировать студенток, относя каждую из них к одной из выделенных групп.
В-третьих, то, что этим категориям соответствуют реально существующие малые группы, и что общение в них протекает более интенсивно, чем общение между их членами и не-члена-ми, также следовало доказать.
Наконец, в четвертых, надо было убедиться в том, что такие субкультуры действительно представляют собой альтернативу старым стратегиям адаптации. То есть, что нормы, с которыми их члены поступают в колледж, изменяются меньше, чем нормы не принадлежащих к таким группам, но во всех других отношениях сходных с ними девушек, и при этом они покидают учебное заведение реже, чем другие стойкие девианты.
Первая из этих задач была решена через опрос экспертов, наиболее компетентных в области взаимоотношений в студенческой среде — самих студенток. Девушек попросили определить "известные им группы людей, имеющих общие интересы, ценности и установки". Среди множества полученных описаний была масса явно не соответствующих целям исследования (например, в некоторых разбиение на группы производилось в соответствии со специализацией), но другие имели прямое отношение к делу. Эти последние Уорвик отнес к четырем категориям, выделенным им по принципу соответствия двум "идеальным" беннингтонским ценностям — индивидуализму и интеллектуализму. В результате возникла следующая таблица.
В верхних полях расположены группы, отличающиеся высоким интеллектуализмом; в нижних — наоборот. В левых полях находятся группы с высокими значениями индивидуализма, в правых — с низким.
Группа с высокими показателями по обоим параметрам ("творческие личности" в терминологии Уорвика) пользовалась самым высоким статусом в Беннингтоне. Ее представителей характеризовали как "артистичных", "богемных", "творческих", "дионисийских", "вольнодумных", "идеалистичных", "наделенных богатым воображением", а также "заумных", "бесчувственных", "надменных", "циничных" и, вообще, "ненормальных".
Группа, имеющая высокие очки по индивидуализму и низ-
Группа с низкими баллами по обеим шкалам ("Социальная группа") чаще всего упоминалась с трудно переводимым эпитетом "социальная". Имелась в виду их поглощенность общением — друг с другом и с молодыми людьми, которые играли в их жиз- ни куда большую роль, чем занятия в колледже. Однокашницы описывали их "занятых исключительно болтовней про личную жизнь", "больше думающих о свиданиях, чем о серьезной работе", "интересующихся только тем, как получить как можно больше удовольствия, сделав при этом как можно меньше" и "тех, кто не хочет, чтобы Беннингтон изменил их, и группируются вместе, чтобы не допустить этого".
Группа, характеризующаяся низким индивидуализмом и высокой интеллектуальностью ("Академики") единодушно описывались своими соучениками как "зануды". Они слыли несколько странноватыми, поскольку "они как будто состязаются в том, кто дольше всех просидит в библиотеке" и "их можно увидеть только за едой — и над книгами". Видимо, та же поэтическая душа, которая назвала первую группу "дионисийской", присвоила последней название "аполлонической".
Чтобы удостовериться в том, что классификация имеет не только этическую, но и эмическую значимость, Уорвик вновь обратился к своим респонденткам. Создав, на основании ответов на вопросы анкеты, описание каждого типа, он попросил их указать, кто из их подруг вполне подпадает под них. Одна персона могла быть перечислена одним опрошенным больше одного раза, как принадлежащая сразу к нескольким типам, а какие-то категории предлагалось вообще не использовать, если им никто не соответствовал. Затем согласованность списков, составленных разными экспертами, проверялась с помощью статистических критериев сопряженности. Выявленная статистическая связь оказалась высоко значимой: девушки явно могли отличить один тип от другого (причем пересечений между группами, расположенными в четных и нечетных парах квадрантов не было почти вообще). Следствием применения этой процедуры было еще и то, что в результате появился список имен тех, кто, с точки зрения их подруг, был наиболее ярким, эталонным представителем каждой группы (таких удалось найти 151).
Затем среди этих девушек были распространены тест OPI, анкета, в которой требовалось указать присущие себе черты (см. выше), а также содержалось несколько вопросов относительно политических ориентаций заполняющей и семьи, в которой она выросла. В целом, результаты хорошо согласовались с теорией. По всем семи субшкалам OPI полярные Социальная группа и Творческие индивидуалисты показали статистически высоко значимое расхождение. Бешеные и Академики находились между ними. Стереотипы, которые имелись у других относительно каждого из типов, удивительно точно совпадали с самоописани-ем его представителей. Так, члены Социальной группы значимо чаще, чем любой другой, признавали, что они "интересуются религией", "поглощены личной жизнью и свиданиями" и "консервативны". Бешеные были более всех других "неконвенциональны в мнения и взглядах", "экстравагантны в одежде", зато менее всего "поглощены академической жизнью". Академики представляли в точности противоположную картину. Наконец, в политическом спектре члены каждой из групп занимали следующие позиции (справа налево): Социальная группа (42 % поддерживало республиканцев, 58 % — либералов и социалистов) — Академики (36 % против 64 %) — Творческие личности (32 %: 68 %) — Бешеные (20 %: 80 %).
Теперь необходимо было доказать, что выделенные типы были не только разновидностями репутаций, но и в действительности существующими сообществами, члены которых взаимодействовали друг с другом более активно, чем с членами других таких же сообществ. Для этого респонденткам, принадлежность которых к одной из четырех групп считалась несомненной, предложили выбрать из списка несколько человек, которых они считали своими друзьями. Можно было предположить, что, если выделенным типам соответствовали актуальные группы, то будет существовать заметная сопряженность между принадлежностью к одной из них и выбором друзей из нее же. Как и в других случаях, использовался критерий Хи-квадрат. В целом, гипотеза относительно реальности кругов общения под- твердилась, хотя относительно Бешеных не удалось доказать, что они создают компании из числа себе подобных. Зато Творческие личности выбирали других Творческих личностей в два, девушки из Социальной группы других девушек оттуда же — в три, а Академики Академиков — в четыре раза чаще, чем это следовало ожидать на основании случайного распределения.
Функции девиантной субкультуры
Гипотеза о функциях субкультуры как стратегии адаптации к неприемлемым нормам большего сообщества проверялась на основании двух показателей:
А) статуса представительниц каждой из групп в глазах девушек из той же и других субкультур.
Б) оценки степени, в которой использование новой стратегии заменяло старые — конформизм по отношению к ожиданиям окружения и бегство из него.
Измерение статуса групп в колледже было осуществлено с помощью все того же списка из имен их представительниц. Исследователи попросили студенток выбрать из него тех, кого они считали наиболее достойными представлять учащихся в органах самоуправления, кто вызывал у них наибольшее восхищение и тех, кого они признавали особенно творческими и оригинальными людьми. Затем количество выборов, пришедшееся на долю каждой группы суммировалось, и из нее выводилось место в рейтинге. Отдельные рейтинги составлялись из оценок, данных представителями каждого из четырех сообществ. Результаты совпали с ожиданиями: все рейтинги в основном следовали общему паттерну "Творческие Личности — Академики — Бешеные — Социальная группа", но при этом представители каждого типа оценивали себя несколько выше, чем их оценивали другие. Так, в случае с Социальной группой вся иерархия приняла вид "Творческие личности — Академики — Социальная группа (с минимальным отставанием) — Бешеные".
Это было достаточно убедительным подтверждением тезиса о том, что среди членов своей субкультуры каждая студентка могла получить признание, которого ее лишало сообщество в целом. Однако, само по себе существование типов, выделяемых на основании следования нормативным образцам и наличие актуальных групп, соответствующих им, еще не было доказательством эффективности нового способа адаптации. Для того чтобы получить окончательное подтверждение, Уорвик разделил всех девиантов из Социальной группы на тех, кто принадлежал к субкультурной социальной сети, и тех, чьи друзья относились главным образом к Бешеным, Академикам или Творческим личностям.
Это было достигнуто с помощью нового опроса экспертов, которых попросили перечислить их подруг, "по большей части, общающихся друг с другом". На основании полученных списков перечислений был, наконец, составлен перечень принадлежащих к девиантной субкультуре. В него попали те, кто, во-первых, были отнесены к Социальной группе наибольшим количеством своих однокашниц, и, во-вторых, оказались перечислены, по крайней мере, дважды в качестве члена группы, в которой девушки из той же субкультуры составляли не меньше половины. Надо сказать, что во многих отношениях этот критерий очень уязвим, поскольку сами группы имели в высшей степени размытые границы: решено было считать "компанией" всякую группу из трех и более людей, каждый из которых более одного раза был перечислен вместе с как минимум двумя людьми, удовлетворяющими тому же критерию. Можно придумать ситуацию, когда такой способ идентификации кругов общения привел бы к абсурдным результатам в силу своего логического несовершенства. Вообще, наибольшие методические недостатки беннингтонских исследований 60-х связаны именно с изучением социальных сетей (любопытно, что проект 30-х, в аналогичных случаях опирающийся на построение социометрических индексов, был гораздо совершеннее в этом отношении). Однако, критерий сработал: было выделено несколько групп, удовлетворяв- ших ему, и их членов можно было противопоставить внесуб-культурным девиантам.
Как и следовало из рабочих гипотез, члены девиантной субкультуры были значительно менее подвержены влиянию бен-нингтонской студенческой культуры. Они имели самые низкие оценки по результатам теста OPI, которые почти не изменялись со временем. В отличие от них, внесубкультурные девианты, какими бы не были их первоначальные баллы, достаточно быстро проделывали эволюцию к средним показателям по колледжу. Однако, вторую гипотезу проверить так и не удалось: введение жесткого критерия отбора членов Социальной группы и сравнительно небольшое количество отчисленных не позволили сказать, верно ли предположение о том, что принадлежность к субкультуре делает оставление колледжа более вероятным. Впрочем, небольшое отчисление свидетельствует о том, что эскапистский сценарий вообще не был особенно распространен.
Хотя результаты свидетельствовали в пользу теории, предложенной исследователями, оставался вопрос, который так и не был закрыт: почему одни девиантные по меркам Беннингтона студентки примкнули к субкультуре, а другие не стали сопротивляться давлению нового окружения, и привели свое поведение в соответствие с его ожиданиями? Никакие данные, имевшиеся в распоряжении группы Ньюкомба, не обнаружили статистической связи с этой переменной. Ни происхождение, ни степень изначальной девиантности, какой она проступала из баллов OPI, ни даже соседство в корпусе общежития, в который изначально определяла девушку администрация, оказались не сопряжены с ней. В конце исследования стояла не точка, а вопросительный знак.
За пределами Беннингтона: контекст
В большинстве отношений беннингтонская господствующая студенческая культура была нетипичной для американских женских колледжей середины века. Напротив, девиантная Социальная группа руководствовалась теми нормами, которые доминировали в них, что, вероятно, и имели в виду принадлежавшие к ней девушки, описывая себя как "обыкновенных" и "нормальных" в противовес своим экзотическим подругам. Развернувшееся параллельно исследование Фридмана в колледже Вассар (Vassar) дало изображение такого "нормального" студенческого сообщества [Freedman, 1962]. В Беннингтоне учащиеся вместе с преподавателями стояли в оппозиции к нормам внешнего общества, считавшего женское либеральное образование вопросом престижа, вещью, которую надо приобрести, чтобы иногда с гордостью демонстрировать гостям и не вспоминать о ней все остальное время добросовестного исполнения обязанностей домохозяйки. В Вассаре, напротив, большинство студенток, вполне довольные уготованной им судьбой, противостояли попыткам профессоров втянуть их в занятия какой-то чепухой, совершенно бесполезной для их будущей вероятной карьеры. Нормы этого колледжа были противоположностью беннингтонским стандартам индивидуализма и интеллектуальности, и уже местные Творческие Личности, Академики и Бешеные оказались вынуждены использовать сценарий девиантной субкультуры, чтобы как-то сопротивляться мощному давлению.
Получившая, пожалуй, наибольшую известность типология Троу выделяет четыре основных студенческих субкультуры, которые, как предполагал автор, более-менее точно воспроизводятся во всех крупных университетах [Trow, 1960]. Это были знаменитые "Академики", "Профессионалы", "Нонконформисты" и "Коллегиалы". В то время как под описание последней категории более-менее точно подпадает беннингтонская Социальная группа, с соотнесением остальных есть некоторые сложности. Академики Троу охватывают людей, искренне преданных своей профессии и изучающих ее ради ее самой, не ради возможности сделать карьеру за ее счет. В отличие от них, Профессионалы видят в образовании главным образом средство увеличения своего дохода и повышения статуса, не выходя в чтении за пределы того, что можно будет затем конвертировать в деньги. Наконец, Нонконформисты тоже могут иметь широкие интеллектуальные интересы, но их отличает недоверие, а иногда и открытая оппозиционность к образовательным институтам, поскольку они являются частью враждебного социального порядка. Нормы, по отношению к которым выделяются эти группы — это уже не совсем беннингтонские Индивидуализм и Интеллектуализм. Скорее, их можно описать как Желание/Нежелание делать стандартную для мужчины — представителя среднего класса карьеру и Вера в эффективность/неэффективность образовательных институтов. Желание и Вера дают в сочетании субкультуру Профессионалов, их отсутствие — Нонконформистов, а Академики и Коллегиалы образуются одной положительной и одной отрицательной составляющей.
Типология Троу получила, в итоге, большее распространение, поскольку описанные им группы оказались типичнее, причем не только для США на пороге Молодежной революции. Их представителей можно легко распознать в аудитории любого российского вуза (лишь Нонконформист вряд ли встретится нам там, во всяком случае, не на социологии). Однако именно Ньюкомб и его коллеги впервые описал далеко идущие последствия принадлежности к студенческой культуре, и именно они описали диалектику отношений девиантных и мэйнстримных субкультур, которая в дальнейшем будет много раз наблюдаться следующими поколениями исследователей высшего образования.