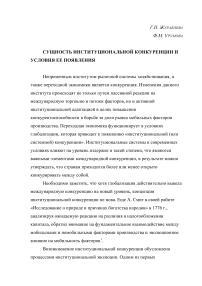Сущность институциональной конкуренции и условия ее появления
Автор: Журавлева Галина Петровна, Урумова Фатима Михайловна
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Наука и практика
Статья в выпуске: 1 (9), 2005 года.
Бесплатный доступ
Переходная экономика функционирует в условиях глобализации, которая приводит к появлению «институциональной (или системной) конкуренции». Институциональные системы в современных условиях влияют на уровень издержек в такой степени, что являются важными элементами международной конкуренции, в результате можно утверждать, что странам приходится более или менее открыто конкурировать между собой.
Институциональная (системная) конкуренция, переходная экономика, институциональная эволюция, экономические системы
Короткий адрес: https://sciup.org/14914813
IDR: 14914813
Текст научной статьи Сущность институциональной конкуренции и условия ее появления
Непременным институтом рыночной системы хозяйствования, а также переходной экономики является конкуренция. Изменения данного института происходят не только путем пассивной реакции на международную торговлю и потоки факторов, но и активной институциональной адаптацией в целях повышения конкурентоспособности в борьбе за доли рынка мобильных факторов производства. Переходная экономика функционирует в условиях глобализации, которая приводит к появлению «институциональной (или системной) конкуренции». Институциональные системы в современных условиях влияют на уровень издержек в такой степени, что являются важными элементами международной конкуренции, в результате можно утверждать, что странам приходится более или менее открыто конкурировать между собой.
Необходимо заметить, что хотя глобализация действительно вывела международную конкуренцию на новый уровень, концепция институциональной конкуренции не нова. Еще А. Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» в 1776 г., анализируя ожидаемую реакцию на различия в налогообложении капитала, обратил внимание на фундаментальное взаимодействие между мобильными и немобильными факторами производства и эволюционное влияние на мобильность факторов1.
Возникновение институциональной конкуренции обусловлено процессами институциональной эволюции. Одним из первых обществоведов ХХ века, описывающих необходимость институциональной эволюции, был Макс Вебер2. Задолго до того, как Вебер сфокусировался на институциональной эволюции, о ней писали британские мыслители – А. Фергюсон, Э. Гиббон, которых можно считать пионерами анализа институциональной эволюции. Позднее эти проблемы анализировались Д. Нортом, Э. Джонсом, Н. Розенбергом и Л.Э.
Бердзеллом, Э. Виде.
Мощным фактором институциональных изменений является открытость экономики. Когда открываются ранее закрытые политические и экономические системы, группы власти утрачивают свой контроль, институты неизбежно меняются. Более низкие транспортные, коммуникационные и трансакционные издержки в торговле и переливе факторов через границу в целом содействовали открытости экономической системы и подрывали условия для лоббирования и жесткости институтов. Открытость служит мощным стимулом сокращения информационных издержек и предпочтения универсальных правил, например, прямых систем частной собственности. Открытость международному вызову не единственное, с чем сталкиваются исчерпавшие себя институты, внутри страны члены общества начинают уклоняться от неблагоприятными внешних институтов и уходят в тень. Теневая экономика зависит от внутренних правил, и ее распространение можно интерпретировать как конкуренцию между официальными формальными и стихийными неформальными правилами.
Развитие средств коммуникации, снижение транспортных и трансакционных издержек облегчает для продавцов и собственников факторов перемещение между институциональными системами, делая их более осведомленными об альтернативных институциональных условиях в разных странах. Перемещая через границы мобильные факторы, собственники неизбежно делают выбор между институциональными системами. Естественно, если агенты понимают и правильно интерпретируют эффекты разных институтов, то могут ожидать различий в прибыльности как прямого следствия разницы в институтах в разных странах. В этом случае институциональный выбор становится конкурентной возможностью, которая находится под влиянием открытости экономики, и потому зависит от свободы торговли, движения и конвертируемости валюты, так же как от метаправил, гарантирующих эти свободы. Экономические агенты, осуществляющие такой выбор, делают его индивидуально, реализуя возможность «ухода».
Экономические «уходы» такого рода посылают сигналы как избранным и организованным группам интересов, так и прямо политическим агентам. Однако это не гарантирует, что сигналы будут приняты и поняты правильно. Политические агенты в неэффективных правовых системах, не имеющие опыта предпринимательской реакции на изменения, эгоистичны, обладают слабой приспособляемостью и ограниченной способностью читать сигналы. Таким же образом организованные группы интересов и электорат в целом не сумеют осознать необходимость изменения.
Институциональная инновация начнется только тогда, когда большинство избирателей даже перед лицом сопротивления групп интересов поддержит изменение, или когда организованные группы обнаружат преимущества открытости. Если это происходит, правительства начинают конкурировать с другими правительствами (межюрисдикционная конкуренция). Однако представители неоклассического подхода отрицают конкуренцию между странами, в частности П. Кругман3 подчеркивал, что «…страны не конкурируют друг с другом как корпорации». Как и другие неоклассики, привычно принимавшие нулевые трансакционные издержки и потому опускавшие анализ институтов, он не мог рассматривать предложение институтов, коллективно произведенных правительствами, как средство сокращения уровня издержек и привлечения мобильных факторов производства.
В процессе институциональных новаций многое зависит от способности правительства и агентов признавать важность «сигналов ухода», а также даже при давлении групп сопротивления и обращенных внутрь племенных инстинктов осознавать необходимость предложения институтов, конституирующих привлекательный фактор локальности.
Институциональная конкуренция (или соревнование систем) подчеркивает важность наборов внутренних и внешних правил для национального уровня издержек и тем самым международной конкурентоспособности. Глобализация – с интенсивной торговлей и большей мобильностью факторов – создает более непосредственную связь с высокозатратными институциональными системами и необходимость активно приспосабливать эти системы.
Институциональная конкуренция – это процесс: а) мобилизующий техническое, организационное и экономическое творчество; б) дисциплинирующий контроль над собственными институтами, как внутренней практикой и условностями, так и создание, и внедрение внешних институтов.
Первое делает возможными технические и организационные изменения, а открытие экономических систем дало конкурентам возможность вовлекаться в международное «замещение местоположения» (location substitution).
Второе содействует установлению контроля над решением проблемы агента-принципала и запускает институциональное творчество. Со временем открытость обеспечивает обратной связью эволюцию внутренних и внешних институтов, стимулирует институциональные открытия:
-
I) способствуя предпринимательству в промышленных ассоциациях и других группах гражданского общества, работающим над обнаружением и проверкой более совершенных стандартов бизнеса, практики работы, процедур осуществления и пр. для ускорения роста производительности;
-
II) способствуя политическому, административному и юридическому предпринимательству в правительственных администрациях, чтобы творческими активными путями ускорять рост производительности и конкурентоспособность.
Когда у индивидов есть свобода выбора, открытость стимулирует большие инновации в различных взаимозависимых профессиях.
Для реализации преимуществ межюрисдикционной конкуренции внутри страны могут создаваться федерально-государственные конституции. Федерализм – это способ использования соперничества между государственными и местными политическими органами в интересах обнаружения предпочтительных административных решений и институтов. Этот аспект необходимо использовать в процессе формирования системы внешних институтов в Российской Федерации, и таким образом путем конкуренции привести законодательную базу федерации и субъектов в соответствие как с политическими, так и экономическими интересами граждан.
Наличие у потребителей и производителей возможности перемещаться между независимыми субнациональными юрисдикциями вынуждает законодателей и администраторов конкурировать: право ухода обеспечивает обратную связь с гражданами-принципалами. В странах, где нет гарантий свободного движения товаров и факторов производства по национальной территории из-за контроля на внутренних границах или регулирования, мешающего межрегиональной торговле, фактически отказываются от таких важных преимуществ разделения труда, как выгоды сравнительно-статической специализации, а также динамических преимуществ более интенсивной конкуренции между предложением и регулированием. Когда публичная политика меньше концентрируется в руках централизованного правительства, появляется лучшая возможность контроля за рентоориентированным поведением, группами давления и оппортунизмом агентов.
Преимущество с точки зрения граждан и предприятий в предпочтении принципа подконтрольности состоит в том, чтобы каждая задача коллективного действия всегда располагалась на возможно низшем уровне управления. Многие задачи управления могут быть децентрализованы и отданы конкурирующим властям. Конкурирующие государственные или местные власти могут, например, осуществлять финансирование или регулирование социального обеспечения, поддержку инфраструктуры и ряд услуг образования и здравоохранения. В определенных случаях, однако, есть преимущества в централизации правительственных функций, например, когда общие институты, такие как единые коммерческие кодексы или законы дорожного движения, позволяют значительно экономить на трансакционных издержках, или когда реализуются преимущества экономии на масштабе (национальная оборона). Поскольку институциональная эволюция и открытие новых административных решений выигрывают от экспериментов в конкурирующих государственных и местных органах управления, нормативные принципы солидарности могут превращаться в конституционные принципы высокого уровня.
Приверженцы централизованного управления возражают против подконтрольности таким аргументом, что необходимо гарантировать национальное единство, обеспечивая в разных регионах и провинциях равный доход и возможности занятости и гарантируя одинаковое обеспечение общественными благами всех граждан безотносительно того, где они живут и каких избрали политических агентов. Однако мировой опыт выравнивания региональной политики не более убедителен, чем выравнивание социального обеспечения, не в последнюю очередь в силу того, что оно ослабляет стихийные, самокорректирующиеся ответы на региональные различия в доходах. Нездоровые регионы, имеющие легкий доступ к помощи центрального правительства, могут отказаться от более низкого уровня зарплаты для привлечения новых инвесторов. Более того, одинаковое, централизованное обеспечение общественными благами может идти вразрез с региональными предпочтениями и приоритетами, поскольку власти, проводящие публичную политику, далеки от граждан.
Централизация питает оппортунизм в ситуации агента-принципала, равно как и проблему недобросовестности (moral hazard) у части электората. Федеральное разнообразие в проведении политики дает избирателям выбор и стиль управления, делающего разным обеспечение общественными благами, что усилит заинтересованность граждан в культивировании местного и регионального экономического развития.
Принцип соподчиненности означает разделение задач управления между разными уровнями правительства (например, местное, региональное и национальное правительство). Он обуславливает, что задачи управления должны всегда выполняться на возможно низшем уровне. Принцип соподчиненности нарушается излишней централизацией задач. Соподчиненность объясняется правилом происхождения (которое исключает препятствия свободной торговли внутри нации), эксклюзивным назначением задач отдельным уровням управления, налоговым равенством (т.е. требованием, чтобы каждое правительство несло ответственность за финансирование своих задач).
Принцип соподчиненности реализуется, когда конкурирующие федеральные системы принимают три общих институциональных 4 рычага:
-
(a) федерации должны придерживаться правила происхождения , которое оговаривает, что продукты, производимые легально в одной части федерации автоматически легальны для продажи везде; иными словами, исключается дискриминация между разными местами производства;
-
(b) федеральные конституции должны назначать разные задачи управления исключительно одному уровню правительства: они должны исключить наложение и дублирование задач, чтобы не путать избирателей, кто несет ответственность за исполнение. Исключаемость сокращает масштабы оппортунизма политиков и администраторов;
-
(c) федерации должны соблюдать принцип фискального равенства , запрещая вертикальный переход общественных средств и заставляя каждую администрацию финансировать собственные задачи. Это ограничивает перераспределение трансфертов и накладывает налоговую ответственность на конкурирующих администраторов.
Такая система называется «конкурентным федерализмом». Она позволяет индивидам голосовать ногами, но неизбежно работает с некоторым трением и как все конкурентные системы требует затрат ресурсов. Скорее всего, граждане предпочтут результаты государственного и местного соперничества решениям центральной администрации. Конкурентный федерализм дает больше возможностей гражданам и способствует изменениям в публичной политике, которые действительно поддерживаются гражданами. Использование конкуренцией рычагов контроля за властью побуждает правительство нести информационные и трансакционные издержки, чтобы привлекать граждан и инвесторов. Эволюционный обмен между межюрисдикционным предпринимательством в местных и государственных органах управления усиливает международную конкурентоспособность и привлекательность страны. Это объясняет то, что многие процветающие демократии основаны на федеральных конституциях (Швейцария, США, Канада и др.), а региональные сообщества во многих других странах стараются утвердить свою коллективную идентичность, требуя передачи правительственных функций (Испания, Британия, Южная Африка, а также Россия и Китай). Преобразование региональной идентичности в конструктивное административно-институциональное соперничество является более эффективным, чем их подавление централизацией и риском политической конфронтации между регионами. Однако, как показывает недавний российский опыт, здесь необходимо соблюдать меру, и не подменять суверенитетом регионов функции, которые должен брать на себя центр.
Анализ институциональной эволюции подчеркивает то, что институты развиваются и меняются под влиянием спроса, предъявляемого индивидами, имеющими свободу выбора. В обществе, где экономические свободы ограничены, устоявшиеся группы используют свою власть для закрепления институтов, служащих их интересам. Действительно, группы влияния стремятся избегать свободы и равенства перед законом для усиления своих частных позиций. Когда система, в которой доминируют группы влияния, открывается или стоит перед лицом внешних трудностей, институциональная система вынуждена реформироваться. Успех реформ зависит от того, будет ли гарантироваться свобода действий, чтобы каждый индивид мог выражать свои предпочтения, или же группы влияния смогут урезать индивидуальную экономическую свободу. Это подчеркивает главную роль первостепенной приверженности к свободе контроля за концентрацией власти, злоупотреблениями политически организованных групп.
Где свобода является конституционным принципом, индивиды могут экспериментировать с альтернативами, своим примером формируя критическую массу последователей для установления новых институтов. В случаях внешних институтов, которые требуют политических процессов для институциональных изменений, свобода является конституциональным фундаментом для проведения политической воли к институциональному изменению, если оно востребовано большинством. Комбинация партийных монополий и организованных интересов, включая бюрократические интересы, затрудняет индивидам и «чужакам» противостоять системе правил, ограничивающих индивидуальные свободы. В современных демократиях для эволюционного потенциала системы особенно важно защищать свободу выхода (свободная международная торговля, миграция и движение капитала) и свободу ассоциаций, информации и т.д. как гарантии против институционального склероза и жесткости. Поэтому свобода является ключом к эволюционной способности институтов, принципом, который необходимо культивировать и беречь в первую очередь.
Список литературы Сущность институциональной конкуренции и условия ее появления
- Smith A. An Inquiry into the Wealth of Nations. London,: Dent, 1970. V. 2. P. 330-331.
- Weber M. General Economic History. New Brunswick: Transaction Books, 1995.
- Krugman P. Competitiveness -A Dangerous Drug//Foreign Affairs, 1994. March/April. P. 34.
- Kasper W. Free to Work: The New Zealand Employment Contracts Act. Sydney and Wellington, NZ, 1996: Centre for Independent Studies.