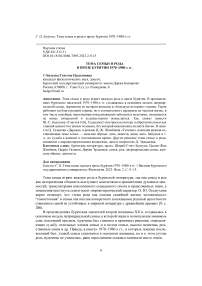Тема семьи и рода в прозе Бурятии 1970-1980-х гг
Автор: Бадуева Гунсэма Цыдыповна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Тема семьи и рода играет важную роль в прозе Бурятии. В произведениях бурятских писателей 1970-1980-х гг. создавалась в основном модель патриархальной семьи, перипетии ее истории вписаны в «большую историю» страны. Герои работают на благо родной страны, но в соответствии с временем их частная жизнь, в том числе семейная, наполненная повседневными заботами и мелочами, оказывается не менее интересной и художественно осмысляется. Так, сюжет повести Ш.-С. Бадлуева «Счастья тебе, Сыдылма!» построен на потере и обретении семьи как главной ценности в жизни человека, без которой невозможна полнота бытия. В повести Ц. Галанова «Дарима» и романе Ц.-Ж. Жимбиева «Течение» показана важная составляющая темы семьи - женские образы: дочь, невеста, жена, мать, бабушка и т. д., их судьба в военное и послевоенное время. Другое решение темы семьи и рода, связанное с мировоззренческими вопросами, дано в творчестве Д. Эрдынеева.
Бурятская литература, проза, шираб-сэнгэ бадлуев, цыден-жап жимбиев, цырен галанов, доржи эрдынеев, семья, род, патриархальная семья, женские образы, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/148326466
IDR: 148326466 | УДК: 821.512.31 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-9-15
Текст научной статьи Тема семьи и рода в прозе Бурятии 1970-1980-х гг
Бадуева Г. Ц. Тема семьи и рода в прозе Бурятии 1970‒1980-х гг. // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 2. С. 9‒15.
Тема семьи играет важную роль в бурятской литературе, так как семья и род как историческая общность выступают носителями и хранителями духовных ценностей, трансляторами накопленного социального опыта и нравственных норм, а изменения института семьи носят мировоззренческий характер. О. Ю. Осьмухина верно отмечает, что «тема рода как основы семейной жизни, человеческого “самостояния” и семьи как вполне конкретного воплощения родовой целостности становится одной из устойчивых в мировой литературе с древнейших времен» [9, с. 286].
В произведениях бурятских писателей второй половины XX в. создавалась в основном модель патриархальной семьи, в которой знали и почитали как минимум семь поколений предков, мужчина был главным и принимал решения, определяющие судьбу отдельных членов семьи и в целом семьи, высоко ценились родственные связи и др. Правда, в книгах 1970–1980-х гг., в которых показан послевоенный быт, главой семьи становится в основном женщина, но и в этом случае роль мужчины не умалялась, рано взрослевшие сыновья занимали место отцов.
Ценность семейного начала подчеркнута и тем, что в названия как сильную позицию текста зачастую выносятся слова, характеризующие принадлежность к семье, роду: «Просто — мать…» Ц.-Д. Дамдинжапова, «По зову матери» Ж. Ту-мунова, «Материнская правда» Ц. Шагжина, «Сын табунщика» Ц. Номтоева, «Доржи, сын Банзара», «Улигер дедушки Базара» Ч. Цыдендамбаева, «Поворот с дороги предков» К. Маланова, «Сын отца», «Далекая невестка» Ц. Галанова, «Зов предков и звуки грядущего» Б. Мунгонова, «Сестры» А. Бальбурова, «Сын отца», «Невестка» Ц. Галанова, «А дедушке Шулуну скажу…», «Его родовое имя» К. Балкова, «Огонь в очаге» Г. Раднаевой, «Моя родословная» Н. Дамдинова, «Большая родословная», «Отцовская любовь», «Внуки Тубэргэна» Д. Эрдынеева, «Дни дедушки Бизья» С. Цырендоржиева, «Зов матери» Б. Ябжанова, «Материнское сердце» Ц.-Д. Хамаева, «Братнина литовка», «Вся деревня, вся родня», «Ро-дова» К. Карнышева, «Сказка об отцовском сердце» С. Захаровой, «Отцовская коновязь» А. Лыгденова, «Нагаса эжы», «Ахай», «А наш брат в армию уехал» Б. Молонова и др.
Многие сюжеты построены на перипетиях родовой и семейной истории, вписанной в «большую историю». Герои бурятской прозы 1970–1980-х гг. работают на благо родной страны, но в соответствии с особенностями времени их частная жизнь, в том числе семейная, наполненная повседневными заботами и мелочами, оказывается не менее интересной и художественно осмысляется. Остановимся подробнее на нескольких произведениях, в которых система персонажей выстроена по принципу родства, проблемы семьи, рода, памяти поколений определяют сюжетообразующие коллизии, сюжетные и композиционные приемы, образ дома становятся смысловым ядром.
Сюжет повести Ш.-С. Бадлуева «Счастья тебе, Сыдылма!» (1970) построен на потере и обретении семьи как главной ценности в жизни человека, без которой невозможна полнота бытия. В краткой предыстории автор подчеркивает, что история Дамдина и его семьи, вписанная в историю страны, типична для того времени. Пока герой воевал, мать жила у родственников, их « ветхий дом (образ дома тесно связан с анализируемой темой. — Г. Б. ) стоял хмуро, одиноко, без крыши, без стекол. Каждый звук отдавался в пустых стенах страшным мерцающим гулом » [1, с. 6] (здесь и далее курсив наш. — Г. Б. ). Через четыре дня после свадьбы вернувшегося с войны сына, узнав ласковые руки своей невестки 1 [1, с. 7], сполна испытав материнское счастье, старушка ушла из жизни. Дальше автор сообщает, что молодая семья через год отремонтировала заброшенный дом [1, с. 7], изготовила мебель, завела огород, расширила хозяйство, держала поросенка, корову, бычка, каждую зиму забивала на мясо скотину. У них родился сын, через год — второй сын, потом дочь. « Семья стала похожей на семью: Дамдин и Дарима растили троих детей и были счастливы» [1, с. 7]. Писатель подчеркивает типичность этапов семейной жизни главного героя, так жили многие советские семьи в послевоенные годы. Счастливая жизнь закончилась со смертью жены.
На помощь осиротевшей семье по поручению председателя приходит Сы-дылма, над чьей некрасивостью Дамдин когда-то зло и безжалостно подшутил, помешав намечающейся свадьбе, оставив без мужа и детей. Повествование движется неспешно, показывая, как меняется отношение героини к порученному делу (вначале воспринимала как обычную работу, например очистку зерна), как чужой дом становится своим, как из-за сострадания к детям и нежелания причинять им боль принимает нелегкое решение расстаться с любителем женщин и выпивки Ильей, как меняется Сыдылма, переходя из статуса гостьи в статус матери и жены, как обретают семейное счастье два одиноких взрослых человека и трое осиротевших детей. Процесс превращения чужого дома, чужого пространства в «свое», создания новой семьи можно проиллюстрировать следующими цитатами: «Не было у меня детей. Таких, как я, наверно, не любят маленькие. Может, они чувствуют, что чужая я, непривычная к детям, грубая?» [1, с. 15]; «Увидев отца (после выписки из больницы. — Г. Б.), дети с радостным криком бросились к нему. Он прижимался губами к детским головкам1, вдыхал родной нежный запах, гладил их волосы здоровой рукой» [1, с. 21]; «Как изменился дом Дамдина! Светлые лучи полуденного солнца вливались сквозь чисто вымытые стекла. Дамдин видел все вокруг в новом свете. Стол и стулья крепко стояли на ногах, постели стали пухлыми и аккуратными, посуда пропиталась приятным запахом чистоты. Воздух ароматен, как на лужайке, усыпанной цветами. <…> “Тук-тук” — это в деревянном корыте-тэбшэ рубит Сэдэлма мороженое мясо. “Дзинь…” Ковш задел край алюминиевого бачка. Острый нож режет лапшу — даже этот шорох доходит до него. Кухня дышит. <…> затрещали смоляные поленья, загудело в трубе. А потом в комнату прокрался запах бурятского супа2» [1, с. 21]. Процесс обретения семьи и ощущение полноты семейного счастья передаются, как отмечено выше, через создание «своего» пространства, наполненного бытовыми деталями и мелочами, звуками и запахами3, непритязательными на первый взгляд, но приобретающими в восприятии героев повести символическое значение.
Важной составляющей темы семьи и рода являются женские образы — дочери, невесты, жены, матери, бабушки и др. Так, в повести Ц. Галанова4 «Дарима»5
(1973) показана типичная судьбы женщины в военное и послевоенное время1. Описание рук главной героини, с семнадцати лет работавшей дояркой, становится завязкой повествования и в финале композиционно закольцовывает произведение: «Я смотрел на ее пальцы — длинные, тонкие , удивляясь им: такие пальцы бог дает музыкантам. И хоть у Даримы от трудной работы они огрубели, припухли в суставах , но сохранили свою красоту и легкость » [4, с. 7], «…и стали мои пальцы, как мохнатые сучья » [4, с. 7], « Грубые, потемневшие, потрескавшиеся ладони, распухшие в суставах пальцы» [4, с. 8], «… узловатые, изуродованные ревматизмом пальцы» [4, с. 8], «Она поднесла к лицу руки — грубые, потемневшие, с узловатыми пальцами. Крепкие, добрые, рабочие руки» [4, с. 102]. Несмотря на все испытания: рано оставшись без родителей, в войну похоронила бабушку, стала опорой дедушке, вместо учебы в школе пошла работать на ферму, любимый Бато погиб на войне, родила сына от силой взявшего ее Галдана, Дарима не озлобилась, честно работала, стала Героем Социалистического труда, — одна достойно воспитала сына. Мечта героини — стать музыкантом и играть на хуре — осуществилась в таланте сына Баира, который хорошо рисует и станет художником. Частные, как будто локальные подробности на деле придают эпичный масштаб изображенной жизни.
В романе Ц.-Ж. Жимбиева «Течение» (1978) предстает еще одна типичная женская судьба. Композиционный прием чередования воспоминаний и событий, происходящих в настоящем, а также символические образы разливающейся во время наводнения воды и льющегося молока2: «Молоко вскипает белой пеной и … с бульканьем, словно тесно ему в алюминиевой фляге, льется на землю, смешиваясь с грязью. Еще из одного бидона течет белый ручей. Вокруг третьего образовалась молочная лужа. Все под ногами забелело молоком» [5, с. 3] — позволяют показать прожитые главной героиней Сэренцу Баторовой тридцать лет после мимолетной встречи с мужем, в 1945 г. проехавшем мимо родных мест на войну с
Японией, и переезда на Тасархайскую ферму. Потеряв Зандана, погибшего на Восточном фронте, героиня верна ему, воспитывает сына Баира1, поддерживает свекра Боди. Показаны судьбы и других женщин: подруга Пагма родила детей от разных отцов, всех сумела поднять на ноги; некрасивая молодая доярка Ленхобо очень хочет выйти замуж и родить ребенка, но из-за того, что мужчин в деревне после войны мало, ей скорее всего не суждено будет испытать счастье материнства. Через панораму жизни и истории семей Зандана и Сэренцу Бодиевых, ее коллег-доярок показывается трудное послевоенное время, акцентируется внимание на нравственных ориентирах героинь, системе семейных ценностей.
Другое, более сложное решение темы семьи дано в творчестве Д. Эрдынеева — романы «Большая родословная», «Аргамак ищет хозяина», «Расплата», повести «В этой жизни», «В тени старого дома», цикл рассказов «Нравы Тубэргэнов», рассказы «Отцовская любовь», «Внуки Тубэргэна», «Тоонто», пьесы «Бальжин ха-тан», «Святое подношение» и др. Писатель вписывает анализируемую тему в контекст родового начала, отражающего как устойчивую нравственную ценность, так и важную часть национальной ментальности, связанную с понятием «удха» (корень). Нами подробно рассмотрен мотив родового начала в прозе указанного автора [2], поэтому коснемся лишь нескольких значимых для анализируемой темы моментов.
Эрдынеев показывает изменение в новых условиях вековых устоев семейной и родовой жизни. Сюжетообразующие коллизии противопоставления и столкновения двух родов («Тоонто», «Время покоса», «Большая родословная», «В тени старого дома», «Аргамак ищет хозяина», «Расплата»), конфликт между старшим и младшим поколениями семьи/рода («Половодье», «Время покоса», «Гостья», «Такая сильная любовь», «В этой жизни», «Аргамак ищет хозяина», «В тени старого дома», «Большая родословная») позволяют определить правильность или ошибочность выбранной героем позиции.
Главные герои эрдынеевских книг, чрезвычайно дорожащие понятиями родового имени и родовой чести, в момент кризиса понимают, что силой рода является правильное определение главных принципов бытия. Как верно отмечает В. В. Башкеева, «семья есть звено в череде поколений рода, когда традиция наследуется от пращура к потомкам. Причем скрепляющим началом являются не столько кровные связи, сколько нравственные» [3, с. 24]. Так, в романе «Большая родословная» жизнь двух родов тесно переплетена, в том числе родственными связями. И у Арьяевых, чье родовое начало подчеркнуто даже деталями портрета, например, «холодный арьятановский блеск» глаз [11, с. 31], и у Лыксэковых собственный уклад, свои нравственные принципы. Двухэтажный дом с просторной усадьбой Арьятан, которые на первое место ставят материальные интересы, и скромная городская квартира Лыксэковых, живущих прежде всего интересами любимого дела, противопоставляются, как и жизненные позиции основателей родов, когда-то бывших закадычными друзьями. Первый так и не становится по-настоящему родовым домом, остается холодным и замкнутым, тогда как второй открыт, полон жизни и друзей. Арья отменяет «золотую свадьбу, которая должна была показать богатство, прежде всего материальное, и силу Арьятан, потому что приходит к пониманию «одиночества» своего рода, его отчужденности от обще-ства1 [10, с. 79], мирится со старым другом Лыксэком Гынденовым. Позицию главы рода поддерживает часть молодого поколения, что позволяет надеяться на возрождение рода. Как видим, в творчестве Д. Эрдынеева тема семьи и рода связана с решением мировоззренческих вопросов.
Таким образом, в бурятской прозе 1970–1980-х гг. предприняты попытки осознания родо-семейных отношений, дающие возможность ответить на сложные вопросы. Писатели подчеркивают важность идеи ценности рода и семьи, которая «есть целый остров духовной жизни» [6, с. 8], семейных и родовых принципов, от которых зависит воспитание личности.