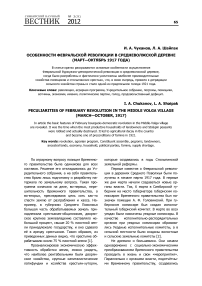Особенности Февральской революции в средневолжской деревне (март-октябрь 1917 года)
Автор: Чуканов Иван Альбертович, Шайпак Леонид Александрович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье кратко раскрываются основные особенности осуществления Февральской буржуазно-демократической революции в средневолжской деревне, когда были разграблены и фактически уничтожены наиболее производительные хозяйства помещиков и столыпинских крестьян, что, в свою очередь, привело к деградации сельского хозяйства страны и стало одной из предпосылок голода 1921 года.
Революция, аграрная программа, учредительное собрание, погромы, помещики, вотчины, экономии, имения, политические партии, голод, продовольственный дефицит
Короткий адрес: https://sciup.org/14113711
IDR: 14113711
Текст научной статьи Особенности Февральской революции в средневолжской деревне (март-октябрь 1917 года)
По аграрному вопросу позиция Временного правительства была одинакова для всех составов. Решение его откладывалось до Учредительного собрания, а на себя правительство брало лишь подготовку и разработку материала по земельному вопросу. Такая программа означала на деле, во-первых, нерешительность Временного правительства, а во-вторых, преследовала цель хоть как-то спасти землю от разграбления и хаоса. Например, в губерниях Среднего Поволжья большая часть обрабатываемых земель принадлежала крестьянам-общинникам, дворянское крупное землевладение составляло небольшой процент, свыше 20 % пахотной земли принадлежало государству, и оно сдавало её в аренду крестьянам. Таким образом, из приведенных данных видно, что крестьяне обрабатывали около 75 % пахотной земли [1].
Проанализировав экономическую эффективность обработки земли, можно увидеть, что наиболее рентабельными были дворянские хозяйства, крупные капиталистические латифундии и хозяйства крестьян-хуторян, которые создавались в годы Столыпинской земельной реформы.
Первые известия о Февральской революции в деревнях Среднего Поволжья были получены в начале марта 1917 года. В первые же дни марта начали создаваться новые органы власти. Так, 6 марта в Симбирской губернии на место губернатора губернским комиссаром Временного правительства был назначен помещик А. Ф. Головинский. При губернском комиссаре был создан исполнительный губернский комитет. В марте во всех уездах были назначены уездные комиссары. В качестве исполнительно-распорядительных органов при уездных комиссарах образовались Уездные исполнительные комитеты, а в сельской местности были созданы волостные и сельские земельные комитеты [2].
Не дремали и большевики. Они начали одновременно с социально-экономическими преобразованиями Временного правительства проводить в жизнь и свои «мероприятия». Параллельно с органами власти, подотчётными Временному правительству, создавались властные структуры большевиков, которые зачастую на первых порах выступали в одной «упряжке» с меньшевиками и эсерами, — Советы крестьянских депутатов [3].
Шли дни, а Временное правительство ничего конкретного в вопросе о земле не предпринимало, а лишь указывало, что земельный вопрос может решить только Учредительное собрание. Неопределённость в решении земельного вопроса развязывала руки большевистским представителям, которые выполняли программу, направленную на конфискацию помещичьих и частновладельческих имений, и подстрекали крестьян на их захват. По всей стране в клубах дыма и огне пожарищ начался страшный «чёрный передел».
Стихийные захваты земель в начале марта имели место в Ардатовском, Курмышском уездах Симбирской губернии [4], Балашов-ском и Петровском уездах Саратовской губернии, Николаевском уезде Самарской губернии, Лаишевском уезде Казанской губернии [5, с. 45—46]. Так, 9—10 марта 1917 года в деревне Лыковшина Саранского уезда крестьяне заставили помещицу выдать подписку, что она отдаёт крестьянам всю землю, запретили брать дрова и лес из её лесных участков [6].
9 марта 1917 года Временное правительство заслушало сообщение военного и морского министра А. И. Гучкова о мерах по подавлению возникших в Казанской губернии аграрных беспорядков. Правительство решительно выступило против захватов помещичьих земель и предписало министру внутренних дел подвергать аресту крестьян за борьбу с помещиками. Рекомендовалось «обратиться к местным общественным организациям и лицам, пользующимся доверием населения» с просьбой «оказать содействие для вразумления и успокоения крестьян» [7, с. 431].
О жёсткости и решимости в решении аграрного вопроса свидетельствует предписание премьер-министра Г. Е. Львова всем губернским комиссарам (13.04.1917 г.) «...всей силой закона прекращать проявление всякого рода насилия и грабежа... несёте вместе с местными общественными комитетами ответственность за сохранение в губернии порядка всеми теми мерами, которые вы сочтёте нужными принять» [8]. В Среднем Поволжье комиссары Временного правительства старались следовать указаниям правительства. В конце марта 1917 года для прекращения «аграрных беспорядков» воинские команды направлялись в уезды Казанской, Симбирской, Пензенской губерний [9].
Несмотря на принимаемые меры на территории Европейской России, в марте 1917 года произошло около 190 крестьянских волнений [10]. Большинство из них были инспирированы большевиками. К концу марта Временное правительство начало понимать, что земельный вопрос является одним из важнейших, первоочередных. Министр земледелия А. И. Шингарев 19 марта 1917 года вносит в правительство проект «Воззвание о земле», в котором отмечается важность земельного вопроса [11], но в то же время в «Воззвании» заключается противоречие: правительство признавало важность и срочность решения аграрного вопроса и все же откладывало его до Учредительного собрания.
Также в конце марта правительство приняло постановление о создании на местах земельных камер «для достижения добровольных соглашений между земледельцами и землевладельцами» [7, с. 445], в котором стремилось успокоить крестьянство и прекратить стихийное разграбление частных землевладений.
С 20 марта по 10 апреля в Среднем Поволжье прошли крестьянские съезды (в основном под руководством эсеров). Съезды прошли в Самарской, Пензенской, Симбирской губерниях [12]. Но и эти съезды земельного вопроса не решили, а опять перенесли его решение до созыва Учредительного собрания.
Главное место в работе первого крестьянского съезда Пензенской губернии занимал аграрный вопрос. Большинство делегатов с мест высказалось за немедленную передачу всех земель в распоряжение волостных исполнительных комитетов. Правым эсерам удалось перебороть большевиков и провести резолюцию о недопустимости разрешения аграрного вопроса до созыва Учредительного собрания. Но под давлением большевиков были приняты «Временные правила», о которых говорилось выше. Здесь волостным комитетам предоставлялось право безвозмездно и помимо воли хозяина распределять сенокосы и пастбища, земледельцам запрещалось производить какие-либо земельные сделки [13].
-
В. И. Ленин на 7-й Всероссийской конференции РСДРП(б) говорил: «Крестьяне берут помещичий инвентарь, но не делят по дворам, а обращают в общественную собствен-
- ность. Они устанавливают известную очередь, правило, чтобы этим инвентарем обрабатывать все земли. Этот факт имеет гигантское значение, вопреки помещикам и капиталистам, кричащим, что это анархия» [14].
Но эти слова вождя большевиков идут вразрез с архивными документами, ознакомившись с которыми, мы видим, что практически во всех губерниях Среднего Поволжья происходят самовольные захваты земель и дележ этих земель между крестьянами (д. Ба-евка, Кузоватово Сенгилеевского уезда Симбирской губернии) [15]. Также в середине апреля начались погромы в помещичьих имениях Лаишевского, Спасского, Чебоксарского и Чистопольского уездов Казанской губернии. Свобода крестьянами понималась в погромах имений, уничтожении частновладельческих лесов, в грабежах и убийствах. Помещики и землевладельцы боялись приступать к посевам, потому что крестьяне угрожали все родившееся на земле помещиков забрать себе, как свою собственность [16].
Видя такое положение в деревне, переходящее в хаос, Временное правительство обнародовало постановление от 11 апреля 1917 «Об охране посевов». В нём шла речь о засеве полей и охране посевов от «земельных беспорядков» [17]. Дополнение к этому постановлению определяло возмещение убытков владельцам от насильственных мер из средств Государственного казначейства [18].
Несмотря на постановления правительства, большевики организовали в деревнях Среднего Поволжья погромы, захваты помещичьих земель и т. д. Этому способствовали создаваемые Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые во многом контролировались большевиками. В апреле они образовались в Симбирске, Ардатове, Алатыре, Сенгилее и Курмыше, а в начале мая — в Буинске и Карсуне [19].
Волостные комитеты занимались самоуправством. Так, в постановлении Бортсур-манского волостного комитета Курмышского уезда, где заправляли большевики, говорилось об «ограничении прав» по управлению имением помещика Пазухина:
-
1. Запретить пользоваться трудом военнопленных.
-
2. Пользоваться исключительно трудом местных крестьян. Плата за апрель: мужчинам — 4 руб., женщинам — 2 руб.
-
3. Служащие в экономии за меньшую плату будут удалены комитетом.
-
4. Вводится 8-часовой рабочий день.
-
5. При первой реквизиции скота берется половина экономического скота.
-
6. Запрещается продавать лес, а также запрещается купцам платить за лес, проданный в 1916 году.
-
7. Деньги, полученные за аренду лугов, должны быть возвращены, новая цена будет назначена [12].
Мы наглядно видим, что уже в апреле в деревне зарождался социализм без социалистической революции — уравниловка, регулирование отношений сверху и т. д. Большевики пытались, где это только было возможно, претворить в жизнь свои уравнительные идеи. Эти идеи поддерживали первоначально и эсеры. В некоторых Советах они выступали совместно с большевиками. В начале мая 1917 года в Среднем Поволжье под их контролем прошли очередные съезды крестьян Пензенской [20], Самарской [21], Казанской [22] губерний.
Так, состоявшийся 20 мая — 6 июня 1917 года съезд крестьян Самарской губернии был созван эсеровским исполкомом губернского Совета крестьянских депутатов. Съезд превратился в арену ожесточенной классовой и межпартийной борьбы. Большевики В. В. Куйбышев, С. И. Дерябина, П. А. Кондаков и другие выступали за немедленную передачу земли крестьянам [21].
-
26 мая П. Д. Климушкин и И. М. Брушвин от имени эсеровской фракции предложили крестьянским делегатам образовать аграрную комиссию, которая бы составила «Временные правила» пользования землей в Самарской губернии до Учредительного собрания. Над проектом указанных правил эсеры работали пять дней. За это время произошли большие изменения в убеждениях крестьян вследствие контактов с большевистскими агитаторами [23]. Неслучайно 31 мая один из правоэсеровских ораторов в своей приветственной речи от фронтовиков взывал к участникам II съезда с мольбой «не слушать ленинцев» и «не забирать самовольно земли». 1 июня был оглашен проект «Временных правил пользования землей в Самарской губернии». Правила подчеркивали, что необходимо покончить с помещичьей кабалой, уравнять землепользование, выделить большие наделы отрубни-
- кам, так как самое производительное и рентабельное производство сельскохозяйственных продуктов было у них [24].
Однако под давлением большевиков «Временные правила» были приняты в другой редакции. Они провоцировали захваты земель и дальнейшую анархию в сельском хозяйстве [25]. В пункте I «Временных правил» говорилось: «Немедленно должны быть прекращены всякие сделки по купле-продаже земель, а также торги и залоги их и вообще всякий переход земельной собственности из одних рук в другие» [26]. Большевики успешно готовили национализацию и последующее огосударствление всей пахотной земли.
Еще более сильное влияние большевиков, направляющих сельское хозяйство в водоворот хаоса, было в Симбирской губернии. Почти повсюду в губернии сельские общества, подстрекаемые местными большевиками, захватывали у заемщиков банков отрубные и хуторские участки. Захваченные участки затем были разверстаны между членами обществ (во многих случаях земля засевалась одним каким-либо хлебом). Отчуждение земли производилось без всякого вознаграждения собственников, часто за минимальную плату, поделенную землю не засевали.
В связи с изложенным платежи заемщиков банков по ссудам сократились до минимума. Крестьянский банк уплачивал по своим гарантированным государством свидетельствам 4,5—5 %, получая с заемщиков при сроке в 55,5 лет по 4,5 %. Банки докладывали, что сокращение поступлений платежей по ссудам может подорвать платежные средства государства [27].
Кульминацией первого Казанского губернского съезда крестьян было принятие 13 мая 1917 года постановления о передаче всех земель в распоряжение волостных комитетов. В постановлении, в частности, говорилось:
-
1. Все пахотные земли передать в распоряжение волостных комитетов;
-
2. Все угодья и леса отдаются под контроль губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов;
-
3. Губернский съезд крестьянских депутатов устанавливает отдачу земли всем желающим [28].
Популизм большевиков всё больше и больше завоёвывал умы необразованных крестьян, и все решения съездов воспринимались как вседозволенность. Маховик разгрома помещичьих земель всё больше и больше набирал силу. Так, в Чебоксарском и Лаишевском уездах Казанской губернии имели место самовольные захваты земель, в Свияжском и Спасском уездах той же губернии — порубка леса, порча посадок. В том же Спасском уезде предводитель дворянства Молоствов по пути в воинское присутствие (воинское подразделение — гарнизон. — Примеч. авт.) был избит толпой [29].
Характерным примером дешёвого популизма большевиков является статья о митинге, опубликованная в газете «Товарищ» г. Сызрани Симбирской губернии. На вопрос, как быть теперь с монастырской землёй, большевик-агитатор отвечал: «...Землю и монастырскую, и помещичью надо сейчас же забрать при помощи волостных комитетов или Советов крестьянских депутатов, аренды помещикам не платить, рабочих им не давать, инвентарь и скот отбирать». Популистские лозунги большевиков пользовались полным сочувствием и поддержкой огромной массы крестьян [30].
Но было бы неправильно все неудачи в аграрной реформе сваливать на большевиков. Да, до определённого момента экономический крах был необходимой частью большевистской политики. Но всё же огромная вина лежит и на Временном правительстве, политика которого в аграрном секторе характеризовалась полной неопределённостью. Его серьёзной ошибкой было то, что оно не сумело организовать эффективное регулирование для ослабления экономического хаоса [31]. Этим очень умело воспользовались в своих корыстных интересах большевики.
Коалиционное Временное правительство вкупе с Петроградским Советом проводило политику «нерешительности». И. Г. Церетели, один из руководителей РСДРП (меньшевиков), считал, что иного пути, кроме убеждения трудящихся покорно переносить невзгоды, не могло существовать в этот период: «В тех тяжёлых условиях, в которых приходилось жить трудящимся классам в разорённой войной стране, призывать их к дальнейшему несению лишений и жертв значило подвергать своё влияние на массы очень опасному испытанию. Но другого пути спасения страны и революции не было» [32].
Позднее, на IV съезде Партии социа листов-революционеров в ноябре—декабре
1917 года, делегат от Самарской организации социалистов-революционеров Ельяшевич признал, что после победы Февральской революции у них не было ясной определённой линии в смысле конкретных мер, которые необходимо провести в жизнь [33].
Июнь 1917 года был отмечен в Среднем Поволжье снижением влияния большевиков на массы вообще и на крестьян в частности. Объяснялось это тем, что некоторые крестьяне начинают понимать всю пагубность для страны аграрной политики большевиков. Это был единственный момент, начиная с марта 1917 года, когда Временное правительство могло решить крестьянский вопрос и направить его в цивилизованное русло. Но правительство отделалось полумерами и ещё раз расписалось в своей нерешительности или нежелании решать аграрный вопрос. 20 июня 1917 года Временное правительство объявило решения II съезда крестьян Самарской губернии незаконными и потребовало от губернского комиссара С. А. Волкова принять решительные меры к прекращению самоличных действий крестьян. «Лица, допускающие захват какой бы то ни было чужой собственности, инвентаря, хлеба или земли, — подлежат законной ответственности по суду» [34].
Ранее, во второй половине мая, министр земледелия В. М. Чернов отменил постановление о земле II крестьянского съезда Пензенской губернии и Симбирского уездного Совета крестьянских депутатов [5, с. 94]. Губернские власти полностью поддерживали Временное правительство и встали на путь более жёсткой линии по отношению к стихийности в деревне. Например, симбирский губернский комиссар на заявление землевладелицы с. Криуши Карсунского уезда Марии Терминской о том, что местным сельским комитетом, на основании постановления Аннинского волостного комитета, арестован у неё весь живой и мёртвый инвентарь, уволены двое служащих, сняты с работы военнопленные, и, наконец, тот же сельский комитет грозит недопущением к уборке урожая, предлагает комитету принять самые решительные меры к ограждению прав собственности Терминской. При этом губернский комиссар предупреждал, что неисполнение настоящего распоряжения повлечёт за собой возбуждение против виновных лиц уголовного преследования [35, л. 231].
14 июня 1917 года вышло постановление Симбирского губернского исполнительного комитета. В нём отмечалось, что решение земельного вопроса требует огромной подготовительной работы, основательного выяснения земельной нужды местного населения. Поэтому нельзя решить земельный вопрос простым захватом земли. Земельные захваты создают много недовольства и не только среди крупных землевладельцев, но и среди крестьян. Вследствие земельных захватов к недовольным примыкают и солдаты, находящиеся в армии, растёт дезертирство и разлагается армия. Неумелое и поспешное распределение земли на местах привело уже во многих случаях к столкновению между отдельными обществами [36].
Такое положение подготовило благоприятную почву для деятельности тёмных сил и большевистских Советов, создавало анархию. Поэтому, опираясь на вышесказанное, Губернский исполнительный комитет Симбирской губернии постановил:
-
1. Принять меры по прекращению и недопущению захватов;
-
2. Пересмотреть и отменить те постановления, которые остались без участия примирительных камер, дабы не оставалось озлобленных и недовольных людей, которые могут примкнуть к движению против революции;
-
3. За разрешением земельных отношений обращаться в Уездные земельные комитеты;
-
4. Сельскому комитету во всех случаях подчиняться Волостному комитету и т. д., в противном случае привлекать к уголовной ответственности;
-
5. Все вопросы, касающиеся порядка обработки засева и уборки полей, трав, распоряжение живым и мёртвым инвентарём передавать на рассмотрение Районных продовольственных управ, которые подчиняются Губернской продовольственной управе, а последняя — Министерству продовольствия;
-
6. Не принимать никаких самостоятельных решений по учёту живого и мёртвого инвентаря у частных землевладельцев;
-
7. Без прямых указаний Губернской продовольственной управы не чинить никаких препятствий землевладельцам свободно распоряжаться своим живым и мёртвым инвентарём;
-
8. Без разрешения Продовольственной управы не снимать с работы рабочих и военнопленных [35, л. 14—17].
Однако эта, как и многие другие резолюции Временного правительства и губернских правлений, остается безрезультатной. 15 и 20 июня товарищ министра внутренних дел Леонтьев направил срочные телеграммы губернскому комиссару Самарской губернии, в которых указывал, что поскольку постановление крестьянского съезда устанавливает переход частновладельческих земель, сельскохозяйственного инвентаря в распоряжение волостных комитетов, оно противоречит постановлению Временного правительства и является противозаконным. Леонтьев предлагал широко оповестить население об этом распоряжении правительства [37].
Однако местные учреждения, возглавляемые большевиками или левыми эсерами, не поддержали губернского комиссара. Губернский исполнительный комитет, обсудив 22 июня правительственную телеграмму, предписал уездным комитетам руководствоваться по земельному вопросу постановлениями II крестьянского съезда [38].
Эти действия перечёркивали распоряжение Министерства внутренних дел. В письме помещиков Бугурусланского уезда губернскому комиссару отмечалось, что телеграмма правительства, напечатанная в «Бугурусланских известиях», могла бы сдержать земельные захваты. Но этого не случилось, так как через несколько дней в той же газете была помещена телеграмма губернского исполнительного комитета, предлагавшая руководствоваться в земельном вопросе решением съезда. И здесь большевики обыграли неповоротливую демократическую власть.
В действительности же постановления крестьянского съезда опоздали. В большинстве уездов земля была уже разграблена. Так, в Новоузенском уезде Самарской губернии, по словам члена уездного земельного комитета, земля в большинстве случаев разделена между крестьянами уезда [39]. Из Николаевского уезда сообщали: «Постановления съезда в Николаевском уезде почти повсеместно проведены в жизнь» [40]. Страховский земельный комитет 9 июля постановил оставить местной помещице столько земли, сколько она может засеять собственными силами, но не более 25 десятин. В имении насчитывалось не менее 2200 дес., не считая леса. Из них 2000 дес. сдавалось в аренду крестьянам Страховского общества [41].
По распоряжению Графского земельного комитета весь земельный участок Киселёвой в размере 5630 дес., из которых собственный посев помещицы составлял 855 дес., перешёл в земельный фонд волости. Между сельскими обществами было распределено 1676 дес., оставлено под пар 1004 дес., под покос и выгон — 2095 дес. [42].
Решение о передаче крестьянам всех или части земель частных владельцев вынесли Ефимовский, Ключевский, Боголюбский, Утев-ский и другие волостные земельные комитеты Бузулукского уезда Самарской губернии [43].
Видя, что земля разграбляется и засевается бесконтрольно и не вся, мелкобуржуазные партии опомнились и попытались призвать крестьян к соглашению с помещиками, доказывали, что немедленный захват помещичьей земли может привести к ухудшению обработки земли и посевов.
Большевики отреагировали сразу же. В. И. Ленин на I Всероссийском крестьянском съезде по этому поводу говорил: «...разве крестьяне будут хуже засевать, если будут знать, что они сеют не на помещичьей, а на общенародной земле» [44, с. 123].
Обстановка в деревне к июлю 1917 года накалилась до предела. Временное правительство не обладало реальной властью и силой для решительных действий. О состоянии государственной власти на местах довольно точно было сказано в докладной записке помощника Казанского губернского комиссара главному земельному комитету от 6 июля 1917 года. Он писал: «...местные власти не имеют никакой возможности поддержать существующие земельно-правовые отношения. Всякая власть, употребившая свой авторитет на это, немедленно лишится доверия и перестанет быть властью». Поэтому она не вмешивается в земельные вопросы, которые «разрешаются исключительно фактическим соотношением сил между крестьянами и помещиками» [45].
Большевики по всему фронту праздновали победу. Бездействие властей в этот судьбоносный период, как и безвластие на местах, привели к тому, что большевики из всех политических партий страны пользовались у тёмных крестьянских масс наибольшими симпатиями. Они сумели потрафить вековым чаяниям крестьян, которые считали, что именно большевики помогли получить им отобранную у помещиков землю, разжиться имуществом, отнятым у разорённых землевладельцев. Им нравилось безнаказанно грабить, насиловать и убивать ни в чём не повинных людей, вся вина которых состояла в том, что они ранее были помещиками.
После июльских событий Временное правительство при поддержке меньшевиков и правых эсеров приняло определенные меры по наведению порядка в деревне. Начались аресты руководителей большевистских Советов на местах. Однако этот период, когда власти взялись за наведение порядка в стране, был недолгим. На местах власти организовали немногочисленные выборочные аресты сторонников большевиков. Так, в селе Сорочинское Бузулукского уезда Самарской губернии за пропаганду и распространение «Приволжской правды» был подвергнут аресту большевик М. Штраус [46, с. 143]. 13 июля в Спасском уезде Казанской губернии были арестованы большевики Г. С. Гордеев, левый эсер В. И. Мохов, избранный на крестьянском съезде уездным комиссаром, и 11 других уездных деятелей [47].
11 июля объединенное заседание Совета рабочих и солдатских депутатов и исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов приняло резолюцию, подготовленную меньшевистской фракцией, в которой выражалось полное доверие ЦИК Советов и осуждалось поведение большевиков [47]. 14 июля Самарский Совет крестьянских депутатов квалифицировал действия большевиков как преступление против революции и потребовал «категорически осудить их вождей за уклонение от суда» [46, с. 155—156]. Одобряли действия ЦИК Советов и Временного правительства Пензенский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов [46, с. 157] и Симбирский Совет крестьянских депутатов [48].
Однако эти мероприятия были не скоординированы по времени, не носили массового характера, и большевикам удалось сохранить практически в целости свою сеть подрывных сельских партийных ячеек и уже через короткое время оправиться от первого испуга.
Делая вывод из вышесказанного, необходимо отметить: крестьяне видели, что одними погромами и захватами улучшения жизни не добьёшься. Оценивая события 3—5 июля, мы видим, что в целом по стране 50 городских, районных и поселковых Советов одобрили действия Временного правительства и лишь 32 Совета не поддержали их [49].
Безусловно, такое положение дел не устраивало большевиков. Они поняли, что их разрушительная, антигосударственная деятельность перестаёт пользоваться поддержкой. Крестьяне постепенно начинают прозревать. Российские экстремистские марксисты начинают готовить в деревнях почву для поддержки со стороны крестьянской массы России готовящегося ими вооружённого мятежа. Главный вдохновитель большевизма В. И. Ленин в своих работах уже в июле призывал крестьян к неповиновению. В статье «Политическое положение» отмечалось, что переход земли к крестьянам невозможен без вооруженного восстания [50], «...помещики и крестьяне живут в обстановке кануна гражданской войны» [51, с. 5]. Этими выступлениями вождь большевизма подстрекал тёмные силы на вседозволенность и анархию. Наводимый в начале июля в деревне порядок в земельном вопросе был под угрозой.
К концу июля 1917 года большевики оправились от волны преследований со стороны Временного правительства и продолжили свою подрывную деятельность в сельском хозяйстве. В конце июля — августе начали поступать сообщения о новых выступлениях крестьянства против помещиков, богатых крестьян. В крестьянском движении углубились и усилились активные формы воздействия на частновладельческие имения. В полном соответствии с экономической программой большевизма в аграрном секторе усилились захваты земель и инвентаря, особенностью было то, что науськиваемые крестьяне требовали уже полной организованной конфискации имений [51, с. 49].
В августе число разгромов помещичьих имений и случаев расправ с помещиками резко возросло. Развитие аграрного движения сопровождалось дальнейшим размежеванием классовых и партийных сил внутри крестьянских комитетов. Большинство губернских и многие уездные земельные комитеты Среднего Поволжья, где было сильным влияние меньшевиков и эсеров, безоговорочно поддержали административные мероприятия, направленные на подавление революционного движения.
Некоторые местные комитеты для «успокоения» крестьян шли на ограничения поме- щичьего землевладения . Другие комитеты использовали инструкцию земельным комитетам, утверждённую правительством от 16 июля 1917 года. Её в основном и взяли на вооружение губернские органы власти.
Например, Пензенский губернский земельный комитет принял 27 июля свою инструкцию по упорядочению земельных отношений. Все земли принимались на учет уездными земельными комитетами путем составления описи земель, живого и мёртвого инвентаря совместно с администрацией имений. Хозяйственное распоряжение имением полностью оставалось в руках владельца.
Земли, которые по совместному соглашению уездных продовольственных земельных комитетов владелец не мог обработать, передавались уездным земельным комитетам для ведения на них общественного хозяйства или для распределения в аренду крестьянам. При определении количества земли, передаваемой в аренду, уездный земельный комитет должен был учитывать возможность крестьянского двора обработать получаемую землю. Арендная плата определялась по добровольному соглашению арендаторов с владельцами.
Все хуторские, отрубные, крестьянские купчие и арендуемые земли оставались полностью в распоряжении их владельцев. Инструкция предупреждала, что «никакие самовольные захваты каких-либо угодий… не допускаются». Такое упорядочение земельных отношений вполне устраивало хуторян и просто хозяйственных крестьян.
Вместе с тем нормализация обстановки в деревне, которая, как воздух, нужна была стране, продолжающей находиться в состоянии войны, совершенно не устраивала большевиков и контролируемые ими Советы.
Здесь хотелось бы привести полную картину противодействия так называемых «революционных сил» нормальному решению земельных вопросов и проблем в деревне. Противодействие проявлялось в различных формах: от принятия резолюций до прямого сопротивления администрации. В конце июля контролируемый большевиками исполком Казанского Совета крестьянских депутатов в отношении на имя прокурора окружного суда писал о том, что он выполнял и будет выполнять неписаные законы революционного народа и в случаях, когда представители прокурорского надзора привлекают отдельных лиц от волостей и уездов за проведение этого неписаного закона в жизнь [52].
Показательно в этом отношении решение схода крестьян Обдинской волости Казанской губернии. Обсудив 13 августа выдвинутое властями против членов волостного комитета обвинение в подстрекательстве к захвату помещичьих земель, сход, возглавляемый левым эсером, постановил: « Так, как земля состоит засеянной почти всей волостью, то ввиду этого мы все, волостью, если найдет начальство незаконным, пусть привлекают всю волость » [22, с. 180—181].
В Ядринском уезде Казанской губернии Елашевское сельское общество самовольно вырубило лес общества крестьян Устья. В Свияжском уезде Ивановской волости у хуторянина Разматуллина захватили землю по распоряжению волостного земельного комитета, имели намерение отнять мельницу. Также массовые незаконные действия имели место в Лаишевском, Чистопольском, Мама-дышском, Чебоксарском уездах. В Чебоксарском и Спасском уездах, наоборот, было заметно успокоение ввиду устранения от активной деятельности и передачи судебной власти главнейших агитаторов большевистского направления [22, с. 163].
В Симбирской губернии имение графини Толстой Карсунского уезда разгромлено крестьянами соседних сёл: отобрана паровая земля и 1000 десятин лугов, разграблены хутора, 1 сожгли, снята лесная стража и часть служащих, произведена беспорядочная вырубка леса, взято из амбаров 8600 пудов зерна.
Местные власти, в большинстве своем возглавляемые большевиками и левыми эсерами, несмотря на предписание канцелярии Комитета Министерства земледелия по зем-леустройным делам, содействия в предотвращении беззакония не оказали. Вследствие расхищения запасов корма конный завод и скотоводство погибли [53].
Крестьяне продолжали руководствоваться постановлениями земельных комитетов о немедленной передаче земли помещиков и хуторян и игнорировали июльские циркуляры министров Церетели и Пешехонова. Не было спокойствия и в некоторых уездах Саратовской губернии, где в земельных комитетах правили большевики. По распоряжению волостного комитета в имении Гагариных были удалены служащие, захвачены и поделены крестьянами сенокосы и инвентарь [54].
Давыдовский волостной земельный комитет передал большую часть земли Пановского монастыря крестьянам деревни Плещеевка [55, с. 154]. Камешкирский комитет отобрал у землевладелицы Мотавиловой яровые и паровые земли, запретил ей продавать постройки, скот и дрова. По заявлению помещицы, комитет не признавал распоряжение Временного правительства и руководствовался лишь постановлениями Крестьянского съезда [55, с. 217].
Отвергали циркуляры правительства и отдельные земельные комитеты Самарской губернии. Законом они для себя продолжали считать решение II губернского съезда крестьян и проводили их в жизнь. 30 июля районное совещание представителей Чистовско-го, Зубовского, Шламского и Липовского волостных комитетов Самарского уезда постановило: «...исходя из решений II губернского крестьянского съезда предложить всем гражданам этих волостей все земли (государственные, церковные, монастырские, частновладельческие, надельные, отрубные) разделить между собой уравнительно по числу мужских и женских душ» [56].
После совещания волостные комитеты выносили аналогичные обязательные постановления [57, л. 367]. Сельские сходы, в свою очередь, принимали приговоры о переделе земли. Так, жители села Кротовка, основываясь на постановлении районного совещания комитетов, решили «все земли разделить уравнительно на наличные мужские и женские души всех возрастов» [57, л. 197].
Губернские комиссары понимали, что самоуправство местных органов власти ведёт к беспорядкам и хаосу. Так, в середине августа губернский комиссар Казанской губернии уведомлял губернский земельный комитет, что право выработки инструкций по земельному вопросу губернскому земельному комитету не предоставлено ни по закону Временного правительства, ни по циркулярным распоряжениям Министерства земледелия, и таковое право может принадлежать лишь главному земельному комитету, так как урегулирование отношений в области столь сложного вопроса, как земельный, может быть произведено лишь центральным управлением во избежание различного разрешения в стране вопроса о земельных отношениях. Этим же предписанием губернский комиссар требовал приостановить действия инструкций земельного комитета и представить таковую на рассмотрение в главный земельный комитет [57, л. 366].
К концу августа — началу сентября обстановка в деревне всё более накалялась. В. И . Ленин, характеризуя этот период, отмечал: «.. .Неправда, если газеты кричат, будто в России царит беспорядок! Неправда, что в деревне господствует больше порядка, чем прежде, потому что решение производится по большинству; насилия над помещиками почти не было; случаи несправедливости и насилия над помещиками совершенно единичны; они ничтожны и на всю Россию не превышают числа случаев насилия, которые бывали и раньше » [58].
Эти слова, по крайней мере, недостоверны. Здесь хотелось бы привести отрывок из газеты «Биржевой курьер» о крестьянском движении в Казанской губернии. Автор статьи отмечает, что при чтении письма (письмо помещика Чистопольского уезда), полного рассказов о бесчинствах и насилии над землевладельцами со стороны разнузданной черни, из глубины души вырываются проклятия по адресу тех фальсифицированных «печальников о благе народном», которые в качестве немецких наёмников разворотили наше тёмное крестьянство, чтобы создать лишнее оружие для экономического и политического развала России.
« ...Жизнь Казанских частных владельцев решительно во всех уездах стала невыносимой... Каждую минуту они считают себя обречёнными на поругание, разграбление и даже на смерть. Мужику стало недостаточно расхитить чужое достояние, которое идёт в его руки без малейшего сопротивления со стороны владельцев. Нет, ему нужно, чтобы от веками созданного достояния помещика не осталось камня на камне, и чтобы эти руины были обагрены кровью.
До такой степени разыгрались кровожадные инстинкты у казанских крестьян, что они избивали даже тех помещиков, с которыми несчётные годы жили в добром соседстве, имели в их экономиях хорошие заработки и получали от них помощь в случае таких крестьянских бедствий, как пожары и неурожаи.
Во всей губернии идёт настоящая пугачёвщина. Хлебными посевами распорядились крестьяне как полноправные хозяева и весь сбор зерна дочиста свезли в свои закрома. Масса усадеб превращена в пепел, а сами землевладельцы со всех сторон губернии съехались в Казань, так как в деревне не находят защиты от насилия черни. Последней, в целях умиротворения, пишут только многоглагольные "обращения" и "воззвания"» [44, с. 176].
Подробное изложение статьи из газеты приведено для того, чтобы показать результаты большевистской агитации, местных земельных комитетов, которые они возглавляли. Именно в результате их «работы» в массах помещичьи имения или разграблены, или опустели, а между тем очень многие из них являлись образцовыми хозяйствами, которые давали стране многие миллионы тонн зерна и разных сельскохозяйственных продуктов. Теперь помещичьи поля в массе представляли собой пустыню, и это обстоятельство служило зловещим признаком, что в целом хлеборобный край Среднего Поволжья стремительно приближается к экономическому краху.
В конце августа Временное правительство, чтобы остановить хоть как-то кризис с продовольствием, вводит хлебную монополию. В постановлении правительства о передаче хлеба в распоряжение государства говорилось, что главными причинами расстройства хлебной торговли было сокрытие запасов, непорядки на железной дороге. Правительство стыдливо умалчивало, пытаясь найти какой-либо возможный компромисс с руководителями большевиков (как оказалось, совершенно напрасно), о главной причине беспорядков в российских деревнях — подрывной, антигосударственной деятельности большевиков и их агентов на местах.
В связи с беспорядками в деревне скрывать запасы начали торговцы. Хлеб был скуплен до войны по дешёвым ценам, которые резко пошли в гору. Когда цены идут в гору — торговец придерживает товар, авось ещё подорожает. Поэтому правительство закрыло вольную продажу, продавать можно было только государству.
Всякий владелец хлеба обязан по первому требованию местных продовольственных органов объявить:
-
1. Количество и местонахождение его запасов.
-
2. Число лиц, которые кормятся за счет его хозяйства.
-
3. Количество зерна и десятин посева.
В случае скрытия — отчуждение по половинной цене [59].
Правительство попыталось решить эти проблемы экономическими методами, высокими закупочными ценами заинтересовать крестьян. Постановлением Временного правительства от 27 августа 1917 года цены на зерновые были повышены на 100 %, но сдача шла очень плохо [60, л. 11—11 об.].
Ощутимых результатов хлебная монополия не дала. 13 сентября губернский комиссар Симбирской губернии направил телеграмму в Министерство внутренних дел, в которой говорилось об острой нужде в городах и районах губернии в продовольствии (не удаётся сделать запасы более чем на 2—3 дня), приходится опасаться голодных эксцессов [60, л. 13].
В эти тяжелые для государства дни, когда стране угрожал голод, большевики не прекращали свою агитационную деятельность по разделу частнособственнической земли. Им интересы Российского государства были чужды, им нужны были «великие потрясения», на которые с готовностью пойдёт обозлённое голодом население сёл и деревень. Именно обозлённый голодом народ и должен был стать союзником большевизма при захвате им политической власти в стране.
С этой целью в более широких размерах, чем летом, продолжался «черный передел» земель в Самарском, Николаевском, Ставропольском, Новоузенском уездах Самарской губернии. Как и летом, его возглавляли большевики. Под воздействием их разрушительной пропаганды всё больше местных волостных и уездных Советов переходили под контроль большевиков. Крестьяне, как это ни прискорбно, всё больше и больше считали их главными радетелями своих интересов. Как сообщала 5 сентября газета «Народное слово», волостные земельные комитеты Николаевского уезда постановили все земли уезда считать общим земельным фондом и распределить их между крестьянами.
Рязановский земельный комитет Ставропольского уезда передал крестьянам земли графа Орлова–Давыдова и бывшие удельные участки [60, л. 42]. Новомайнский земельный комитет в сентябре принял решение о равномерном разделе всех частновладельческих и общинных земель под посев 1918 года [61, л. 220].
Революционные формы борьбы (захват имений, пахотных земель и лугов, инвентаря, аресты и удаления помещиков) в сентябре— октябре составляли 60,8 % против 55,4 % в июле—августе. Кроме того, осенью 1917 года развёртывается движение за передачу крестьянам частновладельческих и казённых лесов, что по своей сущности однозначно было земельным захватом.
Вместе с тем в деятельности земельных комитетов, как и в крестьянском движении в целом, пройденным этапом стали такие формы наступления на частных владельцев, как ликвидация аренды, лишение землевладельцев рабочей силы, прекращение работ в имении и т. д.
Наиболее трезвую позицию по текущему моменту занимали левые эсеры, хотя и в их действиях наблюдались противоречия, в основном под давлением большевиков. 8 сентября 1917 года общее собрание социалистов-революционеров Николаевского уезда Самарской губернии приняло постановление, которое обязывало каждого члена организации приложить все силы в борьбе за передачу земли крестьянам. Согласно этой резолюции, фракция эсеров Николаевского уезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в начале октября проголосовала за предложение большевиков и максималистов о конфискации частновладельческих земель насильственным путём.
Однако через полтора месяца, 19 октября, фракция социалистов-революционеров потребовала пересмотра резолюции о конфискации частновладельческих земель, а затем добилась её отмены. За это решение проголосовали 11 депутатов-эсеров, против — 9 большевиков и 1 максималист. Как мы видим, по земельному вопросу произошло размежевание между эсерами и большевиками. Эсеры осенью перед Октябрьским переворотом стремились остановить негативные процессы в деревне и вакханалию разгрома и земельного передела. Захватам земель большое противодействие оказывали эсеры в Бузулуке. В Бугульме эсеровский гарнизонный комитет высказался против всяких самовольных захватов частновладельческих земель крестьянами до созыва Учредительного собрания.
Неоднозначную позицию в аграрном вопросе заняли в августе—сентябре 1917 года лидеры Симбирской организации эсеров. В начале августа 1917 года председатель Симбирского губернского земельного комитета эсер К. Воробьёв писал в своей брошюре: «... Та волнующая несправедливость, которая наблюдается в настоящее время, не должна быть терпима ни одного дня больше. Нельзя обрекать одну часть населения на полуголодное существование, а другой предоставлять возможность накоплять в своих руках земельные излишки и эксплуатировать нужду крестьянской бедноты. Этому должен быть положен конец коренным разрешением аграрного вопроса » .
И в то же время Симбирская газета «Земля и воля», орган губернского комитета партии социалистов-революционеров, убеждала крестьян прекратить захваты частновладельческих земель и возложить все свои надежды на Учредительное собрание. Такая противоречивая позиция, которой придерживались эсеры Среднего Поволжья, только возбуждала бедноту деревни и толкала её на выступления против помещиков. Большевики умело воспользовались разобщённостью своих политических конкурентов — эсеров и усилили свою подрывную работу в массах.
Неоднозначность и противоречия в действиях эсеров, других партий, местных органов власти — безусловно, огромная «заслуга»
политики Временного правительства по вопросу земельной политики, которая практически неизбежно должна была вызвать крестьянские восстания.
В очередной раз воспользовавшись нерешительностью правительства, большевики снова и снова поднимали крестьян на противоправные действия. Резко увеличилось число погромов дворянских имений, кровопролитные схватки между крестьянами и кулаками стали обычным явлением.
Крестьяне потеряли веру не только в центральную власть, но и в местные органы власти. Левый эсер В. Алгасов, объехав в сентябре 1917 года губернии Среднего Поволжья, пришел к выводу, что: «...Львовские телеграммы, Пешехоновские распоряжения, инструкции Чернова вселяют в крестьянство недоверие и, больше того, озлобление». К концу сентября во многих районах России началась уже настоящая крестьянская война. Лидер эсеров Виктор Чернов в статье «Единственный выход» признавал: « ...Дождались того, что предрекали все, соприкасавшиеся с деревней и понимавшие её. Дождались начала крупных классовых аграрных волнений... ». Он предлагал «сделать из земельных комитетов прочные авторитетные органы государственной власти на местах, способные своевременными мерами — когда нужно, властными и решительными — предотвратить вспышки насилия».
Но время было уже потеряно. Большевики своими обещаниями «сладкой жизни» уже завоевали основную массу несознательных крестьян. Низовым комитетам лидеры губернских организаций рекомендовали убеждать крестьян в том, что в земельном вопросе надо «ждать терпеливо решения Учредительного собрания».
Губернские и уездные комиссары уже не находили других методов борьбы с погромами, как применение силы, что приводило к ещё более сильному озлоблению масс, и большевики получали новые козыри для достижения своих целей. Так, комиссар Сызранского уезда Симбирской губернии Цинговатов во второй половине сентября ходатайствовал перед начальником гарнизона о выделении полуэскадрона драгунов для подавления крестьянского движения.
В начале октября 1917 года комиссар На-ровчатского уезда Пензенской губернии телеграфировал Ф. Ф. Федоровичу, занимающему пост губернского комиссара: «...Необходимо срочно прислать сильную кавалерийскую часть, непременно дисциплинированную. Рубку лесов, разграбление имений имевшимися силами прекратить невозможно...». Ф. Ф. Федорович лично руководил организацией подавления крестьянских восстаний. Он метался по губернии с драгунами, тщетно пытаясь усмирить с помощью оружия восставших крестьян. 25 октября 1917 года уездный комиссар Ин-сарского уезда сообщал Ф. Ф. Федоровичу, что «...уезд охватила широкая волна погромного движения, драгуны бессильны бороться с движением».
Крестьянство Среднего Поволжья, возглавляемое большевиками, а в некоторых случаях просто преступниками, развернуло массовый погром помещичьих имений. Если в сентябре 1917 года в Пензенской губернии было 80 крестьянских выступлений, то в октябре — 184. В Симбирской губернии только против кулаков крестьяне поднимались в апреле—мае 34 раза, в июне — 122, а в октябре — 267. Разгром сельского хозяйства был полный. Деревня дошла до последней, конечной точки хаоса и анархии. Народ во всём винил не большевиков, которые были главными виновниками сложившегося положения, а местные и центральные власти, назревал «великий и ужасный деревенский бунт» [88].
Победа большевиков была полная. Они добились всего, чего хотели: хаоса в сельском хозяйстве, симпатий со стороны крестьян, полной дискредитации аграрной политики Временного правительства и поддерживающих его партий — своих политических соперников — меньшевиков и эсеров.
В числе негативных итогов в стране и регионе был почти полный подрыв аграрного сектора экономики, общее снижение уровня сельскохозяйственного производства до рекордно низкого уровня за последние 25 лет.
После победы Февральской революции в стране, как известно, наибольшим влиянием среди крестьян пользовались эсеры. Влияние большевиков в деревне было незначительным. Для того чтобы срочно, безотлагательно утвердить своё влияние в деревне, большевикам необходимо было выдвинуть такую политическую аграрную программу, которая заинтересовала бы крестьян. Выбор у них был невелик: эта программа должна была соединить в себе вековые чаяния крестьян с поли- тическими амбициями большевиков, которые, опираясь на привлечённых на свою сторону крестьян, стремились к власти.
Другой немаловажной задачей, решаемой большевиками в годы Февральской революции, была дискредитация Временного правительства и поддерживающих его партий меньшевиков и эсеров. Обе задачи большевикам, как видно из вышеизложенного материала, удалось выполнить с блеском. Спекулируя на вековых чаяниях российского крестьянства, его стремлении к свободе и воле, желании получить землю, большевикам удалось натравить одну часть земледельцев, которую представляли наиболее бедные и обездоленные крестьяне и батраки, на другую, в числе которых были частные землевладельцы, помещики и богатые крестьяне.
Спровоцированная большевиками кампания по беспредельному, разрушительному переделу земли, которой подверглась российская деревня в рассматриваемый период, увенчалась полным успехом. Большевикам удалось не только дискредитировать Временное правительство и поддерживающие его политические партии эсеров и меньшевиков, но и выставить себя в глазах крестьянства главными защитниками всех «угнетённых» и «обездоленных».
Всё это облегчило им насильственный захват власти в стране. Также следствиями проводимой большевиками политики в деревне были полный подрыв рыночных основ аграрной экономики, разрушение наиболее производительного аграрного сектора в экономике, создание обстановки хаоса и нестабильности, нарушение снабжения продовольствием населения сёл и городов и угроза приближающегося голода.
Это и был тот самый фон, на котором большевикам удалось совершить антидемократический Октябрьский переворот.
-
1. Вестник Временного правительства. 1917.
-
2. Государственный архив Ульяновской области (далее — ГАУО). Ф. 2132. Оп. 2. Д. 27. Л. 1—6.
-
3. Пролетарий. 1917. 24 марта.
-
4. ГАУО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 14. Л. 69.
-
5. Герасименко, Г. А. Советы Поволжья в 1917 году / Г. А. Герасименко, Д. С. Точеный. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1977.
-
6. Государственный архив Пензенской области. Ф. 11. Оп. 1. Д. 587. Л. 1—4.
-
7. Революционное движение в России после свержения самодержавия : Док. и материалы. М., 1957.
-
8. Андреев, А. М. Местные Советы и органы буржуазной власти 1917 года / А. М. Андреев. М., 1983. С. 310.
-
9. Великая Октябрьская социалистическая революция: Хроника событий : в 4 т. Т. 1. М., 1957. С. 197, 234, 339.
-
10. Игрицкий, И. В. Аграрный вопрос и крестьянское движение в России в 1917 году / И. В. Иг-рицкий. М., 1962. С. 10.
-
11. Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 6. Оп. 1. Д. 2. Л. 40.
-
12. ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 12. Л. 2.
-
13. Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пензенской губернии : Сб. док. и материалов. Пенза, 1957. С. 52—61.
-
14. Ленин, В. И. Полн. собр. соч. / В. И . Ленин. Т. 31 С. 420.
-
15. ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 54. Л. 26.
-
16. Национальный архив Республики Татарстан (далее — НАРТ). Ф. 1246. Оп. 69. Л. 344—345.
-
17. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Л., 1967. Ч. 3. Док. 118. С. 212.
-
18. ГАРФ. Ф. 934. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
-
19. Пролетарий. 1917. 24 апр.
-
20. Медведев, В. К. Саратовский Совет от Февраля к Октябрю / В. К. Медведев. Саратов, 1948. С. 200.
-
21. Захаров, Ф. Ф. Самарские большевики в Октябрьской революции / Ф. Ф. Захаров. Куйбышев, 1957. С. 44.
-
22. Ионенко, И. М. Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября / И. М. Ионен-ко. Казань, 1957.
-
23. Краеведческие записки : Док. и материалы. Куйбышев, 1963. С. 10.
-
24. Волжский день. Самара, 1917. 3 июня.
-
25. Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. Т. 1. С. 21.
-
26. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии. Куйбышев, 1957. С. 60.
-
27. ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 52. Л. 164.
-
28. НАРТ. Ф. 98. Оп. 4. Л. 20 а.
-
29. ГАРФ. Ф. 406. Оп. 2. Л. 87—91.
-
30. Товарищ. Сызрань, 1917. № 44. 25 мая.
-
31. The Bolscevik Revolution 1917—1923 / Ed. H. Garr. Vol. 1—3. L., 1950—1953. Р. 24—27.
-
32. Церетели, И. Г. Воспоминания о Февральской революции / И. Г. Церетели. Кн. 1. Париж, 1963. С. 446.
-
33. Отчёт о работе IV съезда Партии социалистов-революционеров. Пг., 1917. С. 137.
-
34. Самарские ведомости. 1917. 28 июля.
-
35. ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 57.
-
36. ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 234. Л. 37.
-
37. ГАРФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 138. Л. 125; Д. 68. Л. 22.
-
38. ГАРФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1381. Л. 205.
-
39. ГАСО. Ф. 645. Д. 1 а. Л. 1, 3.
-
40. ГАРФ. Ф. 398. Оп. 2. Д. 139. Л. 124.
-
41. ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Л. 119, 120, 702.
-
42. ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Л. 423, 562.
-
43. ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Л. 402, 458, 514, 579.
-
44. Ленин, В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. Т. 32.
-
45. ГАРФ. Ф. 408. Оп. 1. Д. 295. Л. 71.
-
46. Блюменталь, И. И. Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии: Хроника событий / И. И. Блюменталь. Самара, 1927.
-
47. Революционная борьба крестьянства Казанской губернии накануне Октября : Сб. док. и материалов. Казань : Татарское кн. изд-во, 1958. С. 471—473.
-
48. Борьба. 1917. 22 июля.
-
49. Андреев, А. М. Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии / А. М. Андреев. Чебоксары, 1957. С. 99.
-
50. Андреев, А. М. Большевистские организации и Советы после прекращения двоевластия (июль 1917 года) / А. М. Андреев // Вопр. истории КПСС. 1966. № 11. С. 42.
-
51. Ленин, В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. Т. 34.
-
52. Минц, И. И. История Великого Октября / И. И. Минц. Т. 1. М., 1967. С. 663.
-
53. ГАРФ. Ф. 406. Оп. 2. Д. 57. Л. 182—185.
-
54. ГАРФ. Ф. 1405. Оп. 183. Д. 6 а. Л. 49.
-
55. Крестьянское движение в 1917 году : Сб. док. М., 1927.
-
56. ГАРФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 11. Л. 107.
-
57. ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Д. 8.
-
58. НАРТ. Ф. 1246. Оп. 121. Л. 15.
-
59. ГАРФ. Ф. 406. Д. 96. Л. 74.
-
60. ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1.
-
61. ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Д. 10.
21 марта.
Список литературы Особенности Февральской революции в средневолжской деревне (март-октябрь 1917 года)
- Вестник Временного правительства. 1917. 21 марта.
- Государственный архив Ульяновской области (далее -ГАУО). Ф. 2132. Оп. 2. Д. 27. Л. 1-6.
- Пролетарий. 1917. 24 марта.
- ГАУО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 14. Л. 69.
- Герасименко Г. А. Советы Поволжья в 1917 году/Г. А. Герасименко, Д. С. Точеный. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1977.
- Государственный архив Пензенской области. Ф. 11. Оп. 1. Д. 587. Л. 1-4.
- Революционное движение в России после свержения самодержавия: Док. и материалы. М., 1957.
- Андреев А. М. Местные Советы и органы буржуазной власти 1917 года/А. М. Андреев. М., 1983. С. 310.
- Великая Октябрьская социалистическая революция: Хроника событий: в 4 т. Т. 1. М., 1957. С. 197, 234, 339.
- Игрицкий И. В. Аграрный вопрос и крестьянское движение в России в 1917 году/И. В. Игрицкий. М., 1962. С. 10.
- Государственный архив Российской Федерации (далее -ГАРф). Ф. 6. Оп. 1. Д. 2. Л. 40.
- ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 12. Л. 2.
- Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пензенской губернии: Сб. док. и материалов. Пенза, 1957. С. 52-61.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. Т. 31. С. 420.
- ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 54. Л. 26.
- Национальный архив Республики Татарстан (далее -НАРТ). Ф. 1246. Оп. 69. Л. 344-345.
- Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Л., 1967. Ч. 3. Док. 118. С. 212.
- ГАРФ. Ф. 934. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
- Пролетарий. 1917. 24 апр.
- Медведев В. К. Саратовский Совет от Февраля к Октябрю/В. К. Медведев. Саратов, 1948. С. 200.
- Захаров Ф. Ф. Самарские большевики в Октябрьской революции/Ф. Ф. Захаров. Куйбышев, 1957. С. 44.
- Ионенко И. М. Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября/И. М. Ионенко. Казань, 1957.
- Краеведческие записки: Док. и материалы. Куйбышев, 1963. С. 10.
- Волжский день. Самара, 1917. 3 июня.
- Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии. Т. 1. С. 21.
- Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии. Куйбышев, 1957. С. 60.
- ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 52. Л. 164.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 4. Л. 20 а.
- ГАРФ. Ф. 406. Оп. 2. Л. 87-91.
- Товарищ. Сызрань, 1917. № 44. 25 мая.
- The Bolscevik Revolution 1917-1923/Ed. H. Garr. Vol. 1-3. L., 1950-1953. Р. 24-27.
- Церетели И. Г. Воспоминания о Февральской революции/И. Г. Церетели. Кн. 1. Париж, 1963. С. 446.
- Отчёт о работе IV съезда Партии социалистов-революционеров. Пг., 1917. С. 137.
- Самарские ведомости. 1917. 28 июля.
- ГАУО. Ф. 2132. Оп. 2. Д. 57.
- ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 234. Л. 37.
- ГАРФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 138. Л. 125; Д. 68. Л. 22.
- ГАРФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1381. Л. 205.
- ГАСО. Ф. 645. Д. 1 а. Л. 1, 3.
- ГАРФ. Ф. 398. Оп. 2. Д. 139. Л. 124.
- ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Л. 119, 120, 702.
- ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Л. 423, 562.
- ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Л. 402, 458, 514, 579.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. Т. 32.
- ГАРФ. Ф. 408. Оп. 1. Д. 295. Л. 71.
- Блюменталь И. И. Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии: Хроника событий/И. И. Блюменталь. Самара, 1927.
- Революционная борьба крестьянства Казанской губернии накануне Октября: Сб. док. и материалов. Казань: Татарское кн. изд-во, 1958. С. 471-473.
- Борьба. 1917. 22 июля.
- Андреев А. М. Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии/А. М. Андреев. Чебоксары, 1957. С. 99.
- Андреев А. М. Большевистские организации и Советы после прекращения двоевластия (июль 1917 года)/А. М. Андреев//Вопр. истории КПСС. 1966. № 11. С. 42.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. Т. 34.
- Минц И. И. История Великого Октября/И. И. Минц. Т. 1. М., 1967. С. 663.
- ГАРФ. Ф. 406. Оп. 2. Д. 57. Л. 182-185.
- ГАРФ. Ф. 1405. Оп. 183. Д. 6 а. Л. 49.
- Крестьянское движение в 1917 году: Сб. док. М., 1927.
- ГАРФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 11. Л. 107.
- ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Д. 8.
- НАРТ. Ф. 1246. Оп. 121. Л. 15.
- ГАРФ. Ф. 406. Д. 96. Л. 74.
- ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1.
- ГАСО. Ф. 645. Оп. 2. Д. 10.