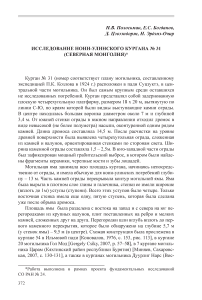Исследование Ноин-Улинского кургана № 31 (Северная Монголия)
Автор: Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-очир Н.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521551
IDR: 14521551
Текст статьи Исследование Ноин-Улинского кургана № 31 (Северная Монголия)
Курган № 31 (номер соответствует плану могильника, составленному экспедицией П.К. Козлова в 1924 г.) расположен в пади Суцзуктэ, в центральной части могильника. Он был самым крупным среди оставшихся не исследованных погребений. Курган представлял собой задернованную плоскую четырехугольную платформу, размером 18 х 20 м, вытянутую по линии С-Ю, по краям которой были видны выступающие камни ограды. В центре находилась большая воронка диаметром около 7 м и глубиной 3,4 м. От южной стенки ограды в южном направлении отходил дромос в виде невысокой (не более полуметра) насыпи, оконтуренной одним рядом камней. Длина дромоса составляла 14,5 м. После расчистки на уровне древней поверхности была выявлена четырехугольная ограда, сложенная из камней и валунов, ориентированная стенками по сторонам света. Ширина каменной ограды составляла 1,5 – 2,5м. В юго-западной части ограды был зафиксирован мощный грабительский выброс, в котором были найдены фрагменты керамики, черепные кости и зубы лошадей.
Могильная яма занимала всю площадь кургана, начинаясь непосредственно от ограды, и имела обычную для ноин-улинских погребений глубину – 13 м. Часть камней ограды перекрывала контур могильной ямы. Яма была вырыта в плотном слое глины и галечника, стенки ее имели широкие (вплоть до 1м) уступы (ступени). Всего этих уступов было четыре. Только восточная стенка имела еще одну, пятую ступень, которая была сделана уже после обрыва дромоса.
Площадь ямы была разделена с востока на запад и с севера на юг перегородками из крупных валунов, плит поставленных на ребро и мелких камней, сложенных друг на друга. Перегородки шли вглубь вплоть до первого каменного перекрытия, которое было обнаружено на глубине 5,7 м (у стенок ямы) – 9,5 м (в центре). Схожая конструкция была прослежена в кургане 54 в Ильмовой пади [Коновалов, 1976, с. 153, рис. 113], в кургане 20 могильника Гол Мод [Gergely C^^iky, 2007, р. 57–58], в 7 кургане могильника Царам (Кяхтинский район республики Бурятия) [Миняев, Сахаровская, 2007, с. 130-131], а также в курганах могильника Дуурлиг Нарс (Вос- точная Монголия), исследуемого экспедицией Корейского Национального музея [Chang, Ywangbo, Yoon, 2007]. По характеру укладки камней в перемычки можно полагать, что они были возведены одновременно с засыпкой ямы и делили, таким образом, котлован на отсеки. Об этом строительном приеме обустройства ноин-улинских курганов мы уже писали [Полосьмак и др., 2008, с. 85]. Подобной перемычкой из камней и валунов был перекрыт по всей глубине «вход» в курган со стороны дромоса. Дромос на всю глубину был разделен по центру перемычкой из плит и мелких камней в направлении С-Ю. Обрыв дромоса зафиксирован на глубине 8,8 м, когда глинисто-каменистые слои сменились песчаным. Дальше стенки могилы были отвесные. Пространство вдоль стен ямы было засыпано песком, центральная часть – камнем, щебнем, мелким галечником и материковой глиной
Все внутримогильные конструкции по центру были нарушены грабительской ямой. Она была заполнена крупными камнями, глиной и углистыми прослойками. В грабительской шахте были обнаружены 16 различных изделий из нефрита (рис. 1), а также многочисленные фрагменты шелковой ткани.
Перекрытие могильной ямы кургана № 31 состояло из камней голубого цвета, плотно уложенных в один слой по всей площади, вплоть до «входа» в дромос. Из-за грабежа каменное перекрытие сильно провалилось по центру. Следом за ним, на глубине 10,5 была зафиксирована выкладка из крупных камней, уложенных в центральной части могильной ямы. Через 0,5 м после этой выкладки появилась еще одна, которая состояла из крупных камней в центральной части и мелкого галечника
по контуру (от 0,5 до 1 м шириной) могильной ямы. Интересной конструктивной деталью 31-го кургана являются две небольшие полукруглые выемки в южной стене на уровне обрыва дромоса, расположенные на расстоянии около 1,5 м друг от друга. Характер этих отверстий позволяет предположить их строительное назначение. Вероятно, эти выемки образовались от двух бревен, являющихся основой лестницы, по которой опускались в 4-метровую шахту с отвесными стенами строители погребального сооружения.
Деревянные конструкции погребальной камеры показались на глубине 12 м. На дне могильной ямы было обнаружено два сруба - внутренний и внешний, собранные из соснового бруса. Пространство между стенками ямы и внешним срубом было заполнено мелким камнем и углем. Стенки срубов, а так же внутренние подпорки – колонны были в верхней части разрушены. Однако достаточно хорошая сохранность дерева позволяет реконструировать все особенности погребального сооружения, которое мало чем отличается от других ноин-улинских курганов, исследованных ранее [Руденко, 1962, с. 5–22; Полосьмак и др., 2008]. Единственное отличие 31-го кургана, это то, что в нем отсутствовало деревянное перекрытие внешнего сруба. Грабители проникли в северный коридор, разрушили всю северную часть внутреннего сруба – стенку и перекрытие. In ^^itu сох р ани лась только южная часть внутреннего сруба. Внешний сруб был четырех-венцовым (размеры 5,5 × 3,5 м), внутренний – трехвенцовый (размеры: 3,5 × 2,1 м). Ширина бруса была около 25 см, высота – 30 см. Реконструируемая высота внешнего сруба была не более 1,4 м, внутреннего – не более метра. Западный, восточный и южный коридоры, образованные стенками внутреннего и внешнего срубов, были заполнены синей глиной. В северном отсеке были обнаружены остатки от двух разбитых глиняных сосудов, три лаковых чашки, на одной из которых сохранилась надпись иероглифами, и фрагменты тканей. В восточном – маленькие железные удила с псалиями, остатки грубой ткани, зерно. Срубы были установлены на пол, состоящий из 19 сосновых плах (лежащих по линии З–В), стесанных с четырех сторон и неплотно подогнанных друг к другу. Ширина плах составляла 20–30 см, толщина около 15 см. Пол погребальной камеры был уложен на два четырехугольных бруса, лежавших по линии С–Ю.
Сосновый гроб был сильно разбит грабителями. Сохранились не поврежденными дно и западная стенка гроба. Судя по этим фрагментам, его конструкция была аналогична другим гробам, найденным в ноин-улинс-ких курганах: гроб был собран из тщательно отесанных толстых досок, которые скреплялись с помощью Х-образных шипов-закрепов, врезных отверстий такой же формы и врезных прямоугольных пластин из дерева [см. Руденко, 1962, рис. 7, 8, 17, 19, 20; Мыльников, 2006, с. 441–444]. Рядом с обломками гроба были обнаружены две металлических ручки саркофага и многочисленные украшения гроба из золотой фольги в виде четырехлепестковых розеток (рис. 2), здесь же найдено золотое изображение 374
полумесяца. Внутри гроба, на войлочной подстилке вместе с зернами и фрагментами одежды обнаружены останки человека: ребра, отдельные кости ног и рук, а также несколько зубов.
Погребальный обряд 31-го ноин-улинского кургана в основных деталях повторяет погребальные сооружения элитных хуннских могильников. Как и в каждом погребальном комплексе такого ранга, в нем есть свои особенности. Особенностью 31-го кургана является использование коридоров между внешней и внутренней погребальными камерами не для укладывания сопровождающих погребенного вещей, а для заполнения голубой озерной глиной. (Сохранился плотный слой глины более 30 см толщиной по всей площади коридоров. Похожая ситуация наблюдалась и в 20-м ноин-улинском кургане). В этом погребальном сооружение особенно четко проявилось, уже отмеченное нами ранее [см. Полосьмак и др., 2008, с. 86–87], стремление воспроизвести ханьскую погребальную обрядность с их культом сохранения тела, и предпринять те же шаги, которые делались для этого в ханьских погребениях на территории Китая: окружить погребальную камеру слоем угля, а затем оболочкой из глины. Наряду с китайскими вещами, присутствующими в кургане, эта укоренившаяся традиция еще раз подтверждает влияние ханьской культуры на кочевую элиту.

Рис. 2. Золотое украшение гроба.