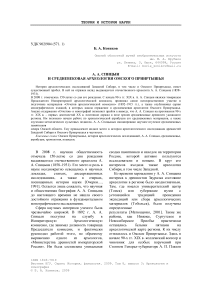А. А. Спицын и средневековая археология Омского Прииртышья
Автор: Коников Борис Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки
Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
История археологических исследований Западной Сибири, в том числе и Омского Прииртышья, имеет существенный пробел. В ней не отражен вклад выдающегося отечественного археолога А. А. Спицына (1858-1931). В 2008 г. отмечалось 150-летие со дня его рождения. С начала 90-х гг. ХIХ в. А. А. Спицын являлся товарищем Председателя Императорской археологической комиссии, принимал самое непосредственное участие в подготовке материалов «Отчетов археологической комиссии» (1892-1915 гг.), а также опубликовал серию монографических изданий, в которых нашла отражение и средневековая археология Омского Прииртышья. Анализ содержания «Отчетов» и монографий позволяет прийти к выводу, что А. А. Спицын на протяжении 90-х гг. ХIХ в. - первых десятилетий ХХ в. постоянно держал в поле зрения средневековые древности указанного региона. Им положено начало работе по хронологической атрибуции его средневековых материалов, а также изучению металлических культовых подвесок. А. А. Спицыным инициировано научное изучение средневековых памятников севера Омской области. Ему принадлежит видное место в истории археологического исследования древностей Западной Сибири и Омского Прииртышья в частности.
Омское прииртышье, история археологических исследований, а. а. спицын, средневековье, атрибуция, хронология, подвески
Короткий адрес: https://sciup.org/14737084
IDR: 14737084 | УДК: 902/904
Текст научной статьи А. А. Спицын и средневековая археология Омского Прииртышья
В 2008 г. научная общественность отмечала 150-летие со дня рождения выдающегося отечественного археолога А. А. Спицына (1858–1931). Его место и роль в науке неоднократно освещались в научных докладах, статьях, диссертационных исследованиях, а также в очерках, посвященных истории науки [Очерки…, 1991]. Остается лишь сожалеть, что научная и общественная биография А. А. Спицына до настоящего времени не нашла своего достойного отражения в фундаментальном монографическом исследовании.
Сфера научных интересов ученого была чрезвычайно широкой. В 1892 г. А. А. Спицын поступил на службу в Императорскую Археологическую комиссию, где занимал должность товарища Председателя комиссии, и фактически руководил работой этого, по образному выражению одного из археологов, «Министерства древностей императорской России». Им была составлена уникальная сводка памятников и находок на территории России, которой активно пользуются исследователи и поныне. В круг его интересов входила также археология Сибири, в том числе Западной.
Ко времени зарождения у А. А. Спицына интереса к древностям Зауралья состояние археологии в регионе было неоднозначным. Там, где имелся университетский центр (Томск) или губернские музеи с устоявшейся традицией проведения экспедиций или сбора археологических материалов (Тобольск), были получены определенные результаты [Матющенко, 2001]. Такие же районы, как Нижнее, Сургутское и Новосибирское Приобье практически оставались белыми пятнами на археологической карте региона. К их числу относилось и Омское Прииртышье. Здесь в начале 90-х гг. ХIХ в. коллежский асессор и чиновник для особых поручений при Степном Генерал-губернаторе А. П. Плахов
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 3: Археология и этнография
провел раскопки курганов раннего железного века к северу от Омска, однако публикации материалов работ не последовало. Все остальное в области археологии Прииртышья тех десятилетий сводилось к бессистемному сбору материалов, часть которых эпизодически поступала в центральные и местные научные сообщества и музеи [Жук, 2007. С. 4–19; Коников, 2007. С. 15–17].
По мнению В. И. Матющенко, сибирская археология того времени еще не сумела выработать подлинно научную классификацию и хронологию памятников [Матющенко, 2001. С. 64]. Однако такую работу в отношении и Омского Прииртышья в далекой северной столице уже начал А. А. Спицын. Поэтому цель данной статьи состоит в том, чтобы определить место А. А. Спицына в истории средневековой археологии Омского Прииртышья.
Фактически древности Омского Прииртышья привлекли внимание А. А. Спицына еще в начале 90-х гг. ХIХ в. Причем следует подчеркнуть, что западносибирская археология занимала в его работах более значимое место, чем может показаться на первый взгляд. Это вытекает уже из перечня фундаментальных работ, принадлежащих перу ученого: «Приуральский край» [1893а], «Костеносные городища» [1893б], «Древности бассейнов рек Оки и Камы» [1901], «Древности Камской Чуди по коллекции Теплоуховых» [1902] и «Шаманские изображения» [1906]. В перечисленных работах опубликовано большое количество находок и с территории Западной Сибири, а также дана их хронологическая атрибуция. Более того, А. А. Спицыным сделано немало ценных наблюдений и относительно ряда памятников и находок раннего и развитого средневековья Омского Прииртышья [Коников, 2007. С. 14–16]. Об этом говорит содержание «Отчетов Археологической комиссии» (далее – Отчеты), в которых с начала 90-х гг. ХIХ в. почти ежегодно публиковались находки из Тарского уезда Тобольской губернии (ныне – это большая часть Омской области). К сказанному добавим, что именно А. А. Спицын был инициатором научного изучения севера Омского Прииртышья (см. ниже).
На протяжении двух десятилетий (90-е гг. ХIХ – первое десятилетие ХХ в.) А. А. Спицын держал в поле зрения историю регионов, включая и Омское Прииртышье, где происходило формирование угорского и финно-пермского этносов. В частности, в его работе «Шаманские изображения» воспроизведены находки, опубликованные в книге А. Гейкеля, – бронзовые антропо-зооморфные изображения с памятника эпохи железа вблизи Тобольска (южнотаежное Прииртышье) [Могильников, 1987. С. 183]. В Отчетах Археологической комиссии за 1892–1915 гг. помещены описания и иллюстрации множества вещей из Тарского уезда. Это были разновременные (от неолита до позднего средневековья и начала Нового времени) наборы предметов. Причем значительная их часть относилась к раннему и развитому средневековью. Все находки поступали в Императорскую археологическую комиссию или Государственный исторический музей (Москва) от крестьянина д. Серебрянка Тарского уезда (ныне деревня находится на границе Тюменской и Омской областей) С. С. Усова. О жизни этого человека известно мало. Однако обращает на себя внимание тот факт, что, будучи крестьянином, он имел возможность бывать в разных районах Тарского уезда, т. е. в южно-таежном и в лесостепном Прииртышье. Необходимо отметить его оперативную осведомленность о добываемых при земляных работах на территории уезда археологических находках. Складывается впечатление, что С. С. Усов располагал большой сетью информаторов. Так, в Отчете за 1897 г. издаются его материалы из разрушаемого водами левого берега Иртыша могильника у юрт Ильчибага (ныне д. Ильчибага в Тевризском районе Омской области) [Отчет…, 1898. С. 87]. В Отчете за 1911 г. сообщается о находках вещей при прокладке дороги через д. Аргаиз (это правый берег Иртыша, ныне Знаменский район Омской области). Среди них – уникальный металлический (бронза) «идол», по своей иконографии тяготеющий к пермским находкам [Отчет…, 1914. С. 89]. Наши раскопки могильников Ильчибага и
Аргаиз подтвердили их принадлежность к развитому средневековью, датировки вещевых комплексов А. А. Спицыным оказались близки к реальным [Коников, 2007. С. 139–143].
Нельзя не отметить внимание С. С. Усова ко всем археологическим находкам, а не только к «эффектным», что в истории любительской краеведческой археологии было скорее правилом, чем исключением. Так, в Отчете за 1898 г. опубликована заметка о находках изделий из меди (бронзы?), а также предметов из камня и рога [Отчет…, 1899. С. 81]. В Отчете за 1900 г. сообщалось о поступлении в Государственный исторический музей от крестьянина С. Усова изделий каменного или медно-каменного века: каменные «клинья» и «кайла» [Отчет…, 1902. С. 120]. В Отчете за 1909–1910 гг. характеризуются такие предметы из Тарского уезда, как обработанный медвежий клык и два глиняных пряслица [Отчет…, 1911. С. 130]. Поставлял он в Археологическую комиссию и Государственный исторический музей также фрагменты лепной керамики. Автором заметок, посвященных археологическим находкам с территории Тарского уезда, был А. А. Спицын. Его авторство, среди прочего, доказывается и тем, что в ряде его монографических изданий слово в слово повторяются фразы из Отчетов.
Анализ содержания Отчетов позволяет говорить о том, что А. А. Спицыным было проанализировано, описано и датировано большое количество предметов, найденных, прежде всего, в курганных могильниках, и реже – на поселениях южно-таежного Прииртышья. Практически все датировки, предложенные им для находок раннего и развитого средневековья, с небольшими коррективами, остаются в силе и ныне. Условно все опубликованные находки можно разделить на следующие группы: металлические (медь, бронза) культовые подвески, характеризующие ритуальномагическую сферу, искусство, бронзолитейное производство и культурноисторические связи местного населения; детали поясных наборов; украшения костюма, а также предметы, имеющие отношение к таким домашним промыслам, как ткачество и производство глиняной посуды. Так, в Отчете за 1897 г. содержится описание уникальной медной (?) подвески с изображением птицы с личиной человека на груди [Отчет…, 1898. С. 76]. Позднее, возвращаясь к этой находке, А. А. Спицын справедливо отмечает особую значимость подвесок подобного вида: «Это едва ли не важнейшие шаманские изображения, идущие от ранней поры и до очень поздней» [1906. С. 38]. Не случайно на титульном листе книги выдающегося археолога и историка религии Сибири М. Ф. Косарева воспроизведена именно эта находка [Косарев, 2003]. То, что А. А. Спицын верно определил роль и место указанных подвесок в шаманской ритуальной практике, подтверждают исследования начала ХХI в. В частности, в современной историографии подчеркивается, что на груди сибирского шамана изображался птичий символ, который семантически соотносился с культовыми металлическими изображениями птиц с личиной человека на груди [Дэвлет, Дэвлет, 2005. С. 264]. Таким образом, опубликованные, описанные и датированные А. А. Спицыным металлические культовые подвески из Тарского уезда существенно дополняют наши знания о религиозно-мифологической практике средневекового населения.
Подобные находки привлекались Спицыным и для создания фундаментальных работ по археологии Прикамья и Приуралья. Так, в книге «Шаманские изображения» издана бронзовая плоская скульптура гуся, найденная у с. Филинское вблизи Тобольска [Спицын, 1906. Рис. 359]. Позднее она была переиздана В. Н. Чернецовым [1957]. Публикуя эту и другие находки из Тарского уезда, А. А. Спицын, предложил одну из возможных целей их применения средневековым населением – в качестве подвесок на шаманском костюме. Исследования многих ученых в ХХ в. (В. Н. Чернецов, М. Ф. Косарев, В. А. Могильников и др.) показали, что металлические подвески, опубликованные в том числе и А. А. Спицыным, действительно служили для таких целей [Косарев, 2003. С. 236]. В том же издании Спицын очертил ареал бытования металлических культовых подвесок, включив в него и нынешнюю территорию Омского Прииртышья [Спицын, 1906. С.
-
29] . С некоторой корректировкой остается в силе его заключение относительно определения «золотым веком» для металлических культовых подвесок VIII–IХ вв. [Там же. С. 34]. Так, Н. В. Федорова пишет: «К IХ веку на севере Западной Сибири наступил “золотой век” бронзолитейного искусства» [Древняя бронза…, 2000. С. 3].
При определении возраста находок из Прикамья и Тарского уезда А. А. Спицын опирался, среди прочего, и на технику отливки поделок (как известно, он одним из первых стал широко использовать сравнительно-типологический метод при анализе археологического материала).
Публикация А. А. Спицыным пластинчатых браслетов из белого металла с изображением «медвежьих голов между когтистых лап» из Тарского уезда [Отчет…, 1911] подтверждает факт их широкого хождения и в Омском Прииртышье. Таким образом, понятие «браслеты приобского типа», введенное в свое время В. Н. Чернецовым для этого типа находок, нуждается в корректировке. В Отчете за 1911 г. сообщается о находке у д. Аргаиз Тарского уезда «серебряной шейной гривны Х в. н. э.» [Отчет…, 1914. С. 89]. С учетом бронзовой тордированной шейной гривны из кургана из Малой Бичи IV [Коников, 1987. Рис. 2, 13 ] можно сделать вывод о широком бытовании в южно-таежном Прииртышье этого вида украшений, типичного для состоятельных обитателей древнерусской деревни Х–ХIII вв. [Там же. С. 92].
В других своих работах А. А. Спицын обратил внимание на параллели между находками из Приуралья и южно-таежного Прииртышья. В частности, им отмечено сходство в форме, материале и характере узоров на глиняных пряслицах. Наши исследования южно-таежных городищ, где обнаружены десятки глиняных и костяных пряслиц, только подтверждают правильность наблюдений ученого [Коников, 2007. Рис. 174].
Указанные выше работы исследователя и поныне востребованы и позволяют проводить аналогии и очерчивать ареалы распространения находок, что в свою очередь дает возможность выйти на содержательные исторические построения.
С 1909 г. А. А. Спицын становится преподавателем Петербургского университета (читает курс археологии); он также руководит студенческими научными работами. Его слушателем и учеником был Н. Н. Бортвин (1892–1943), уроженец нынешней Омской области. Под руководством А. А. Спицына он выполнил научную работу, посвященную восточному серебру из кладов Приуралья. В круг его научных интересов входил и этногенез угров [Бортвин, 1935; 2006].
По поручению А. А. Спицына, Н. Н. Бортвин выехал на раскопки памятника, с которого в Археологическую комиссию от С. С. Усова часто поступали «интересные находки». Так, по данным Отчета за 1911 г., с возвышенности «Голая Сопка» Тарского уезда в Петербургский университет поступили вещи, охарактеризованные А. А. Спицыным как медная подвеска, четыре глиняных пряслица и грузило для «тканья» [Отчет…, 1914. С. 121]. В число задач для Н. Н. Бортвина и входили поиск и изучение этого памятника – городища Новоникольское (Голая Сопка) вблизи с. Усть-Ишим нынешней Омской области. С этой задачей он успешно справился. Судя по публикации в Отчете за 1913–1915 гг. итогов раскопок, можно сделать вывод, что Н. Н. Бортвин был достойным учеником маститого педагога. На городище он заложил траншею площадью около 80 кв. сажень, а в Отчете дал развернутую характеристику культурного слоя (мощность последнего, по наблюдениям Н. Н. Бортвина, составляла 0,70–1,75 м), и находок из него [Отчет…, 1915]. Отчет также свидетельствует о хорошей подготовке этого ученика А. А. Спицына и в области палеозоологии и ихтиологии. Им были определены кости лося, оленя, собаки, рыб (язь, стерлядь, щука) и птиц.
Значение работ Н. Н. Бортвина на Новоникольском городище многопланово. Это были первые научные раскопки на севере Омского Прииртышья. Впервые в истории прииртышской археологии он выделил две культуры – медного века и татарскую
ХIV–ХV вв. Позднее московский археолог В. А. Могильников (1930–2000) показал, что данное городище является многослойным памятником, включавшим, в том числе, и культурные слои эпохи раннего металла и татарского времени [Могильников, 1964]. В силу природных факторов памятник к настоящему времени подвергся существенной деформации: сохранилась лишь малая его часть. Вместе с исследованиями В. А. Могильникова (1962) и И. В. Морева (1977) материалы работ Н. Н. Бортвина дают представление о месте и значении этого городища в древней истории Прииртышья.
Следует упомянуть еще об одной линии связи А. А. Спицына с Омским Прииртышьем. Не без его участия в археологическом кабинете Петербургского университета заняли свое место находки с памятников нынешней Омской области: в 1914 г. сюда были переданы на хранение медное (?) копье, серьга, кельт, костяные наконечники стрел и фрагменты глиняной посуды. Находки вновь поступили от крестьянина С. С. Усова из разных районов Тарского округа [Отчет…, 1915. С. 118].
Материалы Отчетов долгое время оставались вне поля зрения специалистов по археологии Омского Прииртышья. Так, ими не воспользовалась В. П. Левашова (1901– 1974), профессиональный археолог, выпускница МГУ, ученица В. А. Городцова, работавшая в 1926–1929 гг. в ЗападноСибирском краевом музее (ныне Омский историко-краеведческий музей) [Коников, 1994]. На Отчеты не обратили внимания и авторы статей по археологии Западной Сибири в Сибирской Советской энциклопедии, выходившей в Новосибирске в 1929–1932 гг. И позднее, когда выдающийся археолог-сибиревед В. Н. Чернецов (1905–1970) приступил к исследованию Омского Прииртышья (с 1945 г.), материалы Отчетов не были в полной мере использованы и в его исследованиях [Чернецов, 1947; 1953; 1957]. Только В. А. Могильников постоянно ссылался на вышеназванные материалы в своих статьях и обобщающих работах 60– 90-х гг. ХХ в. [Могильников, 1964; 1987].
Бесспорно, А. А. Спицын относится к когорте выдающихся отечественных археологов последней трети ХIХ – первой трети ХХ в. Его эрудиция, кругозор и трудолюбие поразительны. Он проявил недюжинные организаторские способности в качестве товарища Председателя Императорской археологической комиссии. Как мы показали, в сферу его интересов входила и археология Западной Сибири, в частности средневековая археология Омского Прииртышья. Им опубликованы и верно датированы поступившие оттуда случайные разновременные находки. Он инициировал первые научные раскопки на одном из его показательных южно-таежных памятников. Все это позволяет сделать вывод о том, что имя А. А. Спицына с полным правом должно быть вписано в историю археологических исследований Сибири, в том числе и Омского Прииртышья. Одной из насущных задач современной западно-сибирской археологии является повторное обращение к его материалам, систематизация опубликованных находок и комментариев к ним.
Отчет археологической комиссии за
1900 г. СПб., 1902. 189 с.
Отчет археологической Комиссии за 1909–1910 гг. СПб., 1911. 189 с.
Отчет археологической комиссии за 1911 г. СПб., 1914. 156 с.
Отчет археологической комиссии за 1913–1915 гг. СПб., 1915. 167 с.
Очерки истории русской и советской археологии. М.: Наука, 1991. 167 с.
Спицын А. А. Приуральский край // Материалы по археологии восточных губерний России. СПб., 1893а. Вып. 1. 153 с.
Спицын А. А. Костеносные городища // Материалы по археологии восточных губерний России. СПб., 1893б. Вып. 7. 123 с.
Спицын А. А. Древности бассейнов реки Оки и Камы. СПб., 1901. 254 с.
Спицын А. А. Древности Камской Чуди по коллекции Теплоуховых // Материалы по археологии России. СПб., 1902. 234 с.
Спицын А. А. Шаманские изображения // Записки отдела славяно-русской археологии. СПб., 1906. Т. 7, вып. 1. 231 с.
Чернецов В. Н. Результаты археологической разведки в Омской области // КСИИМК. М.: Наука, 1947. Вып. 17. С. 68– 74.
Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. М.: Наука, 1953. № 35. С. 7–71.
Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии н. э. // МИА. М.: Наука, 1957. № 57. С. 136–245.
Материал поступил в редколлегию 25.04.2008
-
B. A. Konikov
A. A. SPITSYN AND MEDIEVAL ARCHEOLOGY OF THE OMSK IRTISH AREA