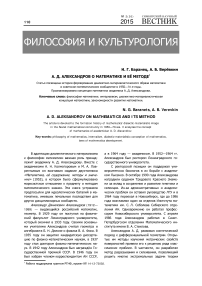А. Д. Александров о математике и её методе
Автор: Баранец Наталья Григорьевна, Вервкин Андрей Борисович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории формирования диалектико-материалистического образа математики в советском математическом сообществе в 1950-70-е годы. Проанализирована концепция математики академика А. Д. Александрова.
Философия математики, интернализм, диалектико-материалистическая концепция математики, закономерности развития математики
Короткий адрес: https://sciup.org/14114071
IDR: 14114071
Текст научной статьи А. Д. Александров о математике и её методе
В адаптации диалектического материализма к философии математики важная роль принадлежит академику А. Д. Александрову. Вместе с академиками А. Н. Колмогоровым и М. А. Лаврентьевым он возглавил издание двухтомника «Математика, её содержание, методы и значение» (1953), в котором было сформулировано марксистское отношение к предмету и методам математического знания. Эта книга устранила предпосылки для идеологических баталий в математике, имевших печальные последствия для других дисциплинарных сообществ.
Александр Данилович Александров (1912— 1999) — выдающийся российский математик, геометр. В 1929 году он поступил на физический факультет Ленинградского университета, который окончил в 1933 году. Своими основными учителями Александров считал геометра и алгебраиста Б. Н. Делоне и физика В. А. Фока. В 1935 году он защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, в 1937 году стал доктором физико-математических наук. В 1942 году Александров был награждён Государственной премией СССР. В 1946 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1964 году — академиком. В 1952—1964 гг. Александров был ректором Ленинградского государственного университета.
С ректорской позиции он поддержал университетских биологов в их борьбе с академиком Лысенко. В октябре 1990 года Александрова наградили орденом Трудового Красного Знамени за вклад в сохранение и развитие генетики и селекции. Из-за административных и академических проблем он оставил руководство ЛГУ и в 1964 году переехал в Новосибирск, где до 1986 года возглавлял один из отделов Института математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения АН. Одновременно он работал профессором Новосибирского университета. С апреля 1986 года Александров работал в Санкт-Петербургском отделении Математического института имени В. А. Стеклова.
Александров А. Д. развивал синтетический подход к дифференциальной геометрии. Открытые им методы изучения метрических свойств поверхностей привели его к решению ряда классических проблем. В частности, он разработал метод разрезывания и склеивания, позволивший решить многие экстремальные задачи теории многообразий ограниченной кривизны. Отдельный цикл его работ относился к хроногеометрии — основаниям теории относительности.
Научные интересы Александрова были широки и разнообразны. С 1950-х гг. его интересовала методология и история математики. Вместе с А. Н. Колмогоровым и М. А. Лаврентьевым в 1953 году он организовал публикацию методологической книги «Математика, её содержание, методы и значение» и написал её вводную главу «Общий взгляд на математику» .
Александров начинает определение математики почти по Энгельсу, называя её «наукой о формах и отношениях, взятых в отвлечении от их содержания. Первый и основной предмет математики составляют количественные и пространственные отношения и формы… В математике изучаются и другие отношения и формы, в частности в математической логике — формы логического вывода, в геометрии — n-мерные пространства, которые, конечно, не являются пространственными формами в обычном смысле слова, но имеют прообразы в действительности, например, в виде множества всех возможных состояний той или иной механической системы (так называемое фазовое пространство системы). В общем в предмет математики могут входить любые формы и отношения действительности, которые объективно обладают такой степенью независимости от содержания, что могут быть полностью отвлечены и отражены в понятиях с такой ясностью и точностью, с сохранением такого богатства связей, чтобы дать основание для чисто логического развития теории» [1]. Затем он замечает, что в современной математике также рассматриваются объекты логически возможные, задаваемые на основе уже известных форм и отношений. Примером таких являются «мнимые» числа и «воображаемая» геометрия. Поэтому математика также есть наука о логически возможных, отвлечённых от содержания формах, или «о системах отношений, так как форма есть система отношений частей целого, а отношения в математике фигурируют как система отношений между какими-либо абстрактными объектами» [2]. В этом пояснении видится новое, оригинальное определение предельной общности.
Александров не относил математику к естественным наукам, поскольку она отвлекается от содержания и не допускает внутри себя наблюдение и эксперимент в качестве доказательных аргументов. Математика зародилась из практики естественных наук, но в ходе долгого накопления знаний, прояснения понятий и связей меж- ду отдельными результатами она превратилась в чистую математику, развитие которой, продолжая сопровождать естествознание, всё-таки существенно расширяет её предмет, восходя к более высоким ступеням абстракции. При этом наблюдается удивительный феномен — отвлечённые построения математики, возникшие внутри неё самой, без прямого запроса естествознания и техники, находят в них плодотворное применение. Так, смысл мнимых чисел, появившихся в алгебре, долгое время оставался неясен, пока им не было дано геометрическое истолкование. Созданная вскоре теория функций комплексной переменной стала действенным средством решения чисто технических вопросов — о подъёмной силе крыла или о просачивании воды под плотинами при строительстве гидроэлектростанций. Другой пример дала геометрия Лобачевского, названная им «воображаемой», поскольку он не видел её реального значения. Именно она положила начало новому развитию геометрии — теории неевклидовых пространств, решающей задачи теории относительности.
В развитии математики Александров указывает значимость внутренней логики развития науки: «Наряду с накоплением математических знаний, с установлением связей между получаемыми результатами и унификацией правил решения задач складывались теоретические способы вывода новых результатов и первые математические доказательства. В конечном итоге это привело к качественному скачку: сложилась чистая математика с ее дедуктивным методом» [3]. Его рассуждения оппонировали колмогоровской версии истории математики. По мнению некоторых исследователей, версия Александрова «выглядит более привлекательной для чистого математика, который нечасто задумывается над тем, сколь необычной является выбранная им сфера профессиональной деятельности. В самом деле, особенностью данной схемы является увязывание формы изложения математики с её содержанием. В качестве следствия мы получаем освящение принятого ныне способа преподавания математики на все будущие времена. Концепция А. Н. Колмогорова, связывающая дедуктивную форму математического знания с внешними по отношению к науке условиями, более открыта педагогическим новациям, так как предполагает возможность критического отношения к породившим дедуктивную форму социально-историческим условиям» [4]. Органическое зарождение дедуктивного метода внутри самой математики противоречит общепринятым представлениям об истории науки. Ведь, по Александрову, дедуктивный метод должен возникать везде, где накапливался достаточный объём математических знаний. Однако считается, что математическая традиция Китая и Индии имеет многотысячелетнюю непрерывную историю, а математика в них так и не стала дедуктивной наукой. Также считается, что идея логического построения теории на основе немногих общих положений имеет исключительно древнегреческое происхождение, не объяснимое какой-то особой математической одарённостью греков. Исторические материалисты полагают, что научные результаты древних эллинов являются следствием их общественных условий жизни1.
Периодизация истории математики по А. Д. Александрову также имеет особенности. Александров отрицал детерминирующий куму-лятивизм науки, отмечая, что развитие математики не сводимо к накоплению теорем, а являет собой качественное изменение от одного периода к другому. Подобно Колмогорову, он также выделял четыре этапа, опираясь на общепринятые исторические представления.
Первый этап — зарождения математики — длился от появления первых навыков счёта и измерения до оформления математики в самостоятельную теоретическую науку, то есть с древнейших времён до V века до н. э. Для Александрова значим древнегреческий рубеж появления «чистой математики» с её логической связью теорем и доказательств. Для того времени характерна непосредственная связь науки с практикой и выведение отдельных правил из опыта.
Второй период — элементарной математики. Он начался в V веке до н. э. и закончился в XVII веке н. э. Александров выделял в нём подпериоды развития геометрии до II века н. э. и развития алгебры от II до XVII вв. «Греки не только развили и привели в стройную систему элементарную геометрию в том объёме, в каком она дана в «Началах» Эвклида и преподаётся теперь в школах, но достигли гораздо больших результатов. Так, они изучили конические сечения: эллипс, гиперболу и параболу; доказали некоторые теоремы, относящиеся к началам так называемой проективной геометрии; разработали, руководствуясь потребностями астрономии, геометрию на сфере (I век н. э.), а также начала тригонометрии и вычислили первые таблицы синусов (Гиппарх — II век до н. э. и Клавдий Птолемей — II век н. э.); определили площадь сегмента параболы, доказав, что она составляет 2/3 площади прямоугольника, содержащего этот сегмент…» [5]. Александров сомневался в удивительных успехах древнегреческих математиков, но допускал их возможность: «Грекам была известна даже, например, такая теорема, что из всех тел с данной площадью поверхности наибольший объём имеет шар, но доказательства её не сохранилось, и едва ли греки владели полным её доказательством, столь оно трудно; оно было впервые найдено в XIX веке посредством интегрального исчисления» [6]. Он верил, что древние греки вплотную подошли к «высшей» математике, например, Архимед — к интегральному исчислению для вычисления площадей и объёмов, Аполлоний — к аналитической геометрии для исследования конических сечений. Но у них не было понятий для произвольных постоянных и переменных величин и необходимой буквенной формы обозначений. Через тысячу лет Декарт заложил аналитическую геометрию, начав её с греческих задач. Александров высказал закон развития научных идей: «Старые теории, порождая новые и глубокие задачи, как бы перерастают сами себя и требуют тогда для развития новых форм, новых идей. Эти новые формы и идеи для своего возникновения могут требовать иных условий» [7]. При этом Александров, как и большинство историков математики до и после него, не задумывается о реальной возможности трансляции математического знания через «тёмные» века, при фактической утрате живой практики и математической традиции в Европе. Его не беспокоит проблема понимания греческих математических текстов в арабских переводах при отсутствии культурного и языкового единства в эпоху европейского Ренессанса. Он излагает общее мнение: «При возрождении наук европейцы учились у арабов и знакомились с греческой наукой по арабским переводам. Книги Эвклида, Птолемея, Аль-Хорезми в XII в. впервые перевели с арабского на латинский — общий научный язык Западной Европы того времени. В то же время в борьбе с прежней системой счёта, идущей от греков и Рима, постепенно укрепляется в Европе индийское исчисление, заимствуемое у арабов. Только в XVI веке европейская наука, наконец, впервые превзошла достижения своих предшественников. Так, итальянцы Тарталья и Феррари решили в общем виде: первый — кубическое, второй — уравнение четвёртой степени… В этот же период впервые начинают оперировать с мнимыми числами (пока чисто формально, без какого-либо реального обоснования, которое выясняется гораздо позже, в начале XIX века). Вырабатываются также современные алгебраические обозначения и, в частности, появляются буквенные обозначения не только неизвестных, но и данных чисел: «а», «b» и т. п. …тогда же появляются в Европе десятичные дроби…» [8].
Третий период наступил в XVII веке. Это этап математики переменных величин, появления и развития анализа. В XVI веке центральной задачей естествознания стало исследование движения, для чего понадобилось развитие понятийного и методологического аппарата математики. Так, понятия переменной и функции были введены для обобщения конкретных величин и зависимостей между ними. При описании этой стадии Александров рассуждает о закономерностях появления и развития математических теорий. Он отмечает, что теории не возникают в результате образования новых понятий и, следовательно, анализ не мог явиться из одних понятий переменной и функции. «Для создания теории, и тем более целой области науки, какой является математический анализ, нужно, чтобы через них открывались новые взаимосвязи, чтобы они позволяли решать новые задачи… сами новые понятия зарождаются, развиваются, уточняются, обобщаются только на основе тех задач, которые они позволяют решить, только на основе тех теорем, в которые они входят. Понятия переменной и функции не возникли сразу в готовом виде у Галилея, Декарта, Ньютона или кого-либо ещё. Они зарождались у многих математиков (как, например, у Непера в связи с лога- рифмами), поэтому приняли более или менее отчётливую, но далеко не окончательную форму у Ньютона и Лейбница…» [9].
В этот период была создана аналитическая геометрия. В её рамках планиметрические задачи решают следующим методом: уравнению от двух переменных сопоставляют линию на плоскости. Затем по функциональным свойствам уравнения исследуют геометрические свойства соответствующей линии и, наоборот, по геометрическим свойствам линии находят и изучают её уравнение.
Четвёртый этап развития математики — современный. Он начался в XIX веке со значительных нововведений: возникла неевклидова геометрия, в алгебру вошла теория групп, в анализ — теория бесконечных множеств. В ХХ веке количественно и качественно расширился предмет математики и умножились области её приложения. Появились новые теории и методы. Соединение анализа, алгебры, математической физики и геометрии создало функциональный анализ, играющий в современной математике важную роль. В середине ХХ века новые математические перспективы открыла вычислительная техника. Она дала возможность вести расчёты с исключительной скоростью и решать такие задачи, которые ранее были практически недоступны. Были созданы новые обобщающие понятия, более высокие ступени абстракции. В современной математике доминирует теоретико-множественная точка зрения, суммирующая предшествующий материал. Этому периоду присущ глубокий анализ основ математики, изучение зависимости её понятий, структуры отдельных теорий, поиск новых способов математических доказательств. «Определяющую особенность современной математики можно видеть в том, что её предмет составляет уже не только данные, но и возможные количественные отношения и формы. В геометрии речь идёт не только о пространственных, но и о сходных с пространственными, возможных отношениях и формах. В алгебре же речь идёт о разных системах абстрактных объектов с возможными законами действий над ними. В анализе переменной становится не только величина, но самая функция рассматривается как переменная. В функциональное пространство объединяются все функции того или иного типа, т. е. возможные зависимости между переменными» [10]. Таким образом, Александров определил современную математику как науку о возможных количественных отношениях и формах, а также взаимосвязях между ними.
Закономерности развития математики.
А. Д. Александров в указанной выше работе написал о сущности математики и её истории, попытался указать закономерности её развития. Предмет математики — реальные формы и отношения действительности, отделённые от их содержания. Математика — продукт работы многих поколений. Возникнув в древности, она постоянно изменяется, но её главные понятия и выводы сохраняются, накапливаясь от эпохи к эпохе. Новые теории включают в себя прежние, обобщая и дополняя их. Периоды революционных, качественных преобразований предмета и методов сменяются временем накопления, расширения и усовершенствования имеющегося. Расширение сферы математики происходит за счёт включения в неё новых областей количественных отношений. С ростом результатов математика переходит к новым, обобщающим понятиям, углубляя анализ основ. «Отвлекаясь от конкретного, вращаясь в кругу своих абстрактных понятий, математика тем самым отделяется от эксперимента и практики, а вместе с тем она лишь постольку является наукой (т. е. имеет познавательную ценность), поскольку опирается на практику, поскольку оказывается не чистой, а прикладной математикой. Говоря несколько гегелевскими словами, чистая математика постоянно «отрицает» себя как чистую математику; без этого она не может иметь научного значения, не может развиваться, не может преодолевать неминуемо возникающие внутри неё трудности» [11]. Математические теории в формальном виде противостоят реальному содержанию как некоторые схемы для конкретных выводов. В таком виде математика выступает как метод формулировки количественных законов естествознания, как аппарат для разработки его теорий и решения задач.
Отметим, что указанная статья «Общий взгляд на математику» имеет выраженный идеологический характер. Александров развил в ней последовательный диалектико-материалистический подход к математике. Рассуждая о математике, он изобильно цитирует «Анти-Дюринг» Энгельса. Он выделяет принципиально важные положения, формирующие суть диалектико-марксистского подхода к математике: математика отражает действительность, так как возникла из практических нужд людей; математика имеет своим предметом определённый вполне реальный материал, но рассматривает его в полном отвлечении от конкретного содержания и качественных особенностей; возможность применения абстрактных математических теорий к исследованию реального мира основана на том, что она заимствована из самого мира и выражает часть присущих ему форм. Александров суммирует — объективное безразличие к содержанию исследуемых в математике форм определяет её особенности: умозрительность, логическую необходимость выводов, широкие возможности приложений. «Возвращаясь теперь к суждению Энгельса о математике, мы видим, какая глубина и богатство содержания, какие возможности развития заключаются в этом суждении. Не будучи математиком, он дал столь глубокий анализ основ науки не только потому, что был гениальным мыслителем, но, что самое главное, потому, что владел диалектическим материализмом и руководствовался им в задаче выяснения сущности математики. Не мудрено поэтому, что никто до Энгельса и не мог дать столь глубокого и верного решения этого вопроса» [12].
Подумаем — а мог ли Александров написать что-то иное в 1953 году, для первого издания упомянутого сборника? Ведь целью книги было упреждение нового идеологического нападения на математику. Для этого следовало выработать консолидированную позицию в отношении сущности и функций своей науки. Опасения были вполне оправданы на фоне идеологических баталий в сообществах биологов, физиков и кибернетиков. Без ссылок на классиков марксизма в те времена — и даже гораздо позднее — не выходила ни одна философская работа. Уместные цитаты основоположников индульгировали авторов от идеологических доносов и цензурных мытарств1. Но дело здесь было не только в идеологической мимикрии Александрова и его коллег. Ведь, несмотря на правоверную риторику и вынужденность цитирования работ Маркса, Энгельса, Ленина и т. д., многие учёные того периода, и А. Д. Александров в том числе, признавали диалектический материализм. В СССР диамат подавил все иные мировоззрения. Другие линии материализма не получили распространения и развития. Учёные в общефилософских декларациях выражали более-менее стандартизированную позицию. И когда в 1970—90-е гг. ослабела, а вскоре исчезла идеологическая цензура, в российской философии стали модными субъективизм и постмодернизм, были воскрешены полузабытые течения, относимые марксистами к идеализму и агностицизму. Но А. Д. Александров в эти новые времена в работах по истории и философии математики по существу остался верен своим идеям 1950-х гг.
В 1970 году Александров уточнил специфику математического знания, отчасти позаимствовав терминологию модного в ту пору бурба-кизма: «Современный этап в развитии математики не даёт основания отказаться от её определения как науки о возможных чистых структурах… под математикой понимается совокупность формальных теорий, т. е. развиваемых по достаточно точно определённым правилам систем формальных выводов. При этом мы можем иметь в виду несколько различных уровней формализации; крайним представляется тот, который позволяет превратить теорию в определённым образом действующую машину. Но построение и исследование формальных теорий выходит за пределы математики в этом смысле и составляет предмет уже метаматематики... Подобно тому как материальная техника извлекает из природы разнообразные материалы, преобразует и комбинирует их, создавая человеку средства для овладения природой и практической деятельностью, так и математика извлекает из природы путём абстракции свои первоначальные понятия, преобразует и комбинирует их, создавая человеку средства для теоретического овладения природой. Она может быть поэтому определена как «идеальная техника» [13].
В очерке истории математических идей «Беседы о развитии науки» (написано в 1971 г., опубликовано в 1988 г.) Александров сказал ещё лаконичнее: «Математика как наука о количественных отношениях и пространственных формах действительности превратилась в науку о любых логически мыслимых отношениях и формах. В предмет математики входит любая структура, которую можно мыслить без противоречия путём логического рассуждения с достаточной строгостью и богатством выводов.
Найдёт ли эта мыслимая структура применение и прообраз в действительности — это уже не вопрос математики» [14].
Некоторыми исследователями наследия А. Д. Александрова по истории и философии математики высказывалось мнение, что он совсем не учитывал внешние факторы развития науки, в частности — влияние естественных дисциплин на постановку математических проблем, на разработку методов решения прикладных задач. С этим трудно безоговорочно согласиться. Ведь у него мы находим и такие строки: «В античном обществе не было и не могло быть условий для перехода к высшей математике; они наступили с развитием естествознания в новое время, а это развитие в свою очередь было обусловлено в XVI—XVII вв. новыми потребностями техники и промышленности и было связано, таким образом, с зарождением и развитием капитализма…» [15]. Но эти слова, скорее, результат идеологических и философских оснований мировоззрения Александрова, чем полностью осознаваемая позиция. Он пробовал осмыслить и описать социальное влияние на науку. В тех же «Беседах по истории науки» он приводил отрывок из «Пневматики» Герона Александрийского, доказывая, что уже в глубокой древности эксперимент был научным доводом. При этом он пропускал многие интересные вопросы. Например, как при низком научном и техническом уровне развития Древней Греции могли возникнуть математические задачи, скажем, сферической геометрии, требующие развитой тригонометрии? Ведь у эллинов отсутствовал соответствующий понятийный и методологический аппарат. Его создали в Европе лишь к XVII веку. Допустив потенциальную возможность материально не мотивированного научного открытия, опережающего на века своё время, спросим — каким образом оно будет адекватно транслироваться через эти же века, постоянно дублируясь и истолковываясь людьми, не владеющими нужными понятиями? Возможное разовое чудо должно для этого стать чудом повторяющимся — «обыкновенным». Что ухудшилось по сравнению с условиями Древней Греции, чтобы ординарные чудеса в современной научной жизни перестали случаться? Можно ли это исправить или у таких чудес есть реальное прозаическое объяснение? Может ли исключительно математический интерес воплотиться в древнем обществе с его скудными ресурсами и техническими возможностями, в то время как в более развитом и изобильном мире стимулами для развития науки почти всегда являются практические потребности?1 Можно ли правильно понять древние математические работы после длительного разрыва научной традиции? Почему в отношении Античности и Средневековья нарушается закон накопления знаний, проявляющийся, в частности, в ускорении роста объёма научного знания, как это видно из современной истории? А. Д. Александров принимал принцип кумулятивизма научного знания для периода Нового времени: «…по мере развития анализа нарастала необходимость его обоснования, более строгого и систематического, чем то, какое давали первые творцы его действенных методов: Ньютон, Эйлер, Лагранж и другие. Создаваемый ими анализ по мере своего роста, во-первых, шёл к всё более и более глубоким и трудным задачам, а во-вторых, самый его объём требовал уже большей систематичности и продуманности его основ. Так, количественный рост теории необходимо порождает задачу её лучшего обоснования, систематизации и критического обзора её основ» [16]. В очерках истории науки он дал обзор сведений на эту тему, упорядочив их так, чтобы показать растущую сложность научного знания и его общественную пользу.
* * *
В своей версии истории математики, созданной в 1950-е и уточняемой в 1960— 80-е гг., А. Д. Александров держался сложившейся схемы развития мировой цивилизации. В большей степени его интересовало выражение специфичности и значимости математического знания для общества, чем представление полной реконструкции развития научных идей. Он предполагал, что существуют какие-то правила или закономерности эволюции математических теорий, представляемые следующим образом. Новые задачи часто возникают в связи с нуждами техники и естественных наук. По мере создания методов их решения всё значимее становится осмысление основ и упорядочение набранного материала. Наступает период критики, систематизации и обоснования. Формулируются начальные определения понятий. Развивающаяся наука уточняет и изменяет их. Установление принципов теории — это итог её создания, ко- торый не становится её завершением, а способствует последующему движению.
Александрова А. Д. можно счесть последовательным сциентистом, хотя сам он себя так не называл и вряд ли бы согласился с такой спецификацией. Ближе к концу жизни он уделял много сил популяризации науки и её истории . Наука, в его видении, пребывает в центре культуры, а в центре науки должен находиться человек не только как творческая личность, но и как предмет и конечная цель любой деятельности и размышлений. Наука задаёт вопросы «Как?» и «Для чего?». Настоящее научное исследование руководствуется единственной бесспорной ценностью — стремлением к истине. Оно «направляется заинтересованностью исследователя, который не стремится заранее извлечь из объекта какую-либо пользу, а хочет лишь узнать и понять» [17]. Знание открывает перед человеком большие возможности, способствует его духовному обогащению, расширяет свободу. Поэтому стремление найти истину и бескорыстно поделиться ею стало моральным принципом современной науки. «Идея истины — это то звено, которое скрепляет науку и этику. Убрав её, мы не только разъединим их, но и разрушим — разрушим и этику, и науку» [18] . Интеллектуальная честность, осознание ответственности за истину, совесть учёного, состоящая в безусловном, бескомпромиссном и бескорыстном стремлении к знанию и отстаивании его, — основные компоненты мировоззрения А. Д. Александрова. Следование этим ценностям — общественный долг учёного. Изучение истории науки даёт нравственные образцы должного поведения: «История науки чрезвычайно интересна и поучительна. Она богата волнующими событиями, такими как суд над Г. Галилеем; как опыты Пастера с прививками от бешенства и другие полные драматизма и мужества моменты борьбы учёных с болезнями и смертью… как идейный разброд среди математиков по поводу оснований и смысла их науки, когда в начале нашего столетия, казалось, само стройное и величественное здание математики может рухнуть в значительной части; …Она открывает нам пути человеческого гения в общеисторическом его явлении и в личностях выдающихся учёных. История науки раскрывает замечательный человеческий феномен — познание» [19]. Знакомство с историей науки создаёт необходимую перспективу понимания её современного состояния.
-
1. Александров А. Д. Математика // Александров А. Д. Избр. тр. Т. 3. Статьи разных лет. Новосибирск : Наука, 2008. С. 258.
-
2. Там же. С. 259.
-
3. Там же. С. 263.
-
4. Бычков С. Н. Математика в историческом измерении // Вопросы истории естествознания и техники. 2003. № 3. С. 95 — 110.
-
5. Математика, её содержание, методы и значение / под ред. А. Д. Александрова, А. Н. Колмогорова, М. А. Лаврентьева. Т. 1. М. : Изд-во АН СССР, 1956. С. 35.
-
6. Там же. С. 35.
-
7. Там же. С. 36.
-
8. Там же. С. 40.
-
9. Там же. С. 43.
-
10. Там же. С. 60.
-
11. Там же. С. 71.
-
12. Там же. С. 69.
-
13. Александров А. Д. Математика и диалектика // Александров А. Д. Избр. тр. : в 3 т. Т. 3. Новосибирск : Наука, 2008. С. 281.
-
14. Александров А. Д. Беседы по истории науки / Александров А. Д. Избр. тр. : в 3 т. Т. 3. Новосибирск : Наука, 2008. С. 514.
-
15. Математика, её содержание, методы и значение / под ред. А. Д. Александрова, А. Н. Колмогорова, М. А. Лаврентьева. Т. 1. М. : Изд-во АН СССР, 1956. С. 37.
-
16. Там же. С. 51.
-
17. Александров А. Д. Наука и этика. Доклад на совещании по истории и методологии науки (Звенигород, 1983) // Александров А. Д. Избр. тр. : в 3 т. Т. 3. Новосибирск : Наука, 2008. С. 255.
-
18. Там же. С. 256.
-
19. Александров А. Д. Беседы по истории науки // Александров А. Д. Избр. тр. : в 3 т. Т. 3. Новосибирск : Наука, 2008. С. 509.
Список литературы А. Д. Александров о математике и её методе
- Александров А. Д. Математика//Александров А. Д Избр. тр. Т. 3. Статьи разных лет. Новосибирск: Наука, 2008. С. 258
- Бычков С. Н. Математика в историческом измерении//Вопросы истории естествознания и техники. 2003. № 3. С. 95-110.
- Математика, её содержание, методы и значение/под ред. А. Д. Александрова, А. Н. Колмогорова, М. А. Лаврентьева. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 35.
- Александров А. Д. Математика и диалектика//Александров А. Д. Избр. тр.: в 3 т. Т. 3. Новосибирск: Наука, 2008. С. 281.
- Александров А. Д. Беседы по истории науки/Александров А. Д. Избр. тр.: в 3 т. Т. 3. Новосибирск: Наука, 2008. С. 514.
- Математика, её содержание, методы и значение/под ред. А. Д. Александрова, А. Н. Колмогорова, М. А. Лаврентьева. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 37.
- Александров А. Д. Наука и этика. Доклад на совещании по истории и методологии науки (Звенигород, 1983)//Александров А. Д. Избр. тр.: в 3 т. Т. 3. Новосибирск: Наука, 2008. С. 255
- Александров А. Д. Беседы по истории науки//Александров А. Д. Избр. тр.: в 3 т. Т. 3. Новосибирск: Наука, 2008. С. 509