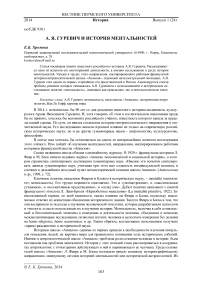А. Я. Гуревич и история ментальностей
Автор: Хромова Е.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История исторического знания
Статья в выпуске: 1 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена памяти известного российского историка А.Я. Гуревича. Рассматривается один из аспектов его многогранной деятельности, а именно исследование в русле истории ментальностей. Увидев в трудах этого направления, инспирированного работами французской историко-антропологической школы «Анналов», огромный интеллектуальный потенциал, А.Я. Гуревич стал одним из первых и ярчайших его представителей в России. Анализируется спектр проблем, решение которых связывалось А. Я. Гуревичем с использованием в историческом исследовании понятия «ментальность», имеющем как прикладное, так и методологическое значение.
А.я. гуревич, ментальность, идеи школы "анналов", историческая антропология, жак ле гофф, картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147203522
IDR: 147203522 | УДК: 930.1
Текст научной статьи А. Я. Гуревич и история ментальностей
В 2014 г . исполнилось бы 90 лет со дня рождения известного историка - медиевиста , культу ролога Арона Яковлевича Гуревича . И , хотя говорить об этом в сослагательном наклонении вроде бы не принято , хотелось бы вспомнить российского учёного , известность которого вышла за преде лы нашей страны . По сути , он явился создателем историко - антропологического направления в оте чественной науке . Его исследования оказали огромное влияние не только на современную россий скую историческую науку , но и на другие гуманитарные науки – антропологию , культурологию , философию .
В статье нам хотелось бы остановиться на одном из интереснейших аспектов исследования этого учёного . Речь пойдёт об изучении ментальностей , направлении , инспирированном работами историков французской школы « Анналов ».
Своим названием школа обязана одноимённому журналу . В 1929 г . французские историки Л . Февр и М . Блок начали издавать журнал « Анналы экономической и социальной истории », в кото ром стремились синтезировать достижения гуманитарных наук . « Именно эти попытки синтезиро вать данные гуманитарных наук , учитывая при этом всю сложность индивидуальной психики , и составят в дальнейшем исходный пункт метаисторической позиции школы Анналов » [ Автономова и др . , 1998, с . 72].
Ключевое понятие , введенное Февром и Блоком в историческую науку , – mentalité ( ментали тет , ментальность ). Его трудно перевести однозначно . Это и « умонастроение », и « мыслительные установки », и « коллективные представления », и « склад ума ». Дебют понятия связывают с книгой французского этнолога Л . Леви - Брюля « Первобытное мышление » (La mentalité primitive, 1922). За имствованный термин , по всей видимости , оказал влияние на Февра и Блока , поскольку макси мально отвечал их концепции обновления исторического знания . Заслуга Февра и Блока в том , что они восприняли те подходы к изучении человеческой этнологии , которые разрабатывали психологи и этнологи , и смело использовали их в изучении истории . Ментальность , включая в себя сознатель ный и бессознательный элементы в поведении и деятельности человека , объединяла в комплекс междисциплинарые исследования , позволяла изучать человека в целостном измерении без деления на homo religiosus, homo œconomicus и др . Таким образом , коллективное неосознанное получило « права гражданства » в исторической науке .
Историки школы « Анналов » одними из первых пришли к необходимости изучения импуль сов поведения людей , их картины мира для правильного понимания хода исторических событий . Именно в антропологической школе « Анналов » проблема роли сознания человека в истории была поставлена как проблема менталитета . История с этих позиций стала рассматриваться в координа тах антропологии : с точки зрения действующего в ней и оценивающего ее человека . Труды основа телей школы « Анналов » Л . Февра и М . Блока положили начало мощному историографическому направлению , именуемому сегодня историей ментальностей или исторической антропологией . Их
идеи получили развитие в трудах их преемников как в самой Франции , так и во многих странах ми ра , определив на многие десятилетия вперёд развитие как французской , так и мировой науки .
В России всестороннее развитие идеи школы « Анналов » получили в научной деятельности А . Я . Гуревича . Л . М . Баткин даже назвал его « представителем школы " Анналов " в Москве » [ Бат кин , 1994, с .19]. Увидев в трудах этой школы большой интеллектуальный потенциал , он предложил свою интерпретацию современного метода научного познания . Ключевой в этой системе остается проблема ментальностей , поскольку именно она дает возможность приблизиться к пониманию уровня сознания исторического человека и , соответственно , смысла его социального поведения .
Не будет излишним упомянуть , что Жак Ле Гофф , один из ярчайших представителей фран цузской школы , склонен разделять « историческую антропологию » и « историю ментальностей ». К первому направлению он относит всё , имеющее отношение к материальному бытию , функциям человеческого организма , обращая особое внимание на тело , жесты , ритуалы и т . п . То есть , прида вая исторической антропологии значение глобальной концепции истории , Ле Гофф отделяет её от истории ментальностей , которая , по его мнению , охватывает сферу автоматических форм сознания и поведения , а также историю идеологий , историю воображения и историю ценностей [ Гуревич , 1993, с . 297]. « Ему ближе принципы " тотальной " истории , стремящейся охватить весь доступный познанию спектр общественной жизни , все проявления культуры и поведения людей , организован ных в группы и в общество . В конце концов , эмоции , ментальности , воображаемое суть не что иное , как проявление внутренней жизни человеческого индивида , они представляют собой акци денции той субстанции , каковой является личность » [ Гуревич , 1999, с . 9-10]. По мнению же А . Я . Гуревича , проблематика и методы исторической антропологии и истории ментальностей настолько переплетены между собою , что вряд ли поддаются обособлению . Поэтому историческая антропо логия трактуется Гуревичем буквально – как наука о человеке в истории .
Ментальность , по мнению А . Я . Гуревича , является первой проблемой исторического иссле дования , « ибо любой социальный феномен надлежит рассмотреть как бы погруженным в тот по всюду разлитый эфир , который образует ментальность эпохи » [ Гуревич , 1993, с . 20]. Ее изучение должно быть отправной точкой любого исследования . Однако это не только отправной пункт , но и метод изучения как культуры , так и всех других аспектов истории – социально - экономических , правовых , политических . Все эти аспекты поддаются изучению посредством изучения ментально сти . « Менталитет , если угодно , есть внеличностный аспект сознания личности . Ментальные уста новки обнаруживаются во всех сферах человеческой жизнедеятельности , от повседневного быта , хозяйственной активности и групповых связей до религиозных отправлений и поэзии . Трудность , сопряженная с проникновением в ментальную сферу , определяется прежде всего тем , что человек прошлого , на которого направлено познание историка , расположен внутри своего « ментального пространства », а потому не воспринимает его как нечто отделенное от него , противостоящее ему . Будучи проблемой для исследователя , менталитет не становился проблемой для тех , кто пребывал в этой ментальной среде [ Гуревич , 2005, № 75].
Как уже было указано , использование категории ментальности основателями « Анналов » имело наряду с прикладным и важное методологическое значение . Наряду с « внешним » описанием явлений прошлого , каким оно видится нашему современнику , исходящему из ныне принятой сис темы понятий , вырисовывается человеческая личность , ее социальный и природный мир в воспри ятии людей изучаемой эпохи . « Объективный » образ истории , выражаемый в понятиях и категориях современной науки , дополняется « субъективным » видением мира людей прошлого . Благодаря уче ту менталитета изучаемой эпохи картина истории становится стереоскопичной и правдивой . Появ ляется целостное представление о жизни людей , наделенное смыслом и значимостью . Менталь ность в данном случае выступает « как своеобразный историко - культурный " эфир ", в который по гружено наше сознание » [ Гуревич , 1993 а , с . 50] и который необходимо учитывать историку для воссоздания внутреннего мира людей прошлого .
Именно изучение и реконструкцию картины мира людей прошлого считал А. Я. Гуревич центральной проблемой истории ментальностей. Если человеку можно задать вопрос о его мировоззрении, вероисповедании, эстетических вкусах, надеясь получить ответ, то на вопрос «Какова твоя картина мира?» он ответить не сумеет. Ведь об этом мы не думаем и даже не подозреваем о ее существовании. Тем не менее любой из нас обладает некоторой картиной мира, большая часть которой скрыта от нашего сознания. Комментируя в одной из своих статей известное высказывание нашего небезызвестного премьер-министра «Хотели как лучше, а вышло как всегда», Гуревич пишет: «Срабатывают некоторые инерционные силы – наш невеселый опыт, переходящий из поколения в поколение, привычки нашего сознания, наша картина мира; и сколько бы мы ни трепыхались, а получается так, как было до этого» [Гуревич, 2000, с. 54]. В любом случае картина мира не сформулирована и в принципе не поддается формулировке ее носителем. Дело обстоит так же, как с «прозой» у господина Журдена из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Подобно мольеровскому герою, не догадывавшемуся о том, что он говорит прозой, наш воображаемый собеседник не знает, да и не задумывается, что обладает менталитетом, определённой картиной мира. Но если человек обладает картиной мира, не подозревая о ее существовании, то и картина мира владеет человеком, и тем полнее, чем меньше она подконтрольна его сознанию. «Неосознанность картины мира – условие ее эффективности, гарантия ее могущества» [Гуревич, 1993б, с. 26]. Поскольку картина мира – продукт культуры в антропологическом смысле понятия, любой представитель конкретного общества не может не разделять присущего данному обществу взгляда на мир и не инте-риоризировать заложенную в сознание «сетку культурных координат» [Там же]. Личность принимает решения и совершает поступки, оставаясь в пределах «сценария», навязанного ей культурой.
Продолжительное время длящиеся споры о самом термине доказывают , насколько неопреде лённо и расплывчато понятие mentalité. Согласимся с мнением Ж . Ле Гоффа о том , что понятие это не лишено двусмысленности и расплывчатости . Но в этом даже усматривается его богатство и мно гозначность . Ле Гофф предложил следующее определение этого термина : « Ментальность любого исторического индивида , сколь бы значимым он ни был , представляет собой то общее , что этот ин дивид разделяет с другими людьми своего времени » [ Le Goff , 1974, р . 76–94]. Поскольку менталь ность принадлежит сфере « неявного , имплицитного », « диффузного и размытого » [ Ле Гофф , 1991, с . 30], то ее раскрытие затруднено . Тем не менее , настаивает А . Я . Гуревич , если стремиться к тому , чтобы не только рассматривать поведение индивидов и коллективов « извне », с позиций стороннего наблюдателя , остающегося в XX или XXI в ., т . е . на позитивистский манер , но и попытаться увидеть его « изнутри », то без осторожного и вдумчивого использования понятия менталитета не обойтись [ Гуревич , 2012, № 75]. Для того чтобы приблизиться к постижению их мировосприятия , нужно по пытаться вникнуть в содержание основных ментальных категорий .
Коренными категориями сознания являются время – пространство , личность , социум , оценка права и обычая , осознание труда , богатства , бедности , соотношение земного и трансцендентного и т . д . Люди воспринимают и моделируют действительность только при посредстве этих категорий . Вне этой системы невозможна никакая деятельность . Поэтому поведение людей неотрывно от их картины мира , заложенной в их сознание языком , религией , воспитанием , социальным общением . Исходя из этого , диапазон интересов истории ментальностей необычайно широк . Назовем лишь приблизительную тематику :
-
- отношение к труду , собственности , богатству , бедности ;
-
- понимание природы права и обычая ;
-
- образ природы и ее познание , способы воздействия на нее ;
-
- понимание места человека в структуре мироздания ;
-
- оценка возрастов жизни ( в частности детства и старости );
-
- восприятие смерти ;
-
- отношение к женщине , роль брака и семьи , сексуальная мораль и практика ;
-
- отношение мира земного и трансцендентного ;
-
- трактовка пространства и времени ;
-
- соотношение культуры элиты с фольклорной культурой ;
-
- формы религиозности , присущие « верхам » и « низам »;
-
- социальные фобии , коллективные психозы ;
-
- история праздников и обычаев ;
-
- способы самосознания личности .
Перечень этот остаётся открытым и постоянно пополняется новыми темами. При всем разнообразии тем он имеет «ось» – проблему человеческой личности, структурируемой в соответствии с типом культуры [Гуревич, 1993б, с. 27]. Именно поэтому современное исследование ментальностей предстает в качестве культурно-исторической антропологии, которая выражает, по мнению А.Я. Гуревича, сущность новой парадигмы, новой ориентации всего гуманитарного исследования, не только исторического, но и искусствознания, социологии, самых разных социальных наук [Гуревич, 2000, с. 137].
Таким образом , постановка вопроса о системе социально - культурных представлений того или иного общества , иначе , о его картине мира , и есть центральная задача истории ментальностей . Согласно А . Я . Гуревичу , ментальности – это социально - психологические установки , автоматизмы и привычки сознания , способы видения мира , представления людей , принадлежащих к той или иной социально - культурной общности . « В то время как всякого рода теории , доктрины и идеологи ческие конструкции организованы в законченные и продуманные системы , ментальности диффуз - ны , разлиты в культуре и обыденном сознании » [ Гуревич . 1989 а , с . 75]. В его представлении , мен талитет – это живая , изменчивая и при всем том поразительно устойчивая константа , « магма жиз ненных установок и моделей поведения , эмоций и настроений , которая опирается на глубинные зоны , присущие данному обществу и культурной традиции » [ Гуревич . 1989, с . 456]. Вслед за фран цузскими коллегами А . Я . Гуревич не согласен с тем , что нечеткое определение понятия « ментали тет » является его слабостью . Есть вещи , которые объективно существуют , но которые трудно четко определить . Неочерченность поля значений , охватываемых понятием « менталитет », по его мне нию , свидетельствует о том , что это явление не осознавалось полностью самими людьми . Именно поэтому mentalité оказывается неодолимой силой , не подвластной контролю нашего сознания .
В рамках истории ментальностей в работах Гуревича находит продолжение изучение культу ры « безмолвствующего большинства » в Средние века [ Гуревич , 1990]. У этого ученого , « пылко любящего М . Блока и сдержанно уважающего Л . Февра , выработалась убежденность , что реаль ность исторического процесса состоит в повседневной жизни подавляющего числа индивидов . И правду о средневековье , по его мнению , следует высматривать не в культуре « высоколобых », а не вежественной , непричесанной массы прихожан , преимущественно мужицкой массы » [ Баткин , 1994, с . 21]. В связи с этим появилась необходимость по - новому взглянуть на источниковедческую базу , прибегнув к сравнению источников как « высших », так и « низших » жанров . Это расширило кругозор историков , проблематика исследований их изменилась в результате изучения новых ис точников , ранее не представлявшихся интересными .
Эти поистине революционные преобразования А . Я . Гуревич сравнивает с « лесным пожа ром », который его « обжёг », заставив окунуться в эту интереснейшую работу . « Задача состояла в том , чтобы открыть эту Атлантиду культуры , которая была потоплена усилиями средневековых богословов , церковных деятелей , с одной стороны , и историков XIX–XX веков – с другой , попы таться разыскать хотя бы контуры этой Атлантиды … Это не миф , а реально существовавшая в ис тории культура , и следовало реконструировать хотя бы какие - то стороны этого потопленного ми - ровиденья » [ Гуревич , 2004, с . 224].
Новое видение науки не было простым подражанием подходам французских историков . Ведь представители школы Блока , Февра , Броделя , а также те , кто шёл за ними : Ле Гофф , Дюби , Леруа Ладюри и др . – были и остаются романоцентричными . Мир за пределами романоязычных стран ( Франции , Италии , Испании , Каталонии ) оставался за рамками их исследований . А . Я . Гуревич же открыл иную перспективу , увлекшись скандинавской проблематикой . Ему удалось выявить в Скандинавском регионе такие пласты средневековой культуры , которые в христианизованных и романизованных странах были подавлены , к примеру , господством латинского языка , засильем теологической мысли , которые более успешно , чем на Севере , искореняли пережитки прошлого . Таким образом , включение А . Я . Гуревичем северного региона в круг научных исследований дало новый импульс разностороннему изучению ментальности средневекового мира .
Вопрос о взаимоотношениях культуры « верхов » и культуры « низов » непременно связывает ся с проблемой носителей менталитета . А . Я . Гуревич полагает , что следует признать наличие как некоего ментального фонда , так и ментальностей , присущих разным группам и классам общества , поэтому возможны самые разные уровни исследования ментальностей . « Ментальность одновре менно обща для всего общества … и дифференцируется в зависимости от его социально - классовой и сословной структуры , от уровня образования и принадлежности к группам , имеющим доступ к книге и образованию и живущим в ситуации господства устной культуры , от половозрастных и региональных различий » [ Гуревич , 1993 б , с . 21]. Поэтому историки говорят не о « ментальности », а о « ментальностях ». Констатируя таким образом то , что в сознании каждого человека можно обна ружить разные пласты . А . Я . Гуревич поставил проблему многослойности человеческого сознания .
Есть еще одна проблема , навеянная трудами ученых французской школы , представляющаяся интересной А . Я . Гуревичу . Это ментальность историка ментальности . Поскольку работы , которые пишутся в настоящее время , становятся источниками для будущих исследователей , важно оста ваться в социально - политической атмосфере современности независимым исследователем , подчи няясь лишь « логике развития исторического знания » [ Гуревич , 1993 в , с . 199].
Итак , исследования А . Я . Гуревича в области истории ментальностей определили те идеи и направления , развитие которых создаёт базу исторической антропологии как направления познания социокультурной истории человечества . Не будет преувеличением сказать , что для многих пред ставителей социально - гуманитарного знания России « антропологический поворот », о котором сей час много говорят , связывается с именем А . Я . Гуревича . Тот научный потенциал , который содер жится в его многочисленных работах , предоставляет возможность молодым учёным - гуманитариям внести и свой вклад в познание человека как культурно - исторической личности .
Список литературы А. Я. Гуревич и история ментальностей
- Автономова Н.С., Караулов Ю.Н., Муравьёв Ю.А. Культура, история, память: о некоторых тенденциях новейшей французской историко-методологической мысли//Вопросы философии, 1988. № 3.
- Баткин Л.М. О том, как Гуревич возделывал свой аллод//Одиссей. Человек в истории. М., 1994.
- А. Гуревич. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.; СПб., 1999.
- Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М. 1993.
- Гуревич А.Я. История в человеческом измерении (размышления медиевиста)//НЛО. 2005. № 75. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/gu4.html (дата обращения: 31.01. 2014).
- Гуревич А.Я. История культуры: бесчисленные потери и упущенные возможности//Одиссей. Человек в истории. М., 2000.
- Гуревич А.Я. История историка. М., 2004.
- Гуревич А.Я. Ментальность//50/50. Опыт словаря нового мышления/под ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М., 1989.
- Гуревич А.Я. Ментальность как пласт социальной целостности//Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993а.
- Гуревич А.Я. От истории ментальностей к историческому синтезу//Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993б.
- Гуревич А.Я. Логика политики или логика познания?//Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993в.
- Гуревич А.Я. Подводя итоги//Одиссей. Человек в истории. М, 2000.
- Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историографии//Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М., 1989. Вып. 1.
- Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
- Ле Гофф Ж. С небес на землю//Одиссей. Человек в истории. М., 1991.
- Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993.
- Le Goff J. Les mentalites. Une histoire ambigue//Faire de l'histoire: nouveaux problemes. Paris, 1974.