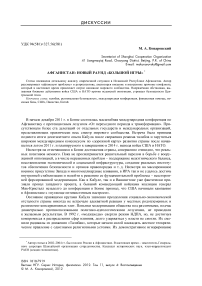Афганистан: новый раунд «большой игры»
Автор: Конаровский Михаил Алексеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена детальному анализу современной ситуации в Исламской Республике Афганистан. Автор рассматривает «афганскую проблему» в ретроспективе, анализируя внешние и внутренние причины конфликта, который в настоящее время привлекает острое внимание мирового сообщества. Напряжённая обстановка, вызванная боевыми действиями войск США и НАТО против исламской оппозиции, угрожает безопасности Центральной Азии.
Талибан, региональная безопасность, международная конференция, финансовая помощь, военные базы, сша, пакистан, китай
Короткий адрес: https://sciup.org/14737805
IDR: 14737805 | УДК: 94(581)+327.56(581)
Текст научной статьи Афганистан: новый раунд «большой игры»
В начале декабря 2011 г. в Бонне состоялась масштабная международная конференция по Афганистану с претенциозным лозунгом «От переходного периода к трансформации». Присутствовали более ста делегаций от отдельных государств и международных организаций, представляющих практически весь спектр мирового сообщества. Встреча была призвана подвести итоги десятилетнего опыта Кабула после свержения режима талибов и заручиться широким международным консенсусом по «дорожной карте» развития страны после начавшегося летом 2011 г. и планируемого к завершению в 2014 г. вывода войск США и НАТО.
Несмотря на отмечавшиеся в Бонне достижения страны, совершенно очевидно, что реальных позитивов немного. Пока не просматривается решительный перелом в борьбе с вооруженной оппозицией, а в числе нерешенных проблем – поддержание межэтнического баланса, восстановление экономической и социальной инфраструктуры, создание реальных институтов обеспечения безопасности и органов правопорядка и т. д. Несмотря на массированное военное присутствие Запада и многомиллиардные вливания, в ИРА так и не удалось достичь внутренней стабилизации и подойти к решению ее фундаментальной проблемы – всесторонней форсированной модернизации. Как в Кабуле, так и в Вашингтоне уже фактически признали провал западного проекта, а бывший командующий войсками коалиции генерал Мак-Кристалл незадолго до конференции в Бонне признал, что США начинали кампанию в Афганистане с «пугающе оптимистичным настроем».
Осознание правящими кругами Кабула значения преодоления социально-экономической отсталости страны никогда не встречало адекватной реакции у местных родоплеменных и религиозно-консервативных элит. Попытки модернизации общества под различными, подчас диаметрально противоположными политико-идеологическими лозунгами, не приводили к желаемым результатам. В 1992 г. «моджахеды» свергли режим НДПА, но, не достигнув компромисса в распределении сфер влияния, долго удержаться у власти не смогли. Их сменили радикалы из движения «Талибан», которые начали силой насаждать жесткое теократическое правление с одиозными религиозными устоями. Их демонстративное игнорирование элементарных основ современного хозяйствования довело экономическую и социальную структуру страны до окончательного развала. Одновременно открылись шлюзы для закрепления баз международного терроризма и экстремистских религиозно-политических группировок.
Развитие ситуации после свержения режима талибов в 2001 г. во многом напоминает сценарии развития событий в Афганистане 80-х гг. прошлого столетия. При этом многие параллели в «афганской» стратегии и тактике Москвы и Вашингтона свидетельствуют об объективных лимитах ресурсной базы внешнего воздействия на обстановку в Афганистане и внутреннюю логику ее развития.
-
1. Параллелизм действий СССР и США в Афганистане просматривался, прежде всего, в самом факте ввода иностранных вооруженных сил. Целью первого – в 1979 г., и второго – в 2001 г., было избавление Кабула от «плохого» режима и замена его на «хороший». Он, как предполагалось, должен был в наибольшей степени отвечать интересам населения (правда, задача СССР заключалась не в кардинальной смене режима, а в его «корректировке» путем осуществления внутреннего переворота, тогда как в 2001 г. речь шла о кардинальной смене власти). В том и другом случае имелось в виду, что после быстрого разгрома оплота «плохих ребят» иностранные воинские контингенты в стране долго не задержатся. Однако вскоре оказалось, что талибы (как в свое время и «моджахеды») не только не исчезли, но и начали активно восстанавливать свои военно-политические позиции. Эйфория «освободителей» вскоре сменилась недоумением, а впоследствии удивлением с оттенком некоторого раздражения.
-
2. После введения войск США и Международных сил содействия безопасности (МССБ), население Афганистана внешне достаточно толерантно, но без особого энтузиазма воспринимало новую реальность. На общественных настроениях сказывалась усталость длительного периода нестабильности и резких колебаний политических и идеологических конъюнктур. Однако уже через некоторое время перегруппировавшиеся талибы начали активно навязывать тезис «джихада против неверных» и «иностранных оккупантов», не гнушаясь при этом и методами более радикального убеждения соотечественников. Пропаганда находила все более широкую поддержку, поскольку в ее идеологической и психологической основе лежала все та же неприемлемость для населения пребывания в стране чужого «человека с ружьем». Аллергия на многочисленных зарубежных советников во всех сферах государственной деятельности усугублялась отсутствием прогресса на экономическом фронте, неразберихой в распределении внешней помощи, недобросовестной конкуренцией за «лакомые куски» бюджетных и донорских средств, некомпетентностью должностных лиц, коррупцией на всех этажах власти и т. д. Отчасти схожая картина наблюдалась и в период десятилетнего пребывания в Афганистане советских войск.
-
3. Актуальной задачей СССР, наряду с проведением совместных с афганской армией операций по «зачистке духов» (т. е. «моджахедов»), было создание провинциальных административно-управленческих «ядер». Гражданские советники разрабатывали принципы партийного строительства, реорганизовывали системы просвещения и здравоохранения, активно осваивая безвозмездную помощь СССР, поддерживая в целом нормальное функционирование основных объектов экономики. Однако влияние «моджахедов» не только не ослабевало, но и постоянно росло. Их главный тезис оставался прежним – неприемлемость «антинародного режима» НДПА, который держался на штыках «неверных» иностранцев.
-
4. Важнейшая задача иностранного военного присутствия в Афганистане после свержения талибов, как и в период НДПА, заключалась в формировании национальных вооруженных сил. Американцы приступили к этой работе почти сразу после формирования Временной администрации страны. Не менее энергично в свое время действовали на этом фронте и советские военные представители. Однако ни те, ни другие не сумели создать афганскую армию, способную противостоять вооруженным «моджахедам», а сегодня талибам. Главная
проблема периода пребывания в Афганистане советских войск, которая сохраняется и поныне, – это массовое дезертирство и переход правительственных военнослужащих на сторону противников режима. Такое положение приводило к тому, что советский воинский контингент все чаще был вынужден брать на себя основную тяжесть боевых операций против «моджахедов». То же самое происходило и с войсками НАТО. При этом численность западного контингента в Афганистане к осени 2011 г. достигала почти 150 тыс. военнослужащих (то ли по иронии, то ли по злому року, почти такое же количество в свое время насчитывалось и в составе ОКСВ).
-
5. В 1986 г. Москва и Кабул пришли к выводу о необходимости выработки новой политической линии в отношении «моджахедов». Это было особо актуальным в период, когда вопрос о выводе советских войск был практически предрешен. Для придания этому курсу легитимности НДПА прибегла к созыву общенационального совета племенных старейшин – Лойа Джирги, которая и одобрила политику «национального примирения». В результате активного лоббирования правительства, во властные структуры были привлечены некоторые представители старой элиты, духовенства, а также интеллигенции. Личная репутация многих была достаточно высокой, однако их реальные возможности влиять на расстановку военнополитических сил оставались весьма ограниченными. Политика «национального примирения» не достигла своей цели. Лидеры «моджахедов» единодушно отвергли любые сделки с правительством.
-
6. Помимо схожести, в действиях СССР в Афганистане в 80-х гг. и США – в 2000-х гг. можно проследить и существенные различия. Ввод в Афганистан иностранных войск в 2001 г. происходил в совершенно иных, кардинально изменившихся в результате распада Советского Союза условиях международных отношений, что сыграло «на позитив». Тезисы Вашингтона о международной террористической угрозе из Афганистана, находившегося под жестким теократическим режимом талибов, сразу получили политическую и психологическую поддержку мирового сообщества. На фоне реальных опасений в связи с ростом терроризма как средства политического давления на правительства, афганская миссия международных сил привела к формированию широкой внешней коалиции. Силовой операции США и Запада был обеспечен позитивный международный контекст, а МССБ получили мандат ООН. У Советского Союза такого мандата не было. Однако на существо вопроса – неприемлемость для населения Афганистана длительного пребывания в стране любых иностранных воинских контингентов, это не повлияло ранее и не влияет сегодня.
-
7. Свержение в 1979 г. режима Х. Амина дополнительно укрепило просоветскую составляющую режима Кабула, что не встретило поддержки на международной арене. Как следствие иностранной военной кампании в Афганистане начала XXI в., власть в Кабуле перешла
к прозападному правительству, которое в своей значительной части сформировалось из так называемых «американских афганцев». В отличие от событий весны 1978 и зимы 1979 г., когда власть в стране перешла к НДПА, а затем была закреплена просоветски настроенными элементами общества, свержение талибов в 2001 г. не вызвало отторжения в мировом сообществе – их режим вызывал в мире практически повсеместную аллергию. По существу же, ни один из двух режимов, несмотря на принципиальные различия в их политической и экономической составляющей, а также, несмотря на внушительные масштабы внешней поддержки, не смогли обеспечить себе солидарность со стороны большинства населения.
Коалиционные силы МССБ тоже активно взялись за реализацию идеи так называемых «провинциальных восстановительных команд». Цель была аналогичной: создание дееспособных местных органов управления для обеспечения безопасности и предпосылок для экономического и социального развития. Но так же, как схема не работала при режиме НДПА, так она фактически не работала и при американцах.
Над идеей «политического примирения» Кабул и Вашингтон начали задумываться уже вскоре после свержения талибов и ввода в страну иностранных войск в 2001 г. Со временем эта стратегия начала приобретать все более отчетливые контуры. Цель состояла в отделении от талибов наименее одиозных элементов или случайных попутчиков и дозированным вовлечением последних во властные структуры. Традиционная Лойа Джирга также придала правомочность этому проекту, и летом 2010 г. был запущен «кабульский процесс», предполагающий в том числе постепенную передачу национальным органам власти ответственности за ключевые сферы жизни страны, включая ее безопасность и социально-экономическое развитие. Осуществить это тем не менее будет чрезвычайно сложно. Реакция талибов на решение США и НАТО о выводе войск была аналогична той, которую в свое время проявили «моджахеды» в отношении решения Москвы о выводе ОКСВ. В обоих случаях логика противников Кабула была идентичной – после вывода иностранных войск «антинародное» правительство непременно падет или, по меньшей мере, крайне ослабнет, что откроет для оппозиции новые «окна возможностей».
В 1992 г. так и произошло с режимом Наджибуллы: Кабул полностью лишился военнополитической и экономической поддержки единственного союзника, остался в полной международной изоляции и один на один с «моджахедами». На аналогичный для себя вариант сегодня рассчитывают и талибы, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Такая же картина наблюдалась и в среде «моджахедов» образца 80-х гг.: нередко жестко конфликтуя друг с другом, они были едины в подходе к вопросу о выводе ОКСВ...
Наиболее актуальным вопросом для Афганистана и региона в ближайшей перспективе будет направленность развития ситуации после начавшегося в середине 2011 г. вывода войск США и НАТО. Совершенно очевидно, что внешняя обстановка несравнимо более благоприятна для нынешнего Кабула, чем для Кабула конца 80-х гг. Положение нынешней центральной власти серьезно отличается от того, в котором находилось последнее правительство НДПА. Сегодня страна не только не изолирована на мировой арене, но, наоборот, пользуется полным международным признанием и устойчивой внешней поддержкой. Если раньше внешнюю канву афганской проблемы определяло советско-американское противостояние, то сегодня ее во все большей мере определяет многополярность. Особенностью нынешней ситуации является и более весомое место самого Афганистана в структуре региональных международных отношений, чем это было в конце прошлого столетия.
С другой стороны, современные тенденции многополярности предопределяют и значительно большую уязвимость общей обстановки в Центрально-Азиатском регионе и за его пределами. Одна из основных тенденций – расширившаяся география региональных «игроков» на афганском поле с собственными интересами и влиянием. Кроме того, тлеющие очаги нестабильности в Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, а в последнее время и в Казахстане уже сейчас активно подпитываются за счет деятельности не только талибов, но и таких ориентированных на свержение режимов партий, как «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) и «Хизб ут-тахрир». Нынешняя обстановка в ИРА оказывает дестабилизирующее воздействие на Пакистан, чего ранее не было. Ситуация усугубляется и тем, что сегодня Афганистан превратился в основной мировой центр производства героина (этого также не было в 80-х гг.), что уже несет собой угрозу международному миру и стабильности.
Правительство Х. Карзая, в отличие от «позднего Наджибуллы», не останется один на один со своими противниками. Большинство государств, и, прежде всего, непосредственные соседи Афганистана, никак не заинтересованы в этом. Объединительным фактором будет их общая заинтересованность в стабильности страны и настороженность возможностью ее резкой радикализации. Поэтому региональные игроки будут мириться с преимущественным сохранением здесь в течение неопределенного времени американского и натовского присутствия: в нынешних условиях вряд ли кто-либо другой в состоянии (да и захочет ли) взять на себя такую ответственность. Мировое сообщество и далее будет вынуждено оказывать Кабулу всемерное содействие, что дает ему возможность при необходимости требовать продолжения и активной силовой поддержки своих действий.
Противоречивые тенденции в Афганистане и вокруг него не смогут не сказаться на перспективах имплементации достигнутого на декабрьской 2011 г. международной встрече в Бонне консенсуса по перспективной «дорожной карте» страны. Уклонение «талибов» от участия в боннской встрече свидетельствовало о намерении сохранять «свободу рук». При этом ликвидация Бен Ладена весной 2011 г. не могла не повлиять на положение дел в среде афганских талибов, лишив их важнейшего политического союзника и финансового донора. А это может привести к большей уступчивости в политическом торге с Кабулом. Вместе с тем, если талибы и пойдут на мировую на зафиксированных в Бонне условиях, то в обмен потребуют от правительства Х. Карзая реального, а не формального вхождения во власть. А это неизбежно будет способствовать дальнейшему укреплению в стране позиций традиционализма и ослаблению влияния секуляристских начал на фоне роста фактора консервативного ислама. Все это, со своей стороны, может привести к постепенному демонтажу многих создававшихся в последнее десятилетие государственных и социальных институтов. Благоприятный внешний фон для такого рода сценария вполне способно обеспечить и нынешнее восхождение на Ближнем Востоке политического ислама под лозунгами «возвращения к корням». Но- вая турбулентность на Ближнем Востоке может подталкивать и к новым рецидивам на почве территориально-национальных размежеваний, в том числе провоцируя аналогичные процессы в северных и северо-западных районах Афганистана.
Форсированное решение экономических проблем – другая важнейшая составляющая налаживания мирного процесса на нынешней стадии развития ИРА. Цена вопроса, как полагают в Кабуле, – десять миллиардов долларов ежегодно в течение десяти лет. Конкретные решения на этот счет должны быть приняты на предполагаемой в июле 2012 г. международной встрече в Токио, однако эта цифра, скорее всего, будет существенно отредактирована. В условиях нынешнего мирового экономического кризиса Кабулу вряд ли стоит рассчитывать на безлимитный открытый банковский счет США и других стран Запада, о чем рефреном также давалось понять в Бонне.
Вашингтон пытается активно учитывать новые внешние факторы в попытках переложить на региональные государства значительную долю ответственности (в том числе финансовой) за дальнейшую судьбу Афганистана. К этому, как американцев, так и западноевропейцев дополнительно подталкивает и сохранение турбулентности на Ближнем Востоке, перефокуси-рование в последнее время внимания США на Восточную и Юго-Восточную Азию, в том числе под предлогом роста региональных военно-политических амбиций Китая. Однако проект «нового шелкового пути», выдвинутый США перед «Бонном-2», вызвал неоднозначную реакцию у ряда влиятельных соседей ИРА (в том числе России, Китая и Ирана), хотя поначалу он приветствовался в некоторых центральноазиатских государствах, в том числе таких членов ШОС, как Казахстан и Таджикистан. В результате, соответствующая формулировка Вашингтона не вошла в текст окончательного документа встречи в Бонне. Политическая хрупкость идеи «нового шелкового пути» проявилась и в бойкоте конференции по Афганистану со стороны Исламабада – одного из ключевых игроков в регионе. Направленность политических процессов в Афганистане в самой значительной степени зависит от линии Пакистана. В условиях блокирования Индией возможности обеспечить региональным амбициям Исламабада «стратегическую глубину» на восточном направлении, он перманентно стремится добиться этого на западных рубежах своей внешней политики, и такой курс будет носить долговременный характер. Нынешнее кризисное состояние американо-пакистанских отношений вряд ли будет способствовать и быстрейшему урегулированию в Афганистане.
Немало вопросов у соседей, в том числе в странах Шанхайской организации сотрудничества, вызывают и планы США обустроить в Афганистане несколько военных баз для подстраховки развития событий после 2014 г. Опыт показывает, что Вашингтон редко придерживается принципа «уходя, уходи». Поэтому и сейчас американцы явно имеют и более широкую повестку дня. США, безусловно, должны выполнить все взятые на себя обязательства в Афганистане, однако не в ущерб интересам других государств и основополагающей роли ООН. На это вполне справедливо особо указывали на конференции в Бонне министры иностранных дел России С. В. Лавров и Китая Ян Цзечи.
Реконфигурация нынешнего иностранного присутствия в Афганистане откроет очередную главу в «Большой игре» на Среднем Востоке, которая продолжается уже третье столетие. Когда и как она будет написана, покажет время. Пока же ясно: вряд ли она будет последней. Политическая игра в Афганистане и вокруг него ждет своего продолжения, становясь при этом все более многоплановой, многоходовой и противоречивой. Именно это, скорее всего, предопределит «умиротворение» в этой стране как достаточно отдаленную перспективу.
Материал поступил в редколлегию 27.12.2011
Mikhail A. Konarovsky
AFGANISTAN: THE NEW ROUND OF THE «BIG GAME»