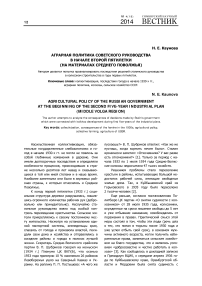Аграрная политика советского руководства в начале второй пятилетки (на материалах Среднего Поволжья)
Автор: Каунова Наталья Евгеньевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.
Бесплатный доступ
Автором делается попытка проанализировать последствия решений сталинского руководства в колхозном строительстве в годы первых пятилеток.
Коллективизация, последствия голода в начале 1930-х гг., аграрная политика, колхозы, сельское хозяйство ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/14113987
IDR: 14113987
Текст научной статьи Аграрная политика советского руководства в начале второй пятилетки (на материалах Среднего Поволжья)
Насильственная коллективизация, обязательные государственные хлебозаготовки и голод в начале 1930-х гг. не могли не повлечь за собой глубинные изменения в деревне. Они имели долгосрочные последствия и определяли особенности процессов, происходивших в стране несколько десятков лет назад и сказывающихся в той или иной степени и в наше время. Наиболее заметными они были в зерновых районах страны, к которым относилось и Среднее Поволжье.
К концу первой пятилетки (1933 г.) социальная структура деревни разрушалась, лишившись огромного количества рабочих рук (добровольно или принудительно). Неслучайно сталинское руководство взяло под особый контроль перемещение крестьянства. Сельские жители прикреплялись к своему постоянному месту жительства. Несмотря на установление единой паспортной системы, земледельцы края, спасаясь от голода и произвола властей, покидали свои дома и хозяйства и отправлялись в соседние районы и города в поисках лучшей жизни. Секретарь Средне-Волжского крайкома партии В. П. Шубриков говорил на июньском (1934 г.) Пленуме ЦК ВКП(б), что осенью 1933 года примерно 10 % населения 26 районов Левобережья ушло на Северный Кавказ и Украину. На реплику П. П. Постышева: «А чего же пускаешь?» В. П. Шубриков ответил: «Как же не пустишь, когда кормить нечем было». Сталин иронически заметил: «Откочевники? У вас разве есть откочевники?» [1]. Только за период с начала 1933 по 1 июля 1934 года Средне-Волжские колхозы недосчитали 47 тысяч хозяйств.
Решением проблемы стало переселение крестьян в районы, испытывающие большой недостаток рабочей силы, имеющие свободные жилые дома. Так, в Куйбышевский край из Горьковского в 1935 году было переселено 2 тысячи человек [2].
Еще раньше, согласно постановлению Политбюро ЦК партии «О снятии судимости с колхозников» от 28 июля 1935 года, колхозники, осужденные на сроки лишения свободы до 5 лет и уже отбывшие наказание, освобождались от поражения в правах. Практический смысл этой меры состоял в том, чтобы эти люди (речь шла о тех, кто попал в тюрьмы после 1930 года и уже успел отбыть свой срок), в основном мужчины активного возраста, могли получить избирательные права, заниматься сельским хозяйством на благо государства, что и являлось условием «добросовестно и честно работать в колхозе» [3]. Как сообщалось в докладной записке в Президиум ВЦИК, к середине апреля 1936 года по Куйбышевскому краю, Оренбургской области и Мордовии была снята судимость с
23 391 крестьянина [4]. Необходимо заметить, что решение об освобождении не касалось тех колхозников, которые продолжали отбывать срок заключения за подобные нарушения, то есть общий контингент заключенных из числа крестьян не сокращался.
Однако для власти оставался важным вопрос колхозного строительства, связанный со спадом коллективизации в ряде республик, краев и областей. Так, в Средне-Волжском крае число хозяйств колхозников сократилось на 43,4 тысячи. Сталин продолжал твердить, что «…колхозный путь, путь социализма является единственно правильным для трудящихся крестьян» [5]. Изменяя тактику, генсек сохранял прежнюю стратегию.
На совещании по коллективизации 2 июля 1934 года речь Сталина не содержала реальных предложений о способах подъема общественного производства колхозов и материального благосостояния колхозников. Он утверждал, что подъем колхозов произойдет в течение двух-трех лет, что рост обобществленных хозяйств, даже в небольшом проценте, был важен политически как способ преодоления колебаний колхозника между колхозом и индивидуальным хозяйством. Генсек считал, что нужно упорядочить размер подсобного хозяйства, которое разрешили вести в колхозах, но наступать надо не на усадьбу колхозника, а на единоличника. Необходимо, полагал он, восстановить преимущества колхозника в области налогов, торговли и во всех остальных сферах экономики сельского хозяйства. Ценность единоличников Сталин видел только с той точки зрения, что они «являются нашими завтрашними колхозниками» [6], поэтому продолжала иметь место политика налогового вытеснения единоличных хозяйств.
Одновременно усилился надзор за статьями дохода, были ужесточены санкции против невыполнения и отказа индивидуальных хозяйств от плана сева, от обязательств по зернопоставкам. Так, в Ульяновском районе секретарь горкома Княжин и председатель горсовета Ларионов одним махом решили укрепить колхозы, ликвидировав «саботаж» единоличников. По их устному распоряжению у единоличников были отобраны лошади [7]. В Дубенском районе Мордовии имело место «массовое изъятие хлеба и имущества у единоличников (бедняков и середняков), выполнивших все обязательства перед государством» [8]. Хотя виновным объявили партвзыскания, однако в большинстве случаев действенных мер против беззакония принято не было.
Известно, что Устав сельскохозяйственной артели 1930 года разрешал колхознику иметь небольшое личное подсобное хозяйство (ЛПХ), но документ не определял его размеры, не гарантировал от посягательств со стороны государства. На Втором съезде колхозников-ударников (февраль 1935 г.) обсуждался проект нового Устава. Хотя созван он был через два месяца после убийства С. М. Кирова и заседал в атмосфере нарастающей напряжённости, в его работе можно отметить целый ряд конструктивных и интересных моментов.
В начале второй пятилетки уже распространилось мнение, что в условиях «победного шествия коллективизации» подсобное хозяйство колхозников не имеет значения, его надо сокращать. Этой точки зрения придерживались многие работники Народного комиссариата земледелия. На такой позиции стоял и Сталин, о чём свидетельствуют его высказывания на совещании в июле 1934 года. При сокращении ЛПХ работники земельных органов использовали несовершенство старого устава, отсутствие в нём чётких указаний о нормах скота, оставляемого в личном хозяйстве колхозника, о размерах приусадебного участка. Однако уже к февралю 1935 года позиция генсека ВКП(б) по вопросу ЛПХ изменилась коренным образом.
На заседаниях Второго съезда колхозников-ударников Сталин не выступал, взяв слово лишь в комиссии по редактированию Устава, где защищал предложение оставить колхознику его «личное хозяйство, небольшое, но личное» [9]. Это решение было для партийного руководителя вынужденным компромиссом, хотя он ни разу не употребил этого слова. Большинство крестьян хотело иметь личное подсобное хозяйство, а кроме того, колхозы были ещё не в состоянии удовлетворить «личные нужды» своих членов, следовательно, речь шла о необходимом соглашении, без которого невозможно было бы добиться «укрепления колхозов».
Делегаты сделали немало поправок, направленных на то, чтобы закрепить в Уставе право колхозника на ЛПХ и четко определить его размеры, количество скота и т. д. Активное обсуждение Устава шло на местах. Так, 22 мая 1935 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) был принят проект Устава по Куйбышевскому краю со следующими поправками в пункте, посвященном размерам личного участка: «В засушливых степных районах размер участка земли колебался от 0,8 до 1 га, в лесостепных районах — от 0,3 до 0,5 га и для третьей части он составлял от 0,25 до 0,4 га» [10].
По рекомендации Сталина формулировка проекта Устава о закреплении за колхозом земли «в бессрочное пользование» была дополнена словами «то есть навечно», что имело большое пропагандистское значение, в том числе и для единоличников при вступлении в колхоз. Условия приема в коллективные хозяйства были значительно облегчены [11]. В то же время предложения колхозников о включении в Устав пункта, обязывающего правление колхоза заботиться об обеспечении индивидуального скота колхозников кормами, были отклонены, как и впервые поставленные вопросы о некоторых социальных нуждах.
При обсуждении не учитывались и пожелания делегатов записать в Уставе положение о недопустимости районными органами нарушений прав колхозов и колхозников при проведении заготовок, предъявления дополнительных заданий («встречных планов») и др. На съезде никто из рядовых участников не допускал возможности поставить под сомнение принцип «остаточного» обеспечения колхозников после выполнения обязательных поставок, засыпки семенных, фуражных и страховых фондов, создания фонда для государственных закупок и т. д. Только это положение давало возможность выкачивать из деревни в необходимых размерах продукты питания, сырьё для промышленности и денежные средства. Большинству колхозников пришлось свыкнуться с мыслью, что их труд в общественном хозяйстве идет на пользу государству, а их собственное существование в значительной степени зависит от того, что они получат от своего огорода и своей коровы.
И тем не менее колхозники получили известную юридическую гарантию от государства на ведение ЛПХ, размеры которого четко определялись и закреплялись в Уставе. Им разрешалась продажа своей продукции на рынке, была предоставлена «кое-какая демократия» по управлению колхозом, при решении вопроса об исключении из колхоза и т. д.
Негативные последствия испытывало животноводство края, сильно пострадавшее в первые годы коллективизации. На протяжении 1930-х гг. в колхозах отмечался существенный недостаток тягловой силы, особенно это проявлялось во время полевых работ. Эта отрасль хозяйства крайне медленно и с большим трудом выходила из кризиса.
14 августа и 5 ноября 1934 года были приняты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О помощи бескоровным колхозникам в обзаведении коровами». Государство закупало у сов- хозов, МТФ колхозов и единоличников коров и телок и предоставляло их по льготным ценам колхозникам, не имеющим коров. С этой целью им предоставлялся беспроцентный кредит. Ульяновский горком согласно этому решению закупил по линии МТФ 128 телок и путем контрактации у колхозников 1072 теленка. Предоставляемый кредит властями исчислялся в размере 20 тысяч рублей [12]. Несмотря на действующую уголовную санкцию за забой племенного скота, телок и другого скота, полученного путем государственной помощи, были случаи, когда колхозники, приобретая скотину, не могли прокормить и забивали её либо везли на рынок на продажу, а на вырученные деньги покупали необходимое продовольствие [13].
Ровно через год после реализации постановления «Об обязательных поставках зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами» СНК СССР и ЦК партии приняли постановление «О закупках хлеба потребительской кооперации», которая юридически выглядела как дело добровольное, но не была популярной у земледельцев, имевших чаще всего весьма скромные запасы при низком урожае. Стоимость центнера проданного зерна лишь на 29 % превышала заготовительную, а последняя опускалась ниже всякой себестоимости. Поэтому в ряде случаев на местах власти вновь обратились к испытанным методам нажима на крестьян. В ЦИК и газеты пошли жалобы хлеборобов на произвол и беззаконие. Колхозник из села Ар-каево Сурского района края сообщал в письме правительству страны, что хлеб в колхозе не выдавали до проведения хлебозакупок. Он писал, что работал все 365 дней, да жена 80, итого — 445. На трудодень выдали 1,9 кг хлеба, всего — 845 кг. Семья его состоит из шести человек, на одного приходится 141 кг, в году 365 дней, значит, суточная норма 386 гр., из них гарнцевой сбор 12 %, что составит 45 гр., а в результате остается 341 гр. Письмо заканчивалось фразой: «Сами поживите, товарищи, на этих граммах. И притом, какие последствия будут от голодного колхозника» [14].
Хлебозакупки стали служить новым средством увеличения государственного фонда и приобрели характер очередного обязательства, налагаемого на колхозников. За первые годы существования колхозного строя руководству страны удалось провести «блестящую» операцию по вымогательству сельхозпродукции, покупая ее по низким ценам, едва покрывавшим себестоимость. Она происходила в прежней атмосфере произвола. Ее лицемерно осуждали верхи, но она прак- тически не менялась на местах во время реализации государственных обязательств.
Как и в предыдущие годы, хлебозаготовительные и хлебозакупочные планы оказывались нередко завышенными, после их выполнения местные власти тут же обращались в Москву с просьбой предоставления помощи колхозам края. Надо отметить, что государственная помощь, которая все же предоставлялась, на деле являлась лишь возвратом небольшой части продукции сверх того, что у колхозов забирали, поскольку эта помощь бралась из хлебосдачи тех же, кому помогали.
«Насадив» колхозы, сталинская власть своей цели добилась. В результате ежегодных заготовок, которые проводились всякий раз как боевые операции, партийно-государственное руководство получало максимально возможное количество сельскохозяйственных продуктов. Но добилась ли власть решения продовольственной проблемы? Как показывает дальнейшая история советского строя, нет. Несмотря на некоторые мероприятия правительства, направленные на исправление ситуации в деревне в начале 1930-х гг., дальнейшие события подтвердили, что государство было не намерено изменять своих основ аграрной политики, даже идя на компромисс с хлеборобом. В основе его лежало личное подсобное хозяйство, которое при низкой выплате на трудодни от общественного хозяйства являлось главным источником существования для колхозника, а тем более единоличника.
Закрепив за колхозниками право на ведение личного хозяйства, партийно-государственное руководство столкнулось с повсеместным крестьянским желанием расширить экономические возможности ЛПХ. Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) П. Постышев отмечал в 1937 году, что «в ряде районов области из года в год допускались извращения, выражающиеся в расширении приусадебных посевов колхозников против норм, которые установлены Уставом сельхозартели» [15]. Труженики села начали распахивать под огороды колхозные земли, увеличивали в своих хозяйствах поголовье скота, в ущерб интересам колхозного производства старались больше работать в ЛПХ. Поэтому советское правительство на протяжении своего существования не смогло добиться от земледельцев более производительного труда в колхозном хозяйстве, чем на крестьянском дворе.
Личные хозяйства становились основным источником существования земледельца. В колхозно-совхозной системе производимая продукция шла на госзаготовки, натуроплату за работу
МТС, контрактацию, госзакупки, то есть государство забирало почти всё подчистую. Поэтому крестьяне больше заботились о своем хозяйстве, в котором продукты в основном предназначались для базарной торговли и собственного потребления.
Как показывают статистические данные, роль ЛПХ возрастала от пятилетки к пятилетке. Так, с 1934 по 1941 год количество коров у колхозников увеличилось до 6,5 млн голов, а в колхозах и совхозах страны оставалось лишь 2,3 млн [16]. Несмотря на создание социалистической аграрной системы, параллельно функционировало не менее значимое в экономическом плане приусадебное хозяйство крестьян, которое успешно конкурировало с государственной формой.
В 1950 году в Куйбышевской области в общей валовой продукции животноводства доля приусадебного производства колхозников составила 68,8 %, показатели молока и яиц были еще выше и равнялись 78,6 и 88,4 % [17]. В производстве зерновых и технических культур господствовал колхозно-совхозный сектор. В дальнейшем при усилении ограничительной политики в области приусадебного хозяйства наблюдалось сокращение доли производства личных хозяйств. В Куйбышевской области ЛПХ уже в 1966 году дали 39,2 % всего производства мяса, 36,5 % молока и 55,5 % яиц [18]. Итак, хозяйства крестьянских дворов наряду с колхозами и совхозами являлись основными аграрными производителями. Однако постепенно они утрачивали эту роль.
Партийно-государственное руководство боялось потерять своего «раба», поэтому исправляло положение не путем дополнительного финансирования сельского хозяйства, увеличения закупочных цен, снижения объемов заготовок и повышения материальной заинтересованности, а шло проторенной дорогой административного ограничения крестьянского хозяйства, ставшего для него основной возможностью хоть как-то выжить.
Однако заставить народ работать власть так и не смогла. Даже пережив коллективизацию, когда почти 40 % выросшего зерна осталось на полях, деревня не изменила своего отношения к работе на государство. Почти все годы сталинского правления она существовала на грани голода, да и позже, при Н. С. Хрущеве и Л. И. Брежневе, сельские жители считались людьми «второго сорта», которым доставалось то, что осталось после поборов государства. У них то отбирали коров в колхозное стадо, то раздавали их обратно, то опять отбирали, то задумывали сселять в «агрогорода», то укрупняли колхозы, то измельчали. Одним постановлением колхоз мог быть превращен в совхоз и наоборот. В настоящее время о жизни крестьян в 1930—1970-е гг. знают по классическим произведениям В. Тендрякова, В. Гроссмана, Ф. Абрамова, В. Белова, А. Рыбакова, В. Чистякова, В. Распутина.
«Урок», данный властью в первой пятилетке, для большинства крестьян оказался недостаточно поучительным, соответственно, и руководство не получило должного опыта. Продовольственная проблема так и не будет решена, поскольку колхозы не смогли обеспечить крестьян жизнью, достойной их труда, а советская власть сохранила к ним чисто потребительский подход как к источнику сырья и продовольствия для города и промышленности. Так было в начале существования режима, так будет и в последующий период.
Введя новое, по сути, крепостничество в деревне, сталинская власть инициировала катастрофическое отчуждение крестьян-колхозников от процесса и результатов своего труда. Непосредственные результаты этого отчуждения можно наблюдать и по сей день.
-
1. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Док. и материалы : в 5 т. Т. 4. 1934—1936 / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М. : РОССПЭН, 2002. С. 166.
-
2. Там же. С. 606.
-
3. Там же. С. 553.
-
4. Там же. С. 741.
-
5. Сталин И. В. Соч. : в 16 т. Т. 13. Июль 1930 — январь 1934. М. : Госполитиздат, 1955. С. 245.
-
6. Трагедия советской деревни… Т. 4. С. 186—192.
-
7. Государственный архив Ульяновской области. Ф. 634. Оп. 1. Д. 693. Л. 2—15.
-
8. Общество и власть, 1930-е годы: повествование в документах / отв. ред. А. К. Соколов ; сост. С. В. Журавлев и др. М. : РОССПЭН, 1998. С. 128.
-
9. Трагедия советской деревни… Т. 4. С. 391.
-
10. Там же. С. 504.
-
11. История советского крестьянства : в 5 т. Т. 2. Советское крестьянство в период социалистической реконструкции народного хозяйства, конец 1927 — 1937 / И. Е. Зеленин, Н. А. Ивницкий, Ф. А. Каревский и др. ; редкол. И. Е. Зеленин (отв. ред.) и др. М. : Наука, 1986. С. 334.
-
12. Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (далее — ГАНИУО). Ф. 13. Оп. 1. Д. 1131. Л. 85—86.
-
13. Трагедия советской деревни… Т. 4. С. 902—903.
-
14. Там же. С. 280—281.
-
15. ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1465. Л. 57.
-
16. Суслов И. Ф. Экономические проблемы развития колхозов. М. : Экономика, 1967. С. 185.
-
17. Народное хозяйство Куйбышевской области за 50 лет : стат. сб. Куйбышев, 1967. С. 83.
-
18. Там же. С. 83.
Список литературы Аграрная политика советского руководства в начале второй пятилетки (на материалах Среднего Поволжья)
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Док. и материалы: в 5 т. Т. 4. 1934-1936/под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М.: РОССПЭН, 2002. С. 166.
- Сталин И. В. Соч.: в 16 т. Т. 13. Июль 1930 -январь 1934. М.: Госполитиздат, 1955. С. 245.
- Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 186-192.
- Государственный архив Ульяновской области. Ф. 634. Оп. 1. Д. 693. Л. 2-15.
- Общество и власть, 1930-е годы: повествование в документах/отв. ред. А. К. Соколов; сост. С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1998. С. 128.
- Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 391.
- История советского крестьянства: в 5 т. Т. 2. Советское крестьянство в период социалистической реконструкции народного хозяйства, конец 1927 -1937/И. Е. Зеленин, Н. А. Ивницкий, Ф. А. Каревский и др.; редкол. И. Е. Зеленин (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1986. С. 334.
- Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (далее -ГАНИУО). Ф. 13. Оп. 1. Д. 1131. Л. 85-86.
- Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 902-903.
- ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1465. Л. 57.
- Суслов И Ф. Экономические проблемы развития колхозов. М.: Экономика, 1967. С. 185.
- Народное хозяйство Куйбышевской области за 50 лет: стат. сб. Куйбышев, 1967. С. 83.