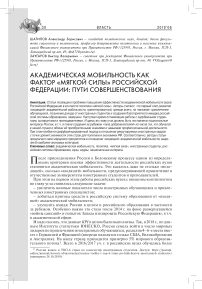Академическая мобильность как фактор "мягкой силы" Российской Федерации: пути совершенствования
Автор: Шатилов Александр Борисович, Заугаров Виктор Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме повышения эффективности академической мобильности вузов Российской Федерации в контексте политики «мягкой силы». Авторы считают, что первый этап развития «входящей» академической мобильности, ориентированный, прежде всего, на «валовое» привлечение обучающихся, получение дохода от иностранных студентов и создание благоприятного имиджа российской системы образования, завершен. Наступает время оптимизации работы с зарубежными студентами, аспирантами и преподавателями. И здесь во главу угла должны быть поставлены национальные интересы России, в т.ч. в плане создания за рубежом «пула доброжелателей» из числа тех, кто обучался в нашей стране и обязан ей приобретенными знаниями и навыками профессиональной деятельности. При этом требуется дифференцированный подход в отношении рекрутируемых иностранных кадров с точки зрения значимости этих стран для политики и экономики РФ. Соответственно, авторы статьи предлагают свою иерархию приоритетов в отношении «входящей» академической мобильности, выделяя 6 наиболее значимых категорий.
Академическая мобильность, политика, "мягкая сила", иностранные студенты, российская система образования, вузы, кадры, национальные интересы
Короткий адрес: https://sciup.org/170171061
IDR: 170171061 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6812
Текст научной статьи Академическая мобильность как фактор "мягкой силы" Российской Федерации: пути совершенствования
П осле присоединения России к Болонскому процессу одним из определяющих критериев оценки эффективности деятельности российских вузов становится академическая мобильность. Это касалось даже не столько «исходящей», сколько «входящей» мобильности, предусматривающей привлечение в отечественные университеты иностранных студентов и преподавателей.
При этом на первом этапе работы российских вузов с внешним контингентом во главу угла ставились следующие задачи:
– увеличить валовые показатели числа иностранных обучающихся и привлеченных иностранных специалистов;
– добиться притока средств в российскую систему образования от «входящей» академической мобильности;
– улучшить имидж России в целом и российского образования в частности за рубежом. Особенно важно это стало после 2014 г. на фоне развернувшейся «войны санкций» и попыток Запада изолировать Российскую Федерацию, в т.ч. в академической сфере.
И надо сказать, что данные KPI в целом были выполнены. Так, в 2018 г., по данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия сумела войти в число мировых лидеров по привлечению иностранных обучающихся, разделив 4–6-е места вместе с Германией и Францией (впереди находятся только США, Великобритания и Австралия). На нашу страну приходится примерно 5% мирового образова тельного п отока1. Всего в 2016/2017 уч. г. в российских вузах обучались более
300 тыс. иностранцев, в 2018 г. их доля несколько снизилась1. Однако в 2019 г. интерес к российскому образованию в мире вновь вырос – отечественные вузы приняли почти 115 тыс. международных абитуриентов2. При этом руководство страны на перспективу поставило еще более высокую планку: к 2025 г. планируется увеличить число иностранцев, обучающихся по очной форме в российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО), до 710 тыс.3
Финансовые показатели также оказались благоприятными. В 2016 г. доход от обучения студентов-иностранцев составлял порядка 500 млн долл. [Костюков 2016: 55]. При этом государственной приоритетной программой «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» предусмотрен рост доходов от обучения иностранных студентов почти до 400 млрд руб., или более чем 6 млрд долл. США4. Тем не менее в плане финансовой эффективности использования академической мобильности Россия явно проигрывает своим конкурентам. Для сравнения возьмем США и РФ. Если американцы, контролирующие примерно 12% мирового рынка образовательных услуг, получили с этого вида деятельности в 2016 г. примерно 1/3 глобальных «академических» доходов, то Россия, на долю которой приходилось 4,5% рынка, – только 0,7%5.
Наконец, достаточно удачно российские вузы поработали в имиджевом плане. Невзирая на стремление отдельных западных политиков свернуть взаимодействие с Россией по образовательной и научной линии, отечественное академическое сообщество не только сумело нейтрализовать данные попытки, но и расширило ареал партнерства, включив туда целый ряд не «освоенных» ранее государств Азии, Африки и Латинской Америки. Да и на западном направлении сотрудничество только укреплялось, способствуя преодолению антирос-сийских мифов и фобий, распространяемых «сверху» в США и Евросоюзе.
Однако на смену первому, «валовому» и «коммерческому», этапу приходит следующий, который предполагает более четкую и специализированную работу российской стороны с приглашаемыми иностранными учащимися и специалистами. И здесь, прежде всего, необходимо выстроить иерархию приоритетности стран с точки зрения национальных интересов РФ.
Во-первых, такой дифференцированный подход позволит российскому руководству и компетентным структурам сэкономить финансовые и организационные ресурсы при сохранении высокой результативности академической мобильности.
Во-вторых, такого рода приоритеты позволят России более эффективно работать с иностранными студентами, аспирантами и преподавателями в плане создания за рубежом пула «российских доброжелателей».
В-третьих, будет исключен субъективный и коррупционный подход в деле рекрутирования и привлечения в российские вузы иностранного контингента.
При этом надо понимать, что подобная специализация и адресность столкнутся с целым рядом проблем и вызовов:
– с незаинтересованностью чиновников в «целевом» привлечении студен- тов, поскольку это может привести к пересмотру уже наработанных контактов и связей, а в некоторых случаях – и коррупционных практик;
– противодействием со стороны конкурентов России в сфере академической мобильности, прежде всего вузов США, стран Евросоюза, КНР. В частности, можно предположить, что борьба за иностранных студентов постсоветского пространства развернется у России с США и ЕС, а проникновение ее в Африку и Латинскую Америку вызовет недовольство Китая;
– недоверием иностранных студентов стран-«неофитов» в отношении российской образовательной системы, особенно в тех случаях, когда отсутствовал предшествующий опыт академического взаимодействия;
– несовпадением российской и иностранной культуры и менталитета, в т.ч. связанных со спецификой местных клановых и трайбалистских традиций.
Для введения в действие дифференцированного подхода требуется выстраивание иерархии стран с точки зрения их текущей и перспективной пользы для России. Можно предложить следующую систему академической приоритетности зарубежных партнеров.
На первое место по важности, прежде всего в силу геополитических и социокультурных причин, можно поставить государства постсоветского пространства. Справедливости ради надо отметить, что студенты из этих стран и так составляют большинство иностранного контингента в российских вузах, тем не менее имеются два момента, которые требуют дополнительной работы. Так, далеко не все республики бывшего Советского Союза являются активными «пользователями» российской образовательной системы. Причем такого рода индифферентность касается не только Прибалтики, откуда едут в основном представители русскоязычного населения и «неграждане», или «враждебной» Грузии, но и вполне «конструктивных» государств, вроде Казахстана, лучшие абитуриенты которого с подачи местной элиты едут обучаться в основном в западные университеты (в частности, лауреаты международной стипендии «Болашак» [Осинина 2018: 96]), или Азербайджана, который также не слишком активно сотрудничает с Россией по образовательной линии.
Далее по степени приоритетности идут студенты, аспиранты и преподаватели из стран дальнего зарубежья, являющихся стратегическими или историческими партнерами России (Куба, Сирия, Сербия, Вьетнам). Современная политика является чрезвычайно гибкой и динамичной, поэтому весьма важно сохранять влияние на процесс подготовки кадрового резерва в этих государствах и поддерживать высокий уровень доверия в двусторонних отношениях, в т.ч. в сфере академической мобильности.
На третьей позиции находятся иностранцы, прибывающие в отечественные вузы из стран – важнейших торгово-экономических партнеров России. На 2019 г. это были Китай, Нидерланды, Германия, Республика Корея, Турция, Италия, США и Япония1. Их обучение в российских университетах будет способствовать росту взаимопонимания и установлению первичных контактов на среднесрочную перспективу. Другое дело, что с точки зрения политики «мягкой силы» их пребывание и образование в нашей стране может иметь и обратный эффект. В силу гражданской принадлежности к сильным государствам мира практически никто из них не станет искать покровительства у России и мало кто станет нашим искренним «доброжелателем». В то же время, обучаясь в России, они приобретут ценные, а иногда и эксклюзивные знания о политике и бизнесе нашей страны, которые в будущем могут использовать против нас в ходе глобальной политической и экономической конкуренции.
На четвертое место можно поставить академическую мобильность из стран, которые в настоящий момент являются нашими тактическими союзниками в рамках формирования международной «многополярности». Это Индия, Бразилия, Иран, ЮАР, Венесуэла. Здесь требуется активизация работы с местным образовательным сообществом, прежде всего с точки зрения креативного продвижения конкурентных преимуществ отечественной образовательной системы. Так, например, в последние годы резко вырос рынок зарубежных студентов-бразильцев, в 2017 г. он составил 302 тыс. студентов1. При этом на образование за рубежом они потратили 3 млрд долл. Однако в качестве академических ориентиров для них приоритетны Канада, США и Великобритания2. В России же бразильские студенты пока являются достаточно экзотическим явлением. Согласно данным Aliança Russa , который приводит «Российская газета», на сегодняшний день «103 бразильца обучаются в Курском государственном медицинском университете и приблизительно 150 человек в других регионах страны»3.
Вообще надо отметить, что латиноамериканский мир является вполне осваиваемым с точки зрения развития «пророссийской» академической мобильности. Этому способствуют как объективные, так и субъективные обстоятельства. К первым можно отнести относительную дешевизну российских образовательных услуг и имидж России как великой державы, ко вторым – антиамериканизм местного населения и тяготение его к «незападным» ценностям.
На следующей, пятой ступени приводимой академической «иерархии» размещаются обучающиеся из бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы. В силу специфики постсоветского развития этих государств в них предполагался резкий разрыв не только с коммунистическим прошлым, но и Россией как наследницей СССР. Тем не менее возможности для развития образовательной и научной мобильности сохраняются. С одной стороны, это связано с постепенным потеплением отношений между нашей страной и бывшими государствами «народной демократии». Так, например, в соответствии с опросом влиятельной газеты Die Welt (ФРГ) 72% жителей бывшей ГДР выступают за сближение с Россией4, хотя еще относительно недавно восточные немцы были настроены весьма негативно по отношению к нашей стране.
Наконец, шестую группу стран, перспективных с точки зрения привлечения иностранных абитуриентов, составляют ресурсоемкие государства «третьего мира», которые могут представлять интерес для России в экономическом плане. Так, если взять Африку, то тут привлекательными для России являются нефтегазодобывающие (Алжир, Египет, Ливия, Нигерия, Габон), золотодобывающие (ЮАР, Гвинея), алмазодобывающие (Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Намибия и ЮАР) страны, а также страны, богатые «дефицитными» для РФ марганцем (ЮАР, Марокко, Танзания, Заир), ураном (Либерия, Мавритания, Алжир), хромом (ЮАР, Ботсвана). А с учетом стратегического характера лития (активно используется в современной электронике, авиации, космонавтике, ядерной энергетике и др.) России интересны были бы дополнительные контакты с Конго и Ботсваной, а также латиноамериканскими государствами Чили и Боливией.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.
Список литературы Академическая мобильность как фактор "мягкой силы" Российской Федерации: пути совершенствования
- Костюков А.Л. 2016. Особенности экспорта российских образовательных услуг. - История. № 20. С. 51-65
- Осинина Д.Д. 2018. Элитные группы Центральной Азии в большой геополитической "игре" России, КНР и СШАвначале XXI века. М.: Инфра-М. 147 с