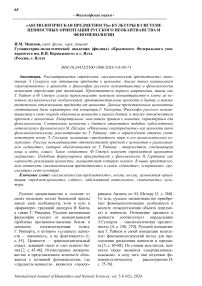«Аксиологическая предметность» культуры в системе ценностных ориентаций русского неокантианства и феноменологии
Автор: Мешков И.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5-6 (92), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается определение «аксиологическая предметность» выведенная Э. Гусерлем как отношение предмета к ценности. Анализ таких взаимосвязей «предметности» и ценности в философии русского неокантианства и феноменологии позволяет определить ряд тенденций. Представители первого направления, такие как Т. Райнов и Ф. Степун сумели переосмыслить немецкое неокантианство в ключе их основных аксиологических особенностей: противопоставление ценности и бытия, а также постепенное отмежевание предмета от ценности. Данные представленные ценностные соотношения были характерны для концепции Г. Риккерта. Философы русского неокантианства в свою очередь обосновали ценность в рамках бытия, а также отождествили предмет с ценностью. Концептуально, мыслители пришли к выводам, характерным для феноменологии. Соотнесение ценности с бытием становится подобно «абсолютному онтологизму» феноменолога М. Шелера. «Идеальные сверхпредметы» как ценности даны феноменологическому рассмотрению по Т. Райнову, что в определённой степени соответствует ноэме Э. Гуссерля, осознанию «предметного мира в его аксиологическом измерении». Русское неокантианство отождествляет предмет с ценностью в реализованном «единстве», которое обеспечивается по Т. Райнову - творчеством, соединяющим вещь и идею, смысл. Такое «единство» Ф. Степун именует «предметной ценностью свершения». Подобная формулировка присутствует у феноменолога Н. Гартмана как «ценность реализации ценности», осуществляет которую человек. В выше представленном контексте «аксиологическая предметность» в своём «единстве», «свершении», «реализации» есть культура.
«аксиологическая предметность», ноэма, ноэзис, ценностная ориентация, «предмет-ценность», «эйдос», «абсолютный онтологизм», «значимость», культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170205724
IDR: 170205724 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-6-68-73
Текст научной статьи «Аксиологическая предметность» культуры в системе ценностных ориентаций русского неокантианства и феноменологии
Русское неокантианство в отличие от своих немецких коллег баденской школы имело свои особенности, хотя и шло в «фарватере» традиций дискурса И. Канта, а также Г. Риккерта. Русская кантианская философия отходит от неокантианской проблемы противопоставления бытия и ценности, соответствующая тезису Г. Риккерта, в котором «сущность ценности – значимость, а не фактичность» [1, с. 55]. Ценности – трансцендентальный смысл, лежащий «над» и «до» всякого бытия [2, с. 45-46]. Отечественное неокантианство в представленном контексте сближается с позицией феноменологии, где «предметы-ценности» являются «неоспо- римым» бытием по М. Шелеру [3, c. 268]. То есть, русское неокантианство приобретает феноменологические особенности в аспекте отождествления объекта (предмета) и ценности. Отношение предмета к ценности соответствует определению Э.Гуссерля – «аксиологическая предметность» [4, с. 240, 270]. Русский неокантианец Т. Райнов в своей концепции использует феноменологический метод для преодоления разделения ценности и предмета [5, с. 65-68]. По словам мыслителя, ценности также являются «сверхиндивидуальными», в силу чего они подлежат феноменологическому рассмотрению [5, с. 75-76].
Исходя из выше приведённых особенностей, русское неокантианство в плане «аксиологической предметности» является «промежуточным звеном» между классическим немецким кантианством баденской школы и феноменологией. В представленном отношении можно взглянуть на ретроспективу концепций баденской школы, выяснить её влияние на русское неокантианство, которое соотносится с феноменологией.
«Аксиологическая предметность», соотношение предмета и ценности в неокантианстве и феноменологии
Русский исследователь баденской школы немецкого неокантианства Л. Столович провёл определённые обобщения относительно соотношения предметов и ценностей в концепции Г. Риккерта, где выделил:
-
- ценности;
-
- ценный предмет или благо культуры;
-
- предмет чуждый ценности, то есть составляющий природу.
Исходя из отношений ценности и предмета, философ определяет «три мира»:
-
- мир ценностей – идеального, или значений, не являющийся «предметностью»;
-
- мир культуры, включающий в себя предметы-блага, имеющие отношения к ценности;
-
- мир природы, состоящий из предметов чуждых ценности [6, с. 415].
Мыслитель считает «первый мир» включающим в себя ценности с отсутствием предметов. «Второй мир» состоит из предметов, связанных с ценностями. «Третий мир» предполагает предметы отдельные от ценностей.
Л. Столович обращает внимание на концепцию Г. Риккерта, где имеет место «отделение», противоположность ценности и предмета, предмета и культуры, а также природы [6, с. 415]. В представленном отношении, по словам Г. Риккерта – трансцендентальная ценность лишь связана с действительностью через блага культуры и оценку как акту субъекта [1, с. 66].
На данную ретроспективу указывает и исследователь С. Силенко, по словам которого Г. Риккерт «отделяет ценность с одной стороны от оценки, а с другой, от блага, тем самым отказывается как от чисто субъективного, так и объективного понимания природы ценности, существовавшего среди его предшественников» [7, с. 15].
В свою очередь, Т. Райнов пытается преодолеть «разделение», и делает он это методологически, с помощью феноменологического метода [5, с. 65-68]. То есть, концепция мыслителя в данном плане феноменологична, где центральным элементом системы ценностных ориентаций становится предмет. Ориентация на «предметность» также сближает концепцию Т. Райнова с феноменологией Э. Гуссерля, М. Шелера и Н. Гартмана.
По мнению Т. Райнова ценность – продукт творчества образующего «единство» предмета. «Единство» – это «сущность» всякой ценности и творчества [5, с. 75-76].
Исходя из позиции мыслителя «всякое проявление сознания имеет две стороны: а) индивидуально-психологический процесс осознания и б) «сверхиндивидуальный» момент ценности: ценности – сверхиндивидуальны. Поэтому они подлежат не психологическому, а феноменологическому рассмотрению, которое «вычитает» из «предмета» явле-ние-феномена, психологический акт, оставляя «объединённую материю сознания» [5, с. 75-76].
Таким образом, с позиции Т. Райнова «предмет-ценность» как объект – является результатом воздействия «процесса осознания» и феноменологического рассмотрения, учитывая «сверхиндивидуальный» характер ценностей. Представленная мыслителем система восприятия в определённой степени соответствует ноэзису как «процессу сознания» по Э. Гуссерлю [4, с. 240, 270]. Очевидно, что любой процесс по Т. Райнову – имеет направленность на «предмет-ценность», «вычитая» из него психологический акт, и оставляя «объединённую материю сознания» [5, с. 75-76]. Данная трактовка согласно исследователю феноменологии К. Свасьяну, подобна концепции Э. Гуссерля, где феномен, не есть предмет, вещь, существующая сама по себе, вне сознания, но «самообнаружение и самополагание вещи в потоке сознатель- ных переживаний» [8, с. 86]. По Э. Гуссерлю ноэзис как процесс сознания не содержит ценностей, но через интенциональность – направленность сознания, порождает ноэму, предметный мир в его аксиологическом измерении [4, с. 240, 168, 270]. Представленная интерпретация «предметов-ценностей» по Т. Райнову схожа с ноэмой, выведенной Э. Гуссерлем.
«Предметы» как объекты, будучи осознанными, подлежат воздействию человека. В данном контексте высказывался другой представитель русского неокантианства Ф. Степун, разделявший «ценности состояния» – это жизнь как таковая, включающая «формы творчества», а также «предметные ценности свершения», они же являются ценностями культуры. Между этими ценностями существует несовместимость, стремление к преодолению которой ведёт к трагедии творчества [9, с. 186-194].
Исходя из высказывания Ф. Степуна, можно сделать вывод, что «предметы-ценности», они же «предметные ценности свершения» – это результат акта субъекта, которым в данном случае является творчество. Творчество – это производная от «ценности состояния», то есть состояния человека. Человек в данной связи, не только осознающий феноменологическим способом субъект, но и непосредственно действующий, творящий. Вместе с тем, по словам мыслителя, отличие жизни и предметных ценностей связано с тем, что человек понимает и предчувствует наличие идеи конечности, определяющей эти предметные ценности, наряду с присущей им, хотя и крайне ограничены присутствующей в каждой из них – идеей бесконечности [10, с. 117-119]. То есть, человек в своей жизни и творчестве осознаёт свою конечность, а также вещей им созданных, но, тем не менее, судя по всему, он пытается достигнуть вечности через религию, увековечить себя в искусстве.
Относительно идеи бесконечности, вечности, подобным образом высказывался и представитель феноменологии М. Шелер, по словам которого, человек «соучаствует в актах непрерывного творения мира и участвует в сопровождении идей и сопро- вождающих вечную любовь ценностей из первоистока самих вещей» [11, с. 61]. Творящая сущность человека говорит о том, что он в его самости – это единственное место становления Бога [11, с. 94].
Обобщая концепции Ф. Степуна и М. Шелера, можно прийти к заключениям относительно творчества, а именно то, что человек в своей деятельности через искусство пытается следовать идеи бесконечности «сопровождая вечную любовь ценностей», и в этой попытке он становится «местом становления Бога».
Следуя концепции Т. Райнова, что ценность – продукт творчества образующего «единство» предмета. «Единство» – это «сущность» всякой ценности и творчества [5, с. 75-76]. Ценность есть «единство», встречается только в предмете и никогда вне его. Предмет предполагает «единство», предмет возникает только благодаря ценности и вместе с нею. «Ценность есть ценность только в предмете, а предмет есть предмет только благодаря ценности». «Совокупность ценностей, как опредмечивающих единств есть культура» [5, с. 75-76]. По мнению мыслителя, существует не только «ценность-предмет» как результат, «продукт творчества» но и идеальная ценность как замысел, воплощаемый в предмете. В данном плане, предмет характеризуется как чувственно-постигаемый, умопостигаемый, идеальный [5, с. 75-76]. То есть, предметы действительности чувственно-постигаемы, а идеальные предметы – умопостигаемы.
Умопостижение идеального предмета, способность через творчество выразить его в чувственно-постигаемом предмете действительности является попыткой отобразить в нём «идею бесконечности».
Выделяя идеальные предметы, концепция Т. Райнова в некоторой степени схожа с позицией М. Шелера, вычленявшего «сверхпредметы». По его мнению, ценности – идеальные предметы, они представляют собой неоспоримое бытие. Ценности объективны на столько, что они «не могут быть созданы или уничтожены» [3, с. 268]. Не смотря на свою идеальность, «сверхпредметы» явлены чувственному созерцанию, они постигаются субъектом через чувствование [3, с. 273]. М. Шелер различал, «имеет ли вещь ценность в себе или только для нас» [3, с. 248]. То есть, ценности воспринимаются им в двух категориях – как замысел, «сверхпредметы» и как результат, относительные «предметы-ценности».
Подобным образом, что и М. Шелер, «аксиологическую предметность» представляет другой видный феноменолог Н. Гартман, который отождествляет ценности по способу бытия с идеями Платона [12, с. 46]. По сути, Н. Гартман в качестве идеальных ценностей предполагал «сверхпредметы», «эйдосы». По мнению философа, ценность имеет качество (определённость), она же является идеальной сущностью, и природу ценности – это содержание или «материя» определённой ценности (отвечая на вопрос, что такое: польза, красота, альтруизм). Делая полезные и красивые вещи, совершая альтруистические поступки, человек сам создаёт природу этих ценностей, но не творит качества ценностей [12, с. 52]. Мыслитель утверждал, что реализация ценностей в процессах и результатах деятельности есть сама ценность, более того, в сущности, всех ценностей заложено, что их осуществление само является ценным [12, с. 52]. По сути, «ценности реализации ценности», «ценности свершения», «опредмеченные единства» являются культурой.
О культуре и творчестве примечательно высказывался представитель русского неокантианства Н. Бердяев, по словам которого, результатом творческого акта, «всякого его осуществления являются лишь материальные культурные ценности. И великая творческая энергия человека, не достигая своей конечной имманентной цели, «исходила» в культуру этого мира. И вместо иного бытия творилась… культура» [13, c. 130]. По словам мыслителя, культура осуществляет истину в познании, в философских и научных книгах; добро – в нравах, бытии и общественных установлениях; красоту – в книгах стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях; Божественное – лишь в куль- туре и религиозной символике» [14, c. 164].
Заключение
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно заключить, что немецкое неокантианство скорее «разводит» понятия ценности и предмета в концепции Г. Риккерта. Не являясь фактичностью, ценности в определённой степени противостоят бытию. Тем не менее, ценности хотя и не объективны, но связаны с действительностью, с благами культуры. Блага представляют собой предметы как ценные части действительности, не являющиеся ценностями, но имеющими к ним отношение. В данном контексте, «аксиологическая предметность» представляет собой не отождествление предмета и ценности, а отношение предмета к трансцендентальной ценности.
Русское неокантианство в отличие от немецкого, преодолевает противопоставление бытия и ценности, предмета, ценности. С позиций Т. Райнова и Ф. Степуна – ценность заключена в предмете, она феноменологически осознаваема, рассматриваема в нём подобно ноэме Э. Гуссерля как «предметном мире в его аксиологическом измерении». «Аксиологическая предметность» в русском неокантианстве по Т. Райнову сближается с феноменологией в том, что существуют «чувственно-полагаемый предмет-ценность» действительности, и «умопостигаемый», идеальный «предмет-ценность». Идеальные ценности тем самым, будучи «сверхиндивидуальными», явлены феноменологическому рассмотрению.
Концепции русского неокантианства и феноменологии сближаются также и в том, что предполагают деятельностную, творческую роль человека, который «умопостигаемый предмет-ценность» осуществляет в действительности. Так, по мнению феноменолога М. Шелера, человек усматривая «сверхпредметы-ценности» – соучаствует в актах непрерывного творения мира, реализовывая их из плана идеального – в действительность. Русское неокантианство показывает аналогичное видение «аксиологической предметности», по которому «вещь-ценность» является отраже- нием идеального смысла в предмете. То вещей» реализуя деятельностью «сверх- есть, предмет и ценность составляют «единство» благодаря творчеству, соединяющее их по Т. Райнову. Ф. Степун дополняет данное представление, утверждая, что творчество призвано преодолеть «разрыв» ценности и предмета, образуя «пред- метные ценности свершения», то есть само создание произведения искусства, его завершённость. По словам мыслителя, в произведениях культуры как ценностях отражена идея бесконечности. Дополняет данную мысль подобным высказыванием феноменолог М. Шелер, у которого «чело- век соучаствует в актах творения мира» прикоснувшись к вечности путём «сопровождения любви из первоистока самих предметы» в относительные «предметы-ценности». Такого рода ценности по Т. Райнову представляют собой «опредме-ченные единства» являющиеся культурой. Культурную ценность феноменолог Н. Гартман, характеризует как «ценность реализации ценности», указывая, что сама реализация ценностей уже является ценным, и именно человек их осуществляет в предметах культуры и поступках. По утверждению неокантианца Н. Бердяева, результатом творческого акта являются материальные ценности культуры, и в этом творческая энергия человека «исходит» в культуру.
Список литературы «Аксиологическая предметность» культуры в системе ценностных ориентаций русского неокантианства и феноменологии
- Риккерт Г. №уки о природе и науки о культуре; пер. С. И. Гессен. - M.: Республика, 1992. - 128 с.
- Риккерт Г. Два пути познания // ^вые идеи в философии. - СПб., 1913. - Сб. 7. Теория познания. - С. 1-79.
- Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Halle, 1921. -б7б p.
- Husserl E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologishen Philosophie. -Halle: Erstes Buch, 1922. - 323 s.
- Райнов Т. Введение в феноменологию творчества // Вопросы теории и психологии творчества (Иепериодическое изд., выходящее под ред. БА. Лезина). Т. 5. Вып. 1. Теория творчества. Mифотворчество. - Харьков, 1914.
- Столович Л. H. Красота. Добро. Истина: очерк истории эстетической аксиологии. -M.: Республика, 1994. - 464 с.
- Силенко С. В. Философия Г. Риккерта: единство гносеологии, методологии и аксиологии: автореф. дис.... канд. филос. наук: 09.00.01, 09.00.03. - Ростов н/Д., 2006. - 24 с.
- Свасьян KA. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика. - Ереван, 1987. - 265 с.
- Степун Ф. Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. - M.: Тип. Рус. Т-ва, 1910. - Кн. 1. - С. 171-196.
- Степун ФА. Сочинения / Сост., вступ. статья, прим. Библиография В.К. Кантора. -M.: РОССПЭ^ 2000. - 1000 с.
- Шелер M. Положение человека в космосе. - M.: Изд-во иностр. лит., 1976. - 425 с.
- Гартман H. Этика. - СПб.: Владимир Даль, 2002. - 707 с.
- Бердяев H.A. Смысл творчества // Философия творчества, культуры и искусства. В 2 томах. Т. 1. - M.: Искусство, 1994. - 1052 с.
- Бердяев H.A. Смысл истории. - M.: Mbion^ 1990. - 176 c.