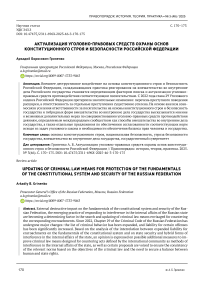Актуализация уголовно-правовых средств охраны основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации
Автор: Гриненко А.Б.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Правозащитная и правоохранительная деятельность
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
Внешнее деструктивное воздействие на основы конституционного строя и безопасность Российской Федерации, складывающаяся практика реагирования на вмешательство во внутренние дела Российского государства становятся определяющим фактором поиска и актуализации уголовно-правовых средств противодействия соответствующим посягательствам. С 2022 года глава 29 Уголовного кодекса Российской Федерации претерпела значительные изменения: перечень преступного поведения расширен, а ответственность за отдельные преступления существенно усилена. На основе анализа взаимосвязи усиления ответственности за посягательства на основы конституционного строя и безопасность государства и гибридных форм вмешательства во внутренние дела государства высказывается мнение о возможных дополнительных мерах по совершенствованию уголовно-правовых средств противодействия деяниям, определяемым международным сообществом как способы вмешательства во внутренние дела государства, а также отдельные предложения по обеспечению согласованности соответствующих норм исходя из задач уголовного закона и необходимости обеспечения баланса прав человека и государства.
Основы конституционного строя, национальная безопасность, угроза безопасности государства, вмешательство во внутренние дела государства, государственный суверенитет
Короткий адрес: https://sciup.org/14134033
IDR: 14134033 | УДК: 343.3 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-170-175
Текст научной статьи Актуализация уголовно-правовых средств охраны основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации
Военный способ разрешения межгосударственного столкновения не всегда приводит к удовлетворению национального интереса соответствующего актора и, что важно, не исключает квалификацию военного принуждения в качестве «агрессии». Поэтому государства для достижения своих геополитических (да и не только) целей активно используют скрытое невоенное воздействие, которое в общем виде и весьма условно обозначается гибридной войной. Ее содержательную характеристику, которая наиболее близка нам, дает Коростелев С. В. Исследуя затронутую проблематику, он пишет: «В общем случае концептуально «гибридную войну» можно описать как «синхронизированное использование множественных инструментов [национальной] мощи, специально подбираемых для получения взаимоусиливающих эффектов в отношении конкретных уязвимостей во всем спектре общественных процессов, а данная парадигма описывается аббревиатурой MIDFIELD: военные (military), информационные (information), дипломатические (diplomatic), финансовые (financial), разведывательные (intelligence), экономические (economic), правовые (law), предоставление поддержки (development) [5, с. 35–36].
Коростелевым С. В. также подчеркивается взаимосвязь «гибридности» [6, с. 44] как формы организации деятельности государства во внешней среде с изменением свойств противостоящего государства в ходе реализуемого вмешательства во внутренние дела.
Масштабности и разрушительности подобного вмешательства служат формы (скрытые и явные) и способы, нашедшие отражение, например, в Резолюции ГА ООН № 36/103 от 9 декабря 1981 г. и принятой ею Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. С точки зрения применения в международной практике выраженные способы и в настоящее время не утратили своей актуальности. Исходя из логики и целей ведения гибридных войн, а также степени влияния поименованные в Декларации способы вмешательства во внутренние дела государства либо прямо угрожают существованию любого государства, как-то: дестабилизация или подрыв стабильности институтов государства, свержение политического строя, поддержка мятежной и сепаратистской деятельности либо политических и этнических групп с целью осуществления подрывной деятельности, создание беспорядков или волнений, использование практики терроризма, либо угрожают изменению его свойств в сочетании с техническими, юридическими, экономическим, информационными методами, будучи нацеленными на длительное непре- рывное применение. Однако существенное изменение геополитического ландшафта становится возможным (и здесь мы солидарны с Коростелевым С. В.) в силу скоординированного характера такого рода гибридного невоенного вмешательства.
В целом, отдавая должное обширной политико-правовой аналитике, обосновывающей высокий уровень опасности ведения гибридной (диффузно-гибридной) войны, полагаем возможным согласиться с важным, на наш взгляд, выводом о том, что «игнорирование уровня их опасности или их недооценка представляется ошибочной стратегией» [6]. От готовности государства противостоять, в том числе правовыми средствами, вмешательству в свои внутренние дела зависит его существование на политической карте мира. Актуальность этого тезиса находит подтверждение в происходивших ранее и происходящих в настоящее время международных событиях, а также в динамике увеличения с 2022 года количества преступлений в исследуемой сфере.
Материал и методы
Для целей рассмотрения обозначенных в заголовке статьи вопросов изучены ранее и ныне действующие правовые источники (включая международные) и тематическая специальная научная литература. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные методы познания, такие как анализ, синтез, логический, исторический, диалектический, сравнительно-правовой, формально-юридический.
Описание исследования
Российская Федерация в государственно-общественной сфере определяет следующие стратегические задачи: не допустить вмешательства во внутренние дела, пресечь разведывательную и иную деятельность иностранных спецслужб, организаций и отдельных лиц, наносящую ущерб российским интересам, а также совершение иных преступлений против конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, в том числе путем инспирирования «цветных революций»1. С учетом принципа невмешательства во внутренние дела других государств выстроены и российские международные отношения 2.
Отражение в действующем базовом документе стратегического планирования среди обозначенных важнейших задач недопустимости вмешательства во внутренние дела, как представляется, стало результатом осмысления остроты этой государственной угрозы. В подобных ранее действовавших документах, касающихся стратегических и концептуальных вопросов безопасности на государственном уровне (введенных в действие указами Главы государства № 683 в 2015 году, № 537 в 2009, № 1300 в 1997 году), таковая прямо названа не была.
В этой связи примечательно следующее: на протяжении последних более ста лет (как нам представляется этот период времени достаточен для вывода о тенденциозности рассматриваемого явления) вмешательство внутренние дела Российской Федерации как форма внешнеполитического поведения недружественных стран (как их в настоящее время называют) остается главной. Меняется отношение Российской Федерации к своим геополитическим визави, а происходящие процессы называются своими именами либо нет. Так это было в советский период времени [10; 11], так есть и в настоящее время. Важно другое — наличие эффективных правовых инструментов, в том числе уголовноправовых средств, для противодействия всему спектру гибридных угроз, исходя из необходимости реализации государством своих функций.
К примеру, потребность решительного уголовноправового реагирования на угрозы внешней безопасности молодой Советской республики нашло реализацию в ст. 57 УК РСФСР 1922 года в понятии контрреволюционных действий, в котором отражены конкретные (сохраняющие и сейчас свою актуальность) формы вмешательства, имея в виду интервенцию, блокаду, шпионаж, финансирование прессы, а также в установлении в соответствии со ст. 65 наказания, например, за контрреволюционную организацию (участие) разрушения, повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных путей или иных путей, средств сообщения, народной связи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или строений 1.
Очевидно, что внешнее воздействие на Российскую Федерацию с применением невоенных (гибридных) форм и способов вмешательства во внутренние дела, имеющее перманентный характер, но осуществляемое в настоящее время наиболее активно и во всем спектре, обусловило прямую постановку и решение перечисленных выше задач национальной безопасности, в том числе посредством правоприменительной и законодательной переоценки соответствующих норм Уголовного кодекса. Наиболее красноречиво реакция государства в этой весьма чувствительной сфере отражается в содержании уголовно-правовых новелл.
С 2022 года глава 29 УК РФ дополнена ответственностью за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности (ст. 280.3) и призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (ст. 284.2), за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1), публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4), неоднократные пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами (ст. 282.4), нарушение требований по защите государственной тайны (ст. 283.2), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3), совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии признается отягчающим вину обстоятельством (п. «с» ч. 1 ст. 63), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3), оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (ст. 276.1) 2. Немало, если учесть, что по количеству составов преступлений рассматриваемая глава Уголовного кодекса Российской Федерации увеличилась в полтора раза.
Изменения в традиционные для главы 29 составы преступлений также обусловлены необходимостью противодействовать новым формам преступной деятельности и угрозам государственной безопасности (на это указывает, например, пояснительная записка к законопроекту № 130406–8). Так, в ст. 275 УК РФ переход на сторону противника отнесен к форме государственной измены, в ст. 276 УК РФ уточнены цели противоправных действий с государственной тайной и иными сведениями. Нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды законодателем определено в качестве признака ч. 1 ст. 281 УК РФ, формы вооруженного мятежа дифференцированы путем выделения ответственности за организацию, руководство и участие, а также причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в результате таких деяний с индивидуализацией наказания.
Не обошел вниманием законодатель и вопросы пенализации преступлений: пожизненное лишение свободы установлено за государственную измену, за вооруженный мятеж, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия, а также совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 281.1–281.3 УК РФ, повышена ответственность и за саму диверсию.
Характер приведенных изменений уголовного закона отражает происходящие в российских военной, информационной, разведывательной, правовой, финансово-экономической сферах жизнедеятельности процессы в связи с вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Наблюдаемая дифференциация оснований ответственности и наказания с учетом многообразия форм посягательств и их общественной опасности для основополагающих элементов конституционного строя и нацбезопасности, а также невозможности минимизировать причиняемый ими вред иным правовым воздействием, выглядит оправданной с точки зрения развития практики правоприменения. При этом естественный для регулирования соответствующих правоотношений, включая установление ответственности, этатический подход [3] рассматривается как оптимальный при решении вопроса о дополнении механизмов уголовно-правового воздействия, а масштабирование ответственности в рамках вынужденной модернизации уголовно-правовой политики [8] недвусмысленно обозначает намерения Российской Федерации решительно пресекать посягательства на свои интересы.
С другой стороны, использование модели «догоняющего» правового регулирования [1, с. 22] отражается на качестве уголовного закона, имея в виду выявляемые неопределенность и несогласованность новелл. Например, относительно пенализации преступного поведения в рамках главы 29 УК РФ отметим сомнительные с точки зрения системного подхода размеры наказаний исполнителю диверсии и лицу, осуществляющему диверсионную деятельность, которая по характеру, и это для нас очевидно, менее общественно опасна. Кроме того, в связи с дополнением состава диверсии признаком «нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды», на наш взгляд, существенно увеличивается риск конкуренции (как впрочем, и свободы усмотрения) с нормой об ответственности за террористический акт (ст. 205).
Здесь хотелось бы лишь подчеркнуть, что критика конструкционных особенностей уголовноправовых средств (и нередко заслуженная) 1 имеет исключительную цель — выявить потенциал повышения их эффективности. И даже если принять во внимание условия (имея в виду, прежде всего, интенсивность работы законодателя), в которых обеспечивается подготовка законодательных инициатив, обратим вслед за Н. А. Лопашенко [7], В. Б. По-езжаловым [9] внимание на важность изменения норм уголовного закона в системной взаимосвязи и с позиций исключительности этого правового инструмента.
Система определенных вышеуказанной главой преступлений, если принять во внимание тот факт, что границы суверенитета любого государства мало кого на западе интересуют [2, с. 80], а урегулирование противоречий антагонистического характера видится очень сомнительным в ближайшей перспективе, имеет потенциал (и в этом нас убеждает правоприменительная практика) дальнейшего совершенствования.
В этой связи наблюдаемое намеренное обесценивание правового значения базового для каждого государства признака, каким является суверенитет, позволяет более отчетливо проявить степень опасности отдельных способов вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, которым российский уголовный закон пока не дает своей оценки.
Поэтому, опираясь на аксиологический подход в понимании охраняемых главой 29 УК РФ правоотношений, считаем целесообразным предварительное уголовно-правовое (и, без сомнения, криминологическое) исследование признаков осуществляемой недружественными странами против Российской Федерации и законных институтов власти деятельности, связанной с засылкой, оснащением и транзитом наемников, предоставлением территории для подготовки и осуществления вмешательства во внутренние дела государства, осуществлением подрывной деятельности (имея в виду, прежде всего, информационную составляющую гибридной войны) 2, лишение национальной самобытности и культурного наследия, что позволит сформировать научную основу для дальнейшей практической актуализации соответствующих средств уголовно-правового воздействия.
Заключение и выводы
Изменение и криминализация ряда деяний, направленных против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации, является результатом реализации соответствующей дискреции государства и способом решения вышеуказанных задач национальной безопасности. Очевидно также, что осуществление охранительной функции предполагает поддержание органами власти постоянного баланса прав человека и государства с учетом приоритетов, которые определены ст. 2 Конституции РФ.
В этой связи очень актуальным и сейчас представляется тезис Лунеева В. В. о том, что «мир вновь стоит перед проблемой ювелирного решения важнейшей двуединой задачи — эффективности правоохранительной деятельности и ее гуманности, результативной работы органов правоохраны и строжайшего соблюдения фундаментальных прав человека, нового соотношения свободы и необходимости, свободы и безопасности, свободы и социально-правового контроля» 1.
Поэтому убеждены, что в силу концепта правового и социального государства наказание за совершение преступлений должно отвечать принципу справедливости, особенно за деяния против основ конституционного строя и безопасности государства, а криминализация соответствующих посягательств — в достаточной мере обоснованной с точки зрения недостаточности (неэффективности) имеющегося правового инструментария и потребности в дополнительных мерах уголовноправовой охраны.
Так, если следовать общепризнанной аксиоме о том, что большую наказуемость влечет такое деяние, которое связано с реальными насильственными последствиями в виде вреда здоровью людей, их смерти, то установление, например, пожизненного лишения свободы за отдельные формы диверсионной деятельности, сопоставимого с санкциями за совершенную диверсию с последствиями, предусмотренными пунктами «а» и «б» части третьей статьи 281 УК РФ, вызывает сомнение и, на наш взгляд, нуждается в корректировке.
Важным является и следование концепции прав человека, которая, как пишет Генрих Н. В., «предъяв- ляет повышенные требования к криминализации: государство должно обосновать тот публичный интерес, который оно защищает, ограничивает автономию личности, и убедительно доказать, что значимость этого публичного интереса существенно перевешивает значимость индивидуальной свободы» [4, с. 274]. Однако законотворческая деятельность при определении преступного поведения для целей главы 29 УК РФ не всегда исходит из обозначенной парадигмы. Для примера, в пояснительной записке к проекту федерального закона № 671359–8 аргументации необходимости выделения ответственности за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, не содержится, да и сама идея «материализовалась» на стадии подготовки законопроекта ко второму чтению.
И хотя уголовно-правовые средства охраны основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации с учетом обозначенных новаций, как нам представляется, позволяют дать оценку многочисленным способам внешнего гибридного вмешательства во внутренние дела государства, создание эффективного правового каркаса обеспечения национальной безопасности Российской Федерации вряд ли возможно без системного подхода к решению задач уголовного закона и без последовательной актуализации таких средств противодействия с учетом опасных тенденций в этой сфере, обозначенных международным сообществом.