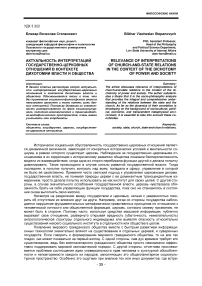Актуальность интерпретаций государственно-церковных отношений в контексте дихотомии власти и общества
Автор: Блихар Вячеслав Степанович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 9, 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрен вопрос актуальности интерпретаций государственно-церковных отношений в контексте дихотомии власти и общества. Обосновывается тезис о том, что без применения социально-философского анализа невозможно целостно и полно понять суть данных отношений. Поскольку динамика их совместности разворачивается на фоне социокультурного, политико-экономического и трансцендентно-метафизического пространства, очень важно учитывать эти координаты.
Общество, государство, церковь, государственно-церковные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14935722
IDR: 14935722 | УДК: 3.322
Текст научной статьи Актуальность интерпретаций государственно-церковных отношений в контексте дихотомии власти и общества
Summary: The article discusses relevance of interpretations of church-and-state relations in the context of the dichotomy of power and society. The author substantiates a thesis that it is the socio-philosophic analysis that provides the integral and comprehensive understanding of the relations between the state and the church. As far as the dynamics of their correlation is developing on the background of sociocultural, political, economic, and transcendent metaphysical environment, it is essential to take into account these coordinates.
Исторически социальная обусловленность государственно-церковных отношений является динамичной величиной, зависящей от конкретных исторических условий и ментальности социума, в рамках которого существует церковь. Наблюдение за государственно-церковными отношениями в их корреляции к историческому развитию общества показали бесперспективность модели их взаимодействия, когда одна из сторон перебирала функции другой и делала попытку доминировать. Такое происходило в случае сильно развитой государственной власти. Тогда последняя, в попытке получить контроль над всем, попадала в сферу, управление в которой не было ей свойственно. Применяя чисто светский подход к управлению церковными делами, государственная власть, не понимая природы церкви с ее доминантным трансцендентным измерением, просто делала попытку использовать ее как институт для своих целей. С другой стороны, в случае значительного ослабления государственной власти, церковь чувствовала обязанность брать на себя управляющие функции государства, пока оно не становилось в состоянии снова выполнять свою миссию.
Несмотря на разделения между государством и церковью, нельзя с уверенностью говорить об отсутствии их влияния друг на друга. Например, когда со стороны государства наблюдается нарушение фундаментальных метафизически-нравственных принципов по отношению к человеческой личности или общественной формации, церковь, согласно своему призванию, не может быть в стороне. Поэтому часто, используя средства массовой информации, публично выражает свое отношение, развернуто открывая вредность (убыточность, нежелательность) антропологической структуры отдельного индивидуума или выявляя опасность относительно существования некоего социального института в отдельности или общества в целом.
Появление мирового гражданского общества вместе с быстрым развитием информационных технологий значительно влияют на существование и отдельных церквей, и суверенных государств. Если говорить о формировании мирового гражданского общества, то не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, сам дух времени требует его существования, ведь без всепланетарного гражданского общества просто невозможно эффективно поддерживать мировой экономический порядок. С другой стороны, отчетливо прослеживается проблема соотношения идеи универсальности прав человека и культурной обособленности и неповторимости каждого из народов, заполняющих это общепланетарное социокультурное пространство. Особенно это ощутимо при анализе тех или иных документов, где встре- чаем ссылки на корни той или иной религиозно-этической системы какого-то конкретного народа – то из мусульманского мира, христианского или же индуистского.
Возникает вопрос: как же относиться представителям конкретного социокультурного пространства к авторитетам людей, имеющих другое мнение? И здесь роль транснационального гражданского общества трудно переоценить. Ведь оно несет потенциал применения новых форм правления, которые не были бы производными от экономических интересов отдельных общественных групп. Они были бы результатом культурных взаимодействий, в результате которых из каждой культуры могло бы браться то настоящее, рациональное зерно, которое составляло бы настоящую ценность для любого человека, в любом уголке планеты. В этом случае взгляд, который основывался бы на идее различной формы материализации метафизически аксиологических ценностей в социокультурном пространстве отдельно взятой народности, открыл бы широкую перспективу вклада каждой из народностей в общепланетарное социокультурное пространство. Так удалось бы минимизировать (а то и вообще «снять») противопоставление глобального и местного, – модель приобрела бы другой вид. Местное в перспективе глобального, или глобальное, которое охватывает и сугубо местное, оригинальное и неповторимое, и продукты взаимот-рансформаций отдельных, местных культурно-социоморальных структур.
Что касается церкви, то одним из самых больших доказательств ее правильной реализации своего внутреннего смысла будут внешние проявления, реализация ее внутренней сути. Одним из аспектов этого является ее забота в социальном измерении о своих верных. Поскольку это измерение принадлежит к числу наиболее значимых по отношению и к отдельному индивиду, и к обществу в целом, то очевидным является факт того, что нравственность или безнравственность поступков человека напрямую зависит от среды его рождения, роста, наконец, существование. Так, для бедных слоев общества характерен высокий уровень преступности и другие социальные пороки. В частности, часто случается распад семьи, дискриминация, расизм, безработица, опасные условия жизни, социальная изоляция и отсутствие нормальной системы социальной поддержки [1, с. 43].
Наблюдая за современным состоянием общества, Г. Гутьеррес [2] выделил некоторые изменения в способе социального бытия современного человека. Так, социальное сознание и практика приобретают черты зрелости, которая проявляется в том, что человек все более осознает себя активным субъектом исторических процессов, чувствует в себе силу отстаивать жесткую позицию по несправедливости вокруг нее. Современная социально зрелая личность все больше старается влиять на имеющиеся социальные структуры и стремится участвовать в политическом управлении в обществе. То, что современный человек полностью политизирован, является еще одной характеристикой изменения его социального существования. Наше время характеризуется тем, что политика уже не является делом только свободных от других занятий людей. Это построение политического общества, где индивиды смогли бы реализовывать идею солидарного, основанного на принципе справедливости, общежития. Эта идея гармоничного сбалансированного общества начинает заполнять сознание почти каждого человека.
Наконец, любое событие среднестатистической личности происходит на фоне политической ситуации в стране. Политическая жизнь невидимо присутствует почти в каждой сфере бытия человека. Именно в таком контексте и возникает человек как свободный и одновременно ответственный индивид, испытывающий и осознающий себя активным субъектом истории. Вместе с такой политизированностью наблюдается также каждый раз большее проявление радикализма социальной практики. Зрелое политическое и социальное сознание современного индивида приводит к тому, что последний все сознательно начинает воспринимать экономический и социальный детерминизм своего существования и, понимая его причины, все больше стремится влиять на них. Глубокое понимание причин приводит к мысли о невозможности преобразовать общество реформаторским путем, поскольку он не может в корне изменить систему несправедливости и эксплуатации. Этот радикализм особенно характерен для стран третьего мира. В случае слабости и недейственности пути реформ, более действенным выглядит путь социальной революции, который стремится заменить существующие положения вещей качественно иным состоянием, при котором в обществе прекратилась бы эксплуатация одних стран другими, между странами, или одних людей другими, иначе говоря – прекратилась бы несправедливость, и на земле воцарилась бы правда.
Поскольку общее благо является самой высшей нормой и для государства, и для правительства, одновременно оно является моральной и правовой категорией. Поэтому когда в результате преступного действия правительства существует опасность против общего блага, тогда не тот, кто хочет сбросить такое правительство, является мятежником, а согласно с Т. Аквинским – «самое такое тираническое правительство является мятежником против общего блага» [3, с. 257]. Наконец, даже свержение тиранического правительства не гарантирует того, что на его место придет другое, которое будет защищать общие блага. Даже если оно и будет внешне демократическим, часто под оберткой демократии спрятано подобное, только завуалированное эксплуататорское правительство, где существует формальное признание прав и свобод человека, а реальное общественно-экономическое положение населения все равно остается критическим.
Дело в том, что в демократическом обществе постулаты свободы должны быть соединены с постулатами этической ответственности. Управление в нем должно осуществляться в тесной связи с честностью, уважением прав человека, справедливости. В учении церкви были даже выделены специальные требования к демократии. Так, концепция демократии должна опираться на интегральную концепцию человеческой личности и моральные нормы, как устойчивый фундамент мирного и справедливого бытия человеческих индивидов. Заодно демократия как таковая должна быть не целью, а средством.
Также положительный государственный закон не должен противоречить естественному праву и опираться на закон Божий [4, с. 146-147]. В экономическом измерении наблюдается антагонизм в восприятии реальности. Так, если в логике рынка человека воспринимают и оценивают только по его производительности и потреблению, то в мировоззренческой позиции демократии в основе человеческих взаимоотношений лежит принцип онтологического равенства каждого человека. В такой ситуации все больше становится понятной важность строительства общества на морально-этических принципах, фундамент которых может объединить социум, испытывая раз-новекторность формирующего воздействия, в единое гармонизированное общество. Не взяв за основу принцип трансцендентно-аксиологического измерения, революционеры пришли к образованию тоталитарного общества с гораздо худшей общественно-политической обстановкой в стране: тотальные репрессии, искусственный голод, античеловеческая по своей сути идеология, которая во многих случаях шла против естественного права бытия человека и Вселенной. Ведь без трансцендентной перспективы общественно-политические отношения оказываются в замкнутом пространстве, стараясь решить задачи, которые просто не имеют решения при подобном подходе. Ведь сам термин «трансцендентальный» происходит от лат. «transcendens» - то, что переступает, выходит за пределы [5, с. 665], впервые появился в схоластическом богословии, где им обозначали такие аспекты существования, которые выходили за пределы эмпирического Бытия и характеризовали универсальные и высшие предметы метафизической реальности.
«Указатели» по решению проблемы сосуществования церкви и государства для достижения благоприятного социально-экономического состояния общества должны обязательно охватывать идеи и ценности трансцендентно-метафизического измерения бытия. И хотя идея теократического типа государства в классическом понимании этого слова не является сейчас популярной среди политической элиты, однако, абстрагируясь от религии и признавая ее одним из проявлений принципов метафизически аксиологического измерения бытия, считаем справедливым мнение В.С. Соловьева о теократической идее функционирования общества. Она базируется на факте аксиологической иерархий сущностей бытия, где светские дела должны быть подчинены делам духовным, поскольку последние в иерархии ценностей стоят выше, чем первые. Однако в этом случае просматривается четкая граница между высшим авторитетом в деле и материальным ее обеспечением.
Действительно, на примере бытия человека можно наблюдать, что физическое его существование должно, в условиях нормального течения жизни, подчиняться разумной воле. Однако это не означает, что сама воля должна была непосредственно производить различные процессы физиологии. Подобно должно быть и в идеальном теократическом государстве, где духовная власть и заслуживала бы больше уважения и должна была иметь больший приоритет, чем светская, через онтологическое превосходство духовно трансцендентных сущностей над материально-имманентным, однако первая никогда по собственной воле не принимала на себя функции государства, разве что в исключительных случаях.
Собственно Соловьев очень удачно кристаллизировал идею идеального сочетания церкви и государства в теократическом обществе, где «светская политика должна быть подчинена церковной, но никак не из-за уподобления церкви государству, а, наоборот, из-за медленного уподобление государства церкви. Светская деятельность должна преобразоваться по образу церкви, а не опускаться до уровня светской действительности. <...> Церковь должна привлекать, притягивать к себе все светские силы, а не втягиваться в их слепую и неморальную борьбу» [6, с. 155-156]. Иными словами, не духовные руководители должны в своем поведении приближаться к светским, - последним необходимо подниматься и равняться на первых в моральной сфере.
Ссылки:
-
1. Бартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004.
-
2. Гутьеррес Г. О теологии освобождения. URL: http://www.poistine.com/retrospective/gustavo-gutierrez-o-teologii-
osvobozhdeniya (дата обращения: 01.08.2013).
-
3. Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення. Львів, 2002.
-
4. Життя у Христі: моральна катехиза. Львів, 2004.
-
5. Философский энциклопедический словарь / редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и другие. М.,
-
6. Соловйов В.С. Про Вселенську церкву. Киев, 2000.
-