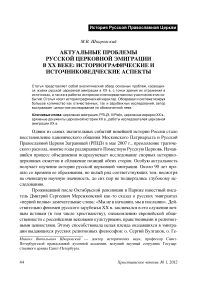Актуальные проблемы русской церковной эмиграции в ХХ веке: историографические и источниковедческие аспекты
Автор: Шкаровский Михаил Витальевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История Русской Православной Церкви
Статья в выпуске: 1 (42), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой аналитический обзор основных проблем, касающихся жизни русской церковной эмиграции в ХХ в. с точки зрения их отражения в источниках, а также в работах историков и непосредственных участников этих событий. Статья носит историографический характер. Обозревая и систематизируя большое количество как отечественных, так и зарубежных исследований, автор выстраивает целостное исследование по обозначенной теме.
Церковная эмиграция, рпцз, iii рейх, церковные иерархи xx в., архивные документы церковной истории xx в., работы исследователей церковной эмиграции xx в.
Короткий адрес: https://sciup.org/140189953
IDR: 140189953
Текст научной статьи Актуальные проблемы русской церковной эмиграции в ХХ веке: историографические и источниковедческие аспекты
Одним из самых значительных событий новейшей истории России стало восстановление канонического общения Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в мае 2007 г., преодоление трагического раскола, многие годы раздиравшего Поместную Русскую Церковь. Начавшийся процесс объединения подразумевает исследование спорных историкоцерковных сюжетов и сближение позиций обеих сторон. Особую актуальность получает изучение истории русской церковной эмиграции. Около 90 лет прошло со времени ее образования, но целый ряд соответствующих тем, несмотря на очевидную научную значимость, до сих пор не подвергались глубокому исследованию.
Проживавший после Октябрьской революции в Париже известный писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский как-то сказал о русских эмигрантах «первой волны» замечательные слова: «Мы не в изгнании, мы в послании». Действительно феномен русского зарубежья XX в. заключался в его служении вечным истинам (в том числе христианству), ознакомлению европейской общественности с российскими вековыми культурными, нравственными и религиозными ценностями. Этому способствовала целая плеяда оказавшихся в эмиграции выдающихся русских религиозных философов: о. Сергий Булгаков, о. Ге- Михаил Витальевич Шкаровский — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской православной духовной академии, ведущий научный сотрудник Государственного архива Санкт-Петербурга.
оргий Флоровский, Николай Бердяев, Владимир Ильин, о. Иоанн Мейендорф, о. Александр Шмеман и многие другие.
Российские эмигранты смогли воссоздать за рубежом многие институты и проявления жизни дореволюционной России. Но это не был слепок со старой России, появился новый мир, который теперь принято называть Русским зарубежьем. Его составляющими были: система образования от начального до высшего, система научных институтов и обществ, разветвленная сеть издательств и органов периодической печати, продолжение русских традиций в различных жанрах искусства (архитектура, кино, литература, музыка, театр), сложившаяся инфраструктура русских зарубежных архивов, музеев, библиотек и конечно система церковной жизни, являвшаяся центром всего этого мира. Освоение того духовного наследия, которое наши соотечественники смогли сохранить за рубежом, несомненно, имеет большое значение для будущего России.
К 1917 г. Русская Православная Церковь уже имела пять зарубежных Миссий: в Японии, Китае, Корее, Персии (Иране) и Палестине, основанных большей частью во второй половине XIX в. Кроме того, активной миссионерской работой занималась Северо-Американская епархия Русской Церкви, включавшая в себя до 1917 г. почти всех православных жителей США, в том числе греков, албанцев и т.д. Десятки русских храмов были построены также в Западной и Центральной Европе, в том числе в Германии — 12, в Италии — 5 и т.п. (до 1918 г. они находились в ведении Санкт-Петербургского митрополита). Однако численность их прихожан оставалась небольшой.
После Октябрьской революции Русская Православная Церковь продолжила и даже расширила миссионерскую деятельность за пределами страны. В результате поражения белого движения в ходе гражданской войны 1918–1920 гг. Россию покинуло около двух миллионов представителей эмиграции, не смирившихся с победой советской власти, из них более 200 тысяч к началу 1920-х гг. поселилось в странах Балканского полуострова, прежде всего в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославии). Такое количество эмигрантов способствовало значительной активизации русской церковной жизни. В число покинувших Россию было более тысячи священнослужителей, в том числе свыше сорока архиереев; только в Сербскую Православную Церковь приняли на службу 250 русских священников, в Болгарскую Церковь — около 100 и т.д.
Каждая из прежних Российских дореволюционных духовных миссий продолжала свою работу. Северо-Американская митрополия много сделала для распространения Православия в США и Канаде и, в конце концов, в 1970 г.
была преобразована в автокефальную Американскую Православную Церковь. Западно-Европейский экзархат вел миссионерскую работу в основном на территории Франции и Великобритании, в результате чего там появились общины православных французов и англичан. Московский Патриархат из-за антирелигиозных гонений в СССР в 1920-е – 1930-е гг. миссионерской деятельностью за границей почти не занимался, хотя в его юрисдикции оставались Корейская духовная миссия и Японская Православная Церковь 1 .
В первую очередь 1920-е – 1940-е гг. представляли собой уникальный период, когда русское духовенство играло значительную роль в общей религиозной жизни Восточной Европы. Оно было более образовано, активно, креативно, чем местные православные священнослужители и поэтому с начала 1920-х гг. зачастую выступало инициатором многих важных духовных процессов: способствовало возрождению монашества, созданию духовных учебных заведений, развитию богословской науки и т.д.
Некоторые страны Юго-Восточной Европы после I Мировой войны обрели независимость или значительно расширили свои территории, поэтому многое в их внутреннем устройстве, в том числе в церковной жизни, пришлось создавать заново, и в данном деле русские священнослужители смогли ярко проявить себя. Этому способствовала историческая вековая традиция воспринимать Церковь могущественной Российской империи (хотя уже и не существующей после 1917 г.) как ведущую в православном мире.
В ряде неправославных по основному составу населения стран (где отсутствовали местные устойчивые православные традиции) русские священнослужители даже играли с начала 1940-х гг. важнейшую роль в попытках создания новых Православных Церквей: в Венгрии, Хорватии, Чехословакии. Все эти Церкви возглавили русские священнослужители: Хорватскую — митрополит Гермоген (Максимов), Чехословацкую — митрополит Елевферий (Воронов), Венгерскую — протопресвитер Михаил Попов. Далеко не везде подобные попытки (имеющие политический подтекст) увенчались успехом, однако они, так или иначе, способствовали укреплению православной традиции. Кроме того, ещев 1930-е гг. РПЦЗ попыталось создать несколько новых духовных миссий в различных регионах мира: на Цейлоне, в Словении и в Индии.
Как существовавшие ранее, так и появившиеся после 1917 г. православные общины не имели единого управления и принадлежали к трем юрисдикци- ям, к началу 1930-х гг. возникшим на основе прежде единой Русской Церкви: Московский Патриархат, Русская Православная Церковь Заграницей с центром в югославском городе Сремски Карловцы (карловчане) и Временный экзархат Вселенского Патриарха на территории Европы с центром в Париже, который возглавлял митрополит Евлогий (Георгиевский) — по имени главы евлогиане. Правда, общин Московского Патриархата в Юго-Восточной Европе к началу II Мировой войны практически не осталось, немного было и евлогианских приходов. Подавляющая часть священнослужителей и мирян принадлежала к Русской Православной Церкви Заграницей.
Эта Церковь хотя и была относительно небольшой по численности, однако обладала значительным авторитетом, и поэтому играла заметную роль в определении общей церковной ситуации на Юго-Востоке Европы. Паства РПЦЗ проживала в Болгарии, Румынии, Греции, Венгрии, Чехословакии, а в основном — в Югославии. На территории этого государства в начале 1920-х гг. поселилось около 85 тыс. русских эмигрантов (правда, затем их число существенно сократилось).
Они построили пять церквей и часовен, образовали более 10 приходов, духовные братства: святого Серафима Саровского, отца Иоанна Кронштадтского, святого князя Владимира, Святой Руси и др. Монахи из России проживали во многих сербских монастырях и, кроме того, образовали еще два самостоятельных: мужской в Мильково и женский в Хопово. На богословском факультете Белградского университета в 1939 г. преподавали два русских профессора и обучались 23 русских студента. Как уже отмечалось, в городе Сремски Кар-ловцы находился руководящий орган РПЦЗ — Архиерейский Синод во главе с его председателем митрополитом Антонием (Храповицким), которого в 1936 г. сменил митрополит Анастасий (Грибановский) 2 .
Уже через пару лет после прихода нацистов к власти в Германии в конце 1935 – начале 1936 гг. Юго-Восточная Европа оказалась в поле зрения их внешней политики. Расположенные в этом регионе государства населяли в основном православные народы: болгары, румыны, греки, сербы, черногорцы, македонцы и т.д. Национальные Православные Церкви традиционно играли большую роль в жизни балканских стран, и Германский МИД в 1936–1944 гг. постоянно пытался различными способами включить их в сферу влияния III Рейха. Все десять лет этот фактор оказывал заметное влияние и на нацистскую политику в отношении
Русской Православной Церкви. На территории Германии в 1930-е гг. русские эмигранты составляли большую часть всех православных, и греки, болгары, сербы, румыны зачастую входили в русские приходы. Поэтому Рейхсминистерство церковных дел свою политику определенного покровительства РПЦЗ не случайно связывало с достижением влияния на Православные Церкви Балканского полуострова.
1941 год явился рубежом изменения германской политики по отношению к Русской Церкви в целом, что также проявилось и на Балканах. Внешнеполитические ведомства считали, что РПЦЗ является активным проводником чуждой русской националистической и монархической идеологии и к тому же тесно связана с врагом III рейха Сербским Патриархом Гавриилом. Еще более жесткую позицию по отношению к РПЦЗ занимали руководство НСДАП, Главное управление имперской безопасности и Рейхсминистерство занятых восточных территорий. После начала войны с СССР их линия полностью возобладала и проявилась открыто и ярко. Почти во всех директивах второй половины 1941 г. о церковной политике на Востоке говорилось о категорическом недопущении священников из других стран на занятую территорию СССР.
Архиерейский Синод РПЦЗ с лета 1941 г., избегая проявлять свое одобрение политике III рейха, всячески старался использовать сложившуюся ситуацию для желаемого участия в церковном и национальном возрождении России. С этой целью он пошел на контакт с германскими ведомствами и относительно редко открыто критиковал те или иные их действия. Уже 26 июня, через четыре дня после начала войны и проведенного у него немцами обыска, митрополит Анастасий послал в Рейхсминистерства церковных дел письмо с просьбой исходатайствовать ему разрешения на проезд в Берлин. Владыка хотел обсудить с германскими ведомствами вопрос об удовлетворении духовных нужд на занятых русских территориях и организации там церковной власти, но получил отказ 3 .
Высказал Архиерейский Синод и свои представления о создании церковного управления в занятых немцами областях России. Трижды он направлял предложения об организации такого управления германским ведомствам. Все эти послания остались без ответа4. Несмотря на разнообразные запреты, Русская Православная Церковь Заграницей пыталась, насколько было возможно, участвовать в церковном возрождении на территории СССР. Главным образом это проявлялось в помощи церковной литературой и утварью. Особенно активно подобная деятельность осуществлялась в 1942–1943 гг.5
Можно также упомянуть издательскую деятельность русского монастыря преподобного Иова Почаевского в Словакии, попытки создания духовных миссий для дальнейшей отправки в Россию в Болгарии, Югославии, Венгрии, Франции. Правда, нацисты всячески препятствовали миссионерской деятельности Зарубежной Русской Церкви и практически не допустили ее представителей на территорию Советского Союза.
Православные священнослужители и миряне, главным образом сербы, подвергались жестоким преследованиям в созданном под эгидой III Рейха так называемом «независимом государстве Хорватия». Под влиянием многочисленных международных протестов германский МИД, понимая, что дальнейшее невмешательство в кровавые акции усташей сильно подрывает престиж Рейха в православном мире, был вынужден отреагировать. Немецкое посольство в Загребе в начале 1942 г. получило задание оказать давление на главу Хорватии — поглавника Анте Павелича. В результате он разрешил существование независимой от Сербской автокефальной Хорватской Православной Церкви 6 .
Ее создание предусматривалось законом от 3 апреля 1942 г. Но в первую очередь возникли сложности с выбором кандидатов на пост будущего главы Церкви. Все сербские епископы были к тому времени убиты или изгнаны из страны. В мае шантажируемый угрозой дальнейших преследований сербов, русский архиепископ Гермоген (Максимов) уступил сильнейшему давлению хорватских властей. 29 мая он встретился с Павеличем, и 5 июня 1942 г. поглавник подписал закон об основании Церкви, ее устав и назначил Гермогена Хорватским митрополитом с резиденцией в Загребе. Митрополит Анастасий категорически не признал образования неканонической Церкви и запретил Владыку Гермогена в священнослужении. Давление германских властей с целью добиться отмены запрета оказалось безрезультатным.
Неблагоприятные для III Рейха перемены в позиции Православных Церквей Юго-Восточной Европы на завершающем этапе войны, в конце концов, заставили германские ведомства внести некоторые коррективы в свое отношение к РПЦЗ. Проводившаяся с начала войны политика по возможности полной изоляции Архиерейского Синода в Белграде неукоснительно осуществлялась до сентября 1943 г. Все попытки членов Синода получить разрешение на встречу с архиереями оккупированных областей СССР или даже с епископами своей Церкви в других европейских странах оканчивались безрезультатно.
С осени 1943 г. под влиянием военной и внешнеполитической ситуации германские ведомства начали предпринимать безуспешные попытки использовать для воздействия на балканские Церкви архиереев оккупированных территорий СССР и РПЦЗ, при сохранении в основном прежнего недоверия и политики изоляции последней. Венская конференция иерархов Русской Православной Церкви Заграницей в октябре 1943 г. была в этом плане единственным крупным исключением. Здесь можно увидеть некоторую аналогию с власовской акцией — допущением перед лицом надвигавшегося поражения создания так называемой Русской освободительной армии (РОА). Но в отношении Русского Православия нацистские ведомства зашли совсем не так далеко, не позволив начать практическое взаимодействие и возможное объединение его различных ветвей. Враждебность и боязнь Русской Церкви оказались гораздо сильнее, чем даже опасения по поводу РОА.
Следует подчеркнуть важность балканского региона для III Рейха. Несомненное значение имел тот факт, что Болгария и Румыния стали союзниками Германии во II Мировой войне. Особенно большое внимание нацистские ведомства принялись уделять церковной политике на Балканах с 1941 г. после оккупации Югославии и Греции и начала войны с СССР. Германская церковная политика в Юго-Восточной Европе с этого времени была в основном направлена на раздробление единства Православных Церквей и установление своего контроля над ними. При этом ведомства III Рейха не терпели конкуренции и в частности активно противодействовали попыткам правительства Венгрии создать в 1941–1943 гг. свою автокефальную Венгерскую Православную Церковь. Большинство Православных Церквей Юго-Восточной Европы действительно в первые годы войны находилось под германским влиянием, но осенью 1943 г. оно было утрачено, и в данной сфере III Рейх фактически потерпел поражение еще за год до своего военного разгрома на Балканах.
Необходимо отметить и существование заметных различий в немецкой и итальянской религиозной политике на оккупированных территориях Юго-Восточной Европы. Германские ведомства в принципе придерживались антицер-ковной позиции, поэтому в целом их религиозная политика была значительно более жесткой, иногда открыто враждебной. Однако из тактических соображений некоторые службы III Рейха, прежде всего Министерство иностранных дел и различные его представители, нередко поддерживали Православную Церковь против Католической как более слабую сторону. Итальянская администрация, наоборот, активно способствовала расширению влияния Католической Церкви, но при этом в целом вело себя более лояльно, чем немецкая, и в отношении других конфессий.
В Германии первые православные русские приходы появились в 1710-е гг. К началу I Мировой войны Русская Церковь обладала в этой стране значительной собственностью: около 36 храмов, домов и земельных участков. Однако численность православных верующих оставалась небольшой. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 г. и окончания гражданской войны в России. В 1935 г. по данным гестапо русская эмиграция в III Рейхе насчитывала около 80 тыс., а по сведениям Министерства церковных дел в 1936 г. — примерно 100 тыс. человек. Такое количество эмигрантов способствовало значительной активизации церковной жизни.
Эти православные общины не имели единого управления и принадлежали к трем упоминавшимся юрисдикциям Русской Церкви: Московскому Патриархату, РПЦЗ и Экзархату Вселенского Патриарха во главе с митрополитом Евло-гием. Единственная община Московского Патриархата в Берлине существовала с 1931 г. до смерти ее настоятеля прот. Григория Прозорова в 1942 г., насчитывала всего 50 человек и не привлекала особого внимания германских ведомств. Постановлением Архиерейского Синода РПЦЗ от 1 июля 1926 г. территория Германии была выделена в самостоятельную епархию и главой ее — епископом Берлинским и Германским — назначен Тихон (Лященко). К 1935 г. в стране имелось 4 карловацких прихода. Но евлогианских общин было гораздо больше — 13.
До осени 1935 г. нацистские ведомства не проявляли заметного интереса к проблемам Русской Церкви, занимаясь первоочередными задачами формирования нового государственного аппарата. Существенные перемены произошли вскоре после создания по указу А. Гитлера от 16 июля 1935 г. Рейхсминистерства церковных дел (с 1944 г. Reichskirchenministerium — РКМ), главой которого был назначен Г. Керл. Это ведомство практически сразу же стало пытаться объединить приходы Русской Церкви в рамках одного церковноадминистративного округа. Унификация православной общины являлась частью общей политики, преследовавшей цель подчинить политическому и идеологическому контролю нацистов все сферы государственной и общественной жизни Германии. Развернутая с осени 1935 г. активная кампания была рассчи- тана, прежде всего, на международный пропагандистский эффект. В ходе унификации нацистские ведомства отдали предпочтение епархии РПЦЗ, так как считали эту Церковь консервативной в церковном и политическом плане, бескомпромиссной в отношении коммунизма и самой многочисленной по количеству прихожан за пределами СССР.
В конце 1935 – начале 1936 гг. впервые проявилось стремление включить в сферу влияния III Рейха Православные Церкви Юго-Востока Европы: Болгарскую, Греческую, Сербскую, Румынскую. Этот фактор оказал заметное влияние на нацистскую политику в отношении Русской Церкви, сыграло свою роль и желание изобразить режим в качестве ее защитника, в отличие от СССР, где в это время религиозные организации жестоко преследовались. Инициаторами осуществления и разработчиками плана унификации русской православной общины были чиновники РКМ, МИД, Рейхсминистерства пропаганды, гестапо и Внешнеполитической службы Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП). Главным объектом унификации стали евлогианские приходы. Германские ведомства не устраивала их организационная связь с церковным центром во Франции в условиях быстрого роста напряженности в отношениях двух стран. Кроме того, нацисты не без оснований подозревали евлогиан во враждебности идеалам III Рейха.
Германские власти надеялись, что в результате государственного признания карловацкой епархии произойдет добровольный переход в нее прихожан и духовенства евлогианской юрисдикции. 14 марта 1936 г. Г. Геринг подписал постановление Прусского правительства о предоставлении Берлинской и Германской епархии РПЦЗ статуса корпорации публичного права, одновременно был принят ее устав. А с октября 1936 г. нацистские ведомства, убедившись, что евлогианские общины не собираются добровольно переходить в епархию еп. Тихона, стали оказывать на них сильное давление. Долгое время это не приносило желаемых режимом результатов, хотя затем в 1937–1938 гг. несколько общин уступило оказываемому на них натиску.
К лету 1939 г. три прихода в Германии оставались верны владыке Евло-гию, и надежды на изменение их позиции у властей уже не было. Кроме того, в это время произошла оккупация германскими войсками Чехии с созданием особой области управления — Протектората, на территории которого проживал евлогианский епископ Сергий (Королев). Ему подчинялись две общины: в Праге и Брно. Между этим Владыкой и архиепископом Берлинским Серафимом (Ладе) было заключено компромиссное соглашение от 3 ноября 1939 г. Согласно его тексту пять общин — три в Германии и две в Протекторате — подчинялись викарному епископу митр. Евлогия Сергию и в то же время входили в карло-вацкую епархию.
Указанное соглашение сыграло в дальнейшем большую роль, фактически прекратив преследование евлогиан. По мере расширения нацистской агрессии количество евлогианских приходов в составе Германской епархии увеличилось с 5 до 13, и все они вышли в нее на основании соглашения от 3 ноября. Таким образом, нацистским ведомствам так и не удалось до конца сломить сопротивление евлогианского духовенства и мирян. Активное противостояние сравнительно небольшой группы (6–7 тыс. человек) и мощного репрессивного государства продолжалось более четырех лет и в итоге этому государству пришлось существенным образом уступить.
В 1938–1939 гг. в связи с расширением территории III Рейха чиновники РКМ приступили к реализации своей идеи распространения Германской православной епархии на все контролируемые области. В этой связи первоначально произошло присоединение к данной епархии православных общин в Австрии и Протекторате. Однако планы министерства относительно дальнейшего расширения епархии были реализованы лишь частично: в Бельгии, Люксембурге, Лотарингии, а позднее в Словакии и Венгрии. Другие нацистские ведомства все более и более явно выступали против них и, в конце концов, сделали невозможным осуществление стратегической линии РКМ на создание в Германии одного из влиятельных центров православного мира. В этом плане показательна неудача попытки организации в III Рейхе православного Богословского института.
Начало 22 июня 1941 г. нацистской агрессии против Советского Союза явилось рубежом, существенно изменившим положение Германской епархии РПЦЗ. Хотя РКМ пыталось сохранить свой прежний относительно благожелательный курс, все большую роль в определении церковной политики играли другие, принципиально враждебные Русскому Православию германские ведомства, прежде всего Партийная канцелярия и Главное управление имперской безопасности (Reichssicherheitshauptamt — РСХА). Всевозможные ограничения и стеснения вскоре коснулись различных сторон жизни епархии. Но речь фактически шла о большем — полном отказе от прежнего, проводимого РКМ, курса на распространение епархии на все, попадавшие в сферу нацистского контроля территории, с перспективой создания в будущем самостоятельной Германской Православной Церкви. Первые заметные коррективы этого курса произошли в 1940 г. на территории Генерал-губернаторства, но в основном он продолжался до лета 1941 г. и даже по инерции частично еще несколько месяцев. Стремление руководства НСДАП раздробить Русскую Церковь и вообще православный мир на враждующие между собой группировки больше не оставляло места для каких-либо объединительных тенденций.
В первых же, последовавших после нападения на СССР, директивах А. Гитлера и других руководителей III Рейха, в частности указаниях Рейхсминистерства занятых восточных территорий от 3 августа, приказах Верховного командования вермахта от 6 августа и шефа РСХА Р. Гейдриха от 16 августа 1941 г. говорится о полном исключении доступа заграничных священников на территорию СССР и содержится фактический запрет на расширение Германской епархии на Восток.
Важные изменения произошли и в практической деятельности русского духовенства. На территории III Рейха оказалось несколько миллионов их соотечественников: военнопленных и так называемых восточных рабочих или по-другому остарбайтеров, остов. Несмотря на первоначальные строгие запреты, православные священники всячески стремились окормлять их духовно. Также различными нелегальными и полулегальными путями оказывалась помощь в возрождении Церкви на оккупированной территории СССР. Преодолевая все ограничения и стеснения, к концу войны, прежде всего за счет притока новой паствы, Германская епархия РПЦЗ значительно выросла в количественном отношении. Подавляющее большинство ее священнослужителей честно исполняло свой пастырский долг, даря надежду и утешение в разгар военных бедствий.
В целом можно сделать вывод, что ни одна из частей или юрисдикций Русской Церкви не стала сотрудничать с национал-социалистами. Нацистским ведомствам не удалось полностью подчинить и сделать своим послушным орудием даже православную епархию на территории Германии. Здесь особенно сильное сопротивление продемонстрировали евлогианское духовенство и прихожане. К концу 1943 г. нацисты проиграли СССР и пропагандистскую войну в церковной области, что было особенно заметно на примере балканских стран. Так завершился «крестовый поход» под знаком свастики на Восток.
Окончание Второй мировой войны принесло с собой и новую волну эмиграции. Русское церковное зарубежье пополнилось несколькими сотнями тысяч бывших советских военнопленных, остарбайтеров, участников антикоммунистических военных формирований и просто беженцев из Советского Союза. При этом уже к началу 1950-х гг. основная их часть перебралась из Европы в Америку. Так, например, в 1948 г. из Мюнхена в Нью-Йорк переехал Архиерей- ский Синод Русской Православной Церкви Заграницей. Монахи из обители прп. Иова Почаевского в Чехословакии (бывшего крупнейшего центра русской духовной печати) также переселились сначала в Германию, а затем в США, в основанный в 1930 г. Свято-Троицкий монастырь в городке Джорданвилле (штат Нью-Йорк), где продолжили издательскую деятельность. При монастыре были организованы издательство прп. Иова Почаевского, иконописная мастерская, Свято-Троицкая Духовная семинария, библиотека, исторический музей и русское кладбище. Эта обитель до сих пор остается фактическим центром Русской Православной Церкви Заграницей.
В США после трудных военных лет была реорганизована Свято-Владимирская православная семинария, превратившись в полноценное высшее учебное заведение. Для переустройства учебного процесса туда переехал протоиерей Георгий Флоровский, ставший ректором, а за ним вскоре о. Александр Шмеман и о. Иоанн Мейендорф, которые определили высокий богословский и педагогический уровень этого учебного заведения. Ныне Свято-Владимирская Академия остается главным учебным заведением автокефальной с 1970 г. Американской Православной Церкви.
В тоже время во второй половине XX в. история русской церковной эмиграции характеризуется постепенным угасанием. В первые послевоенные годы еще продолжалась деятельность ряда прежних Российских Миссий за границей: в Палестине, Китае и Корее. Правда, Духовная Миссия в Иране сразу после окончания войны прекратила свое существование, а Корейская Духовная Миссия в 1955 г. перешла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата 7 . Духовная Миссия в Китае в тоже время была преобразована в Китайскую Православную Церковь, в основном разгромленную в период «культурной революции» 1960-х гг. Новое значительное оживление русской церковной жизни за границей произошло в 1990-е гг. уже после распада СССР.
Подводя итоги, следует отметить, что феномен Русского зарубежья XX в. заключался в его служении вечным истинам (в том числе христианству), ознакомлению европейской общественности с российскими вековыми культурными, нравственными и религиозными ценностями. Русский православный мир за границей в 1920-е – 1940-е гг. представлял собой целый материк, уже почти исчезнувший. Только в последнее время он привлек внимание исследователей. Их работа важна и для понимания современной церковной ситуации на европейском континенте. Именно русское эмигрантское духовенство сделало чрезвычайно много для развития Православия в Центральной и Восточной Европе, и плоды этих усилий ощутимы и в настоящее время.
Последние годы характеризуются возросшим интересом к Православию и православной культуре в русской диаспоре, что проявляется в значительном увеличении численности и влияния зарубежных приходов Московского Патриархата (достаточно привести в пример строительство обширного церковнокультурного комплекса с собором в Париже и открытие там же православной духовной семинарии). На основе деятельности таких приходов происходит соединение традиций русской эмиграции разных поколений и опыта церковного возрождения в современной России.
Историография избранной темы не очень велика. До сих пор отсутствует подготовленный комплексный труд по истории русской церковной эмиграции XX в. Только в начале 1990-х гг. началось обращение к колоссальным, не доступным ранее пластам документов российских архивов, а также зарубежным архивам Русской Православной Церкви, которые пока еще недостаточно введены в научный оборот.
Работы по избранной теме, носящие конкретно-исторический характер, можно условно разделить на пять основных групп. Труды советских исследователей, как правило, имеют очень общий, обзорный характер, к тому же несут идеологический отпечаток прежнего официального негативного отношения к религии 8 . Церковь в них зачастую представляется реакционным, антинародным институтом, а органы советской власти показаны исключительно в положительном плане.
Русской церковной эмиграции специально были посвящены книги А.А. Сулацкова, А.И. Руденко, Н.С. Гордиенко, П.М. Комарова, П.К. Куроч-кина9. В них церковная диаспора, особенно Русская Православная Церковь За- границей, почти всегда характеризуется резко негативно, как враждебная антисоветская сила, с которой следует активно бороться. В соответствии с господствовавшими в СССР стереотипами советские историки обвиняли все духовенство Русской Православной Церкви Заграницей в «социальном предательстве» и «национальной измене». Отличительной чертой работ этого направления было почти полное отсутствие документальной базы исследований. Те же ученые, которые использовали доступные им источники, интерпретировали их, исходя из заданных заранее идеологических посылок. Объективное изучение истории российского православного зарубежья в СССР было фактически невозможно. Главная причина такого положения заключалась в насильственно насаждаемом атеизме во всех сферах жизни общества. Положение изменилось лишь в начале 1990-х гг., когда ослабел идеологический диктат, и разоблачительный подход к истории Церкви и русской эмиграции перестал быть единственно возможным.
Вторую группу составляют труды церковных историков — священнослужителей и мирян Московского Патриархата, в которых затрагивается тема русской церковной диаспоры. Часть из этих работ написана еще в советский период, до сих пор не опубликована и хранится в виде рукописей в библиотеках духовных академий, другие были изданы: митрополита Мануила (Лемешевского), А.И. Кузнецова, А. Сергеенко и др.10 Значительное внимание в них уделялось истории обновленческого раскола, в том числе за границей. Другие же, оппозиционные митрополиту Сергию (Страгородскому), движения в Русской Церкви, пользовавшиеся поддержкой РПЦЗ, в основном специально изучал скончавшийся осенью 1995 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Сны-чев)11. С 1991 г. стали выходить общие работы по истории Русской Церкви в XX веке, уделявшие значительное внимание и церковной диаспоре. Наиболее известны из них труды профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина12.
На исследования церковных историков порой (главным образом до начала 2000-х гг.) ощутимо влияла их принадлежность к Московскому Патриархату. Как правило, доказывалась оправданность церковной позиции руководства Патриархата, несколько идеализировалось его отношение к советской власти, нередко излишне критически оценивалась деятельность Русской Православной Церкви Заграницей и т.п. Между тем, многие исторические труды священнослужителей и мирян Московского Патриархата содержат интересные фактические данные, что придает им несомненную ценность.
Определенный вклад в изучение темы внесли зарубежные (англоязычные, немецкие и др.) исследователи. Уже в 1950 – 1970-е гг. они высказали ряд гипотез и идей, позднее нашедших подтверждение в рассекреченных советских архивных материалах. Историками Д.В. Поспеловским, Н. Струве, У. Флетчером, Г. Штриккером и другими был создан ряд обобщающих монографий, в которых частично затрагивалась история русской церковной эмиграции 13 .
Однако среди работ зарубежных авторов имеются и остро политизированные исследования. Некоторые из пристрастных в своих взглядах историков считают священнослужителей Московского Патриархата (в том числе служивших за границей), пошедших на сотрудничество с советским правительством, предателями интересов России и Русского Православия. Практически вся советская действительность рисуется у этих авторов в черном цвете. Еще одна, сравнительно немногочисленная группа исследователей идеализирует отношения Церкви и советского государства, считая, что позиция Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) полностью оправдала себя.
Представители этой группы принадлежат, как правило, к левой интеллигенции (Д. Куртис, К. Грюнвальд и другие) 14 .
Д.В. Поспеловский так (в основном справедливо) писал в 1995 г. о своих зарубежных предшественниках: «...не будучи православными, а, часто плохо зная историю России и историю Русской Православной Церкви дореволюционного периода, они нередко совершали ошибки в суждениях и сравнениях, проявляли неспособность понять органические церковные процессы, внутреннюю (мистическую) жизнь Церкви» 15 . Следует отметить и ограниченность источниковой базы работ западноевропейских и американских историков — в российских архивах они почти не работали.
Четвертую группу составляет русская эмигрантская и диссидентская литература. Следует отметить, что если в 1920-е – 1930-е гг. за границей фактически не существовало расхождений в оценках между научными исследователями и публицистикой — СССР считался государством, стремящимся к уничтожению религии, то после Второй мировой войны ситуация существенным образом изменилась. Восстановление Патриаршества, проведение грандиозного Поместного Собора 1945 г., активная международная деятельность Московской Патриархии оказали сильное воздействие на позицию значительной части русской эмиграции и руководящие органы Церквей различных конфессий. Многие эмигранты перешли в юрисдикцию Московского Патриархата, представители же Русской Православной Церкви в Америке и Западноевропейского Русского экзархата стали относиться к ней достаточно лояльно. Непримиримой осталась лишь Русская Православная Церковь Заграницей, однако она в значительной степени оказалась в изоляции.
Между тем из российских эмигрантов историей церковной диаспоры занимались в основном священнослужители и миряне Зарубежной Русской Церкви. В целом работы русских эмигрантов чаще всего субъективны, пристрастны и обычно затрагивают ограниченный круг вопросов какого-то конкретного периода времени. Обобщающих, аналитических монографий ими написано не было. Тем не менее целый ряд работ эмигрантов содержит ценный фактический материал: А.А. Валентинова, К. Криптона, протопресвитера Михаила Польского, епископа Григория (Граббе), А.В. Карташева, протодиакона Владимира Степанова (Русака), И.А. Стратонова, Н.Д. Тальберга и др.16
Внутри четвертой группы существуют очень серьезные различия при оценке позиции Московской Патриархии, во многих случаях заметно влияние групповых пристрастий. Деятельность же Русской Православной Церкви Заграницей часто идеализируется. Кроме того, в силу объективных причин, вся эмигрантская и диссидентская литература имеет ограниченную источниковую базу, материалы российских архивов использовались в ней в небольшой степени.
С начала 1990-х гг. стала быстро расти новая российская историография темы. Усилившееся обращение ученых к теме было вызвано качественно новым отношением в условиях перестройки к малоизученным проблемам, неизвестным фактам истории российской диаспоры, месту и роли Русской Православной Церкви в переломные периоды истории. В это время отечественные историки получили доступ ко многим документам центральных и местных архивов, к исследованиям зарубежных авторов. Начало нового этапа положили юбилейные торжества по поводу 1000-летия принятия христианства на Руси в 1988 г.
Заметной вехой в изучении русской церковной эмиграции на родине стало издание в 1991 г. сборника «Русское зарубежье в год тысячелетия Крещения Ру-си» 17 . Эта книга была подготовлена известным российским историком Русского зарубежья М.В. Назаровым, хотя большинство авторов еще составили эмигранты или зарубежные ученые: протопресвитер Александр Киселев, А. Солженицын, Д. Поспеловский, Н. Рутыч и др.
По ряду спорных моментов отечественная историография заняла промежуточную позицию. Первоначально большинство российских историков — В.А. Алексеев, М.И. Одинцов, Ю.А. Бабинов, М.Н. Бессонов и другие сохраняли приверженность некоторым прежним концепциям, приукрашавшим религиозную политику советского государства и очернявшим русскую церковную эмиграцию18. Но постепенно под влиянием знакомства с рассекреченными до- кументами взгляды этих историков становились более объективными. В дальнейшем появились и принципиально новые работы следующего поколения российских ученых: А.А. Попова, А.Б. Ефимова, В.В. Антонова, А.В. Беляевой, Н.П. Крадина, С.С. Левошко, А.К. Никитина, С.А. Фомина, О.Ю. Васильевой, А.Н. Кашеварова, М.В. Шкаровского и др.
Общая история русской церковной эмиграции изучена в недостаточной степени. Краткий ее обзор содержится во вступительном томе «Православной энциклопедии» 19 . Из зарубежных работ можно назвать, прежде всего, книги А.А. Соллогуба и Г. Зайде.
Граф А.А. Соллогуб подготовил двухтомный труд «Русская Православная Церковь Заграницей»20, выход которого в 1968 г. стал большим событием в Русском зарубежье. Вот что писал об этой книге Первоиерарх РПЦЗ митрополит Филарет (Вознесенский): «Предлагаемый вниманию читателей труд графа А.А. Соллогуба является ценным вкладом в литературу Русского Зарубежья. Им восполняется, несомненно, существующий в этой литературе пробел. При всем том, что в жизни православных русских людей за рубежом, наблюдается немало печальных отрицательных явлений, в этой жизни есть одна в высшей степени ценная и отрадная черта и особенность. Действительность показала, что всюду, куда бы ни переселились эмигранты-изгнанники из своего отечества, одной из первых их забот была забота о создании Божия храма. За скорбные годы лихолетья было построено немало храмов — и всюду «в странах рассеяния» стоят они, построенные трудом и усердием русских людей, построенные на жертвы, принесенные иногда от скудости и нищеты, подобно лепте той вдовицы, которую так прославил за ее усердие Сам Господь и Владыка всяческих... Русские люди любят свои святыни. События последних лет совершенно изменили политическую карту земного шара. Русским беженцам приходилось, под влиянием этих политических перемен, уже и в рассеянии вновь и вновь менять места своего расселения, и оставлять на покидаемых ими местах свои жилища — и построенные там Божии храмы. Но, уходя от созданных ими святынь, они сохраняли живую память о них и любовь к ним. И соответствующие сним- ки, фотографии, печатные заметки и сведения о храмах, о церковной жизни и о церковных деятелях, русский человек бережно хранит, ибо со всем этим у него связано так много добрых и светлых воспоминаний. А.А. Соллогуб взял на себя трудную задачу — составить труд, в котором были бы собраны по возможности полно сведения о церковной жизни и церковном строительстве Русского Зарубежья... Храмы и приходы, почившие и здравствующие иерархи и церковные деятели Зарубежья — вся минувшая и протекающая церковная жизнь русских людей за рубежом отразилась в снимках и пояснительных статьях этой книги…»21.
При этом все же труд А.А. Соллогуба нельзя назвать научной монографией, в действительности он представляет собой лишь беглый обзор истории РПЦЗ, дополненный подробным описанием всех приходов, находившихся в юрисдикции этой конфессии на момент написания книги.
Немецкий церковный историк, в дальнейшем ставший православным священником Гернот (в Православии Георгий) Зайде в нескольких своих книгах, до сих пор не переведенных на русский язык, достаточно квалифицированно описал общую историю Русской Православной Церкви Заграницей, однако многие важные сюжеты у него изложены слишком кратко 22 . Кроме того, отец Георгий не использовал материалы российских архивов, в частности фонд Архиерейского Синода РПЦЗ в Государственном архиве Российской Федерации.
На роль обобщающего исследования претендует и трехтомник протодиакона Владимира Степанова (Русака) 23 . Однако он является не научным исследованием, а страстной и достаточно наивной публицистической книгой, страдающей нарушением хронологии, отсутствием последовательности изложения, обилием фактических ошибок. Наконец, краткая история Зарубежной Русской Церкви изложена в одноименном труде святителя архиепископа Иоанна (Максимовича), дополненном протодиаконом Владимиром Степановым (Русаком) 24 .
В 2001 г. в России была опубликована монография английского исследователя В. Мосса «Православная Церковь на перепутье (1917–1999)» 25 . В этой монографии предпринята попытка изучить все основные ветви Православия в XX веке, помимо подробного анализа положения Русской Православной Церкви за рубежом в работе рассматриваются Православные Церкви Польши, Украины, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши, Венгрии, Румынии и ряда других стран. При этом В. Мосс, к сожалению, далек от объективности. Его явное пристрастие к сугубо консервативным, антиэкуменическим течениям, как правило, мешает объективному изучению исторических событий. В 2002 г. в университете г. Тампа во Флориде (США) была защищена неплохая диссертация Кристофера Д. Мартинеза, посвященная истории Русской Православной Церкви Загра-ницей 26 . Но в виде монографии она пока не вышла.
Некоторые общие сюжеты истории русской церковной диаспоры рассматривал в своих трудах московский исследователь М.В. Назаров 27 . Правда, его книги представляют собой скорее историософские, чем научные исторические труды, они пронизаны идеологическими концепциями о «всемирном заговоре» и т.п. и практически не имеют научно-справочного аппарата. В 2009 г. выпустил монографию по истории русской церковной эмиграции петербургский историк М.В. Шкаровский 28 . Она базируется на богатом архивном материале, но ограничена хронологически (периодом 1920-х – 1940-х гг.) и территориально (Центральной и Восточной Европой).
Первой по хронологии из частных спорных тем рассматриваемой проблемы является история формирования российской православной диаспоры в 1917–1920-х гг. и ее болезненное разделение на четыре части: зарубежные приходы Московского Патриархата, Русская Православная Церковь Заграницей, Западно-Европейский экзархат и Американская митрополия. Большую часть XX в. представители каждой из этих четырех частей доказывали правильность своей позиции и критиковали действия остальных.
Первым из посвященных данной тематике трудов священнослужителей Московского Патриархата была опубликована монография профессора Санкт-
Петербургской православной духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова «Православная Церковь в России и эмиграции в 1920-е годы. К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в период 1920–1927 гг.» 29 . Книга отца Георгия до сих пор относится к тем очень немногим монографиям, непосредственно посвященным данной проблеме. Определенное значение для историков русского зарубежного Православия имеет упоминавшаяся посвященная Русской Церкви в XX веке работа протоиерея Владислава Цыпина, так как она содержит раздел «Церковная диаспора 1920–1937». В этих трудах осуждалось создание Русской Православной Церкви Заграницей и говорилось о неканоничности этого шага 30 .
В дальнейшем протоиерей Георгий Митрофанов принял активное участие в процессе восстановления канонического общения РПЦЗ с Московским Патриархатом, и его позиция в отношении РПЦЗ изменилась в более благожелательную сторону, что отразилось в ряде работ ученого 31 . В середине 2000-х гг. вышла монография преподавателя Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета А.А. Кострюкова, посвященная истории Зарубежной Русской Церкви в первой половине 1920-х гг. 32 Выделяясь солидной источниковой базой и объективным подходом, она стала заметным вкладом в изучение проблемы.
Другой важной темой является история советской религиозной политики на международной арене, в том числе в отношении русской церковной эмиграции в годы Второй мировой войны и послевоенный период. Эта проблема более 60 лет привлекает внимание исследователей. Зарубежные историки уже в 1950–1970-е гг. высказали ряд гипотез и идей, позднее нашедших подтверждение в рассекреченных советских архивных материалах. Написавший несколько книг У. Флетчер выделил 1945–1948 гг. как период особенно активного содей- ствия Русской Церкви советским внешнеполитическим акциям. В то же время он датирует начало деятельности Московской Патриархии как «проводника советского империализма» апрелем 1945 г., а не осенью 1943 г., рассматривает только два основных аспекта задач Русской Церкви на международной арене в «сталинскую эпоху». Не оправдывает себя и выделение в качестве последовательных этапов установление контроля Московской Патриархии над Православными Церквами Восточной Европы и попытки получить гегемонию (во многом через церковную эмиграцию) в других регионах — эти акции осуществлялись фактически одновременно. У. Флетчер предвзято оценивает внешнюю деятельность Русской Церкви исключительно с политических позиций33.
Следует также упомянуть работы Н. Струве, М. Спинки и У. Коларза 34 . Первый из этих историков, подчеркивая, что внешние связи Московской Патриархии являются областью, в которой ее зависимость от государства ощущалась более всего, верно отмечал связь уступок в интересах Церкви с последующими важными международными акциями Патриархии. Однако исторический обзор Н. Струве носит беглый характер и в основном сосредоточен на «хрущевском» периоде и реакции верующих на гонения этого времени. В целом неплохим монографиям М. Спинки и У. Коларза присущи многие названные недостатки трудов У. Флетчера. Большинство западных историков преувеличивает степень контроля государства над Русской Церковью, не учитывает обратного воздействия, вынужденности считаться с интересами миллионов верующих.
Большой раздел, посвященный российской церковной диаспоре, содержится в работе канадского профессора Д.В. Поспеловского «Русская Православная Церковь в XX веке». Для богатых фактическим материалом, несомненно, ценных в научном плане книг Д.В. Поспеловского характерно, однако, некритичное, дословное воспроизведение большого количества нарративных источников. Кроме того, ему порой не хватает объективности: Д.В. По-спеловский явно симпатизирует русскому Западно-Европейскому экзархату и автокефальной Американской Православной Церкви (к которой сам принадлежит), чрезвычайно жестко оценивая деятельность Русской Православной Церкви Заграницей 35 .
В российской историографии, по существу, первым к данной теме обратился В.А. Алексеев. В 1991–1992 гг. он написал две монографии, в которых частично рассматривается и советская политика в отношении церковной эмигра-ции 36 . Алексеев собрал интересный фактический материал, выдвинул ряд обоснованных гипотез. Однако автор не уделяет должного внимания позиции духовенства и мирян. При изучении действий государства отсутствует комплексный подход, исследуются, главным образом, идеологические аспекты. В.А. Алексеев — бывший работник аппарата ЦК КПСС; как и в своих статьях 1980-х гг. он несколько идеализирует государственно-церковные отношения.
Таким же недостатком страдает небольшая по объему монография М.И. Одинцова «Государство и Церковь в России. XX век». Основное внимание в ней уделяется изучению деятельности государственных органов, непосредственно осуществлявших советскую политику в религиозном вопросе. Попытки совместить представления 1980-х гг. с информацией из рассекреченных архивных фондов порой приводили автора к противоречащим друг другу утвержде-ниям 37 .
От упомянутых книг В.А. Алексеева и М.И. Одинцова выгодно отличаются работы О.Ю. Васильевой, частично исследовавшей деятельность созданного в 1943 г. Совета по делам Русской Православной Церкви на международной арене38. Другие публикации О.Ю. Васильевой освещают попытки сделать сразу после окончания войны Московскую Патриархию «Православным Ватиканом» и ожесточенной борьбе с настоящим Ватиканом, что заметным образом влияло на общую картину39 . Большое внимание истории советской религиозной политики на международной арене, в том числе по отношению к эмиграции, в своей монографии «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве» и ряде других работ уделяет М.В. Шкаровский40.
Существенный вклад в изучение деятельности Совета по делам Русской Православной Церкви в отношении русской церковной диаспоры внесла челябинская исследовательница Т.А. Чумаченко, правда, она, как представляется, безосновательно взяла в качестве хронологических рамок своей монографии период 1941–1961 гг. 41 История подобной деятельности Совета по делам Русской Православной Церкви освещается в книге И.В. Шкуратовой 42 .
Коллективный труд Т.В. Волокитиной, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носковой и одна из работ М.И. Одинцова посвящены советской религиозной политике в странах Восточной Европы в годы войны и первое послевоенное десятилетие, для которой в то время был характерен ярко выраженный «наступательный» характер, в том числе по отношению к русской церковной эмиграции, которую всю пытались включить в состав Московского Патриархата (впрочем, большей частью это был добровольный процесс) 43 .
Священнослужители Московского Патриархата лишь недавно начали писать об истории советской религиозной политики на международной арене, в том числе в отношении русской церковной эмиграции. При этом в затрагивающих данную тему трудах церковных историков порой встречаются очень разные оценки. Так, профессор-протоиерей Владислав Цыпин в своих объемных книгах («История Русской Церкви. 1917–1997 гг.» и др.) избегает обобщающих выводов и полемических крайностей, достаточно спокойно излагает самые трагические события. Он уделяет большое внимание положению Церкви в годы Великой Отечественной войны, включая ее внешние связи, расширение юрисдикции и преодоление расколов и разделений. Определенным недостатком работ отца Владислава является слабое использование архивных источников44.
Гораздо более резким в своих оценках был митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). Он считает, что перелом в церковно-государственных отношениях произошел еще до войны, «когда созрели предпосылки пробуждения русского патриотизма и национального самосознания народа, которым к тому времени два десятилетия правили, от имени которого беззастенчиво выступали откровенные русофобы. Когда же война со всей остротой поставила вопрос о физическом выживании русского народа и существовании государства, в национальной политике советского руководства произошел настоящий переворот» (сходную мысль о предвоенном времени высказывает архимандрит Рафаил (Карелин)). Митрополит Иоанн в целом приветствует сталинскую религиозную политику после 1943 г. (в том числе на международной арене и по отношению к русской диаспоре), предполагает, что благоприятный для Церкви этап завершился со смертью И.В. Сталина в 1953 г. и наступившая сразу же вслед за этим хрущевская оттепель сопровождалась отказом от национально-патриотических элементов официальной идеологии, ее окончательным переводом на интернациональные рельсы и соответственно новым витком антицерковных гонений (как результат процесса «десталинизации») 45 . Прямо противоположную, резко антикоммунистическую и антисталинскую позицию занимает протоиерей Георгий Митрофанов 46 .
Следующей спорной темой является германская религиозная политика и реакция на нее русской церковной эмиграции в годы Второй мировой войны. Среди опубликованных трудов немецких и американских ученых, частично посвященных нацистской политике в отношении Русской Православной Церкви в Германии и на оккупированной территории Восточной Европы, следует назвать монографию Х. Файерсайда. Это серьезное исследование, хотя работа и страдает определенной узостью источниковой базы, следствием чего стали некоторые пробелы и неточности, кроме того, автор недостаточно разбирается в канонике и истории Православия. Полностью противоречат архивным документам утверждения Файерсайда, что нацисты стремились использовать православных клириков в Германии «в качестве пятой колонны для покорения Церкви внутри СССР», Берлинский митрополит Серафим (Ляде) якобы был объявлен ими «вождем всех православных в III Рейхе и на подконтрольных ему территориях», и в свою очередь имел большие властные амбиции, а православная Германская епархия являлась «пронацистским церковным движением»47.
В немалой части послевоенной публицистики эффективность конструктивной германской церковной политики на Востоке по различным причинам преувеличивалась. Зачастую это сочеталось с переоценкой возможности психологического и политического ведения войны. Подобные идеи отчасти характерны для фундаментальной книги американского ученого А. Даллина 48 . Еще яснее они выражены в другой работе этого автора, где обращается внимание на необходимость избежать ряда ошибок в будущей войне с СССР 49 . Анализируя политику нацистов на занятых восточных территориях, Даллин уделяет внимание и церковным вопросам. В частности, он справедливо подчеркивает двойственность политики германских ведомств: «В сущности, влияние Церквей хотели искоренить, но одновременно использовать их как инструмент пропаганды». Но нельзя согласиться с утверждением ученого о том, что после выборов Патриарха в Москве (сентябрь 1943 г.) в нацистском аппарате те, кто одобрял «политические усилия Русской Церкви», взяли верх над теми, кто хотел ее игно-рировать 50 . Процесс определенного изменения церковной политики на Востоке, который начался с осени 1943 г., был достаточно слабовыраженным, непоследовательным и охватил не все германские ведомства.
Ряд обоснованных аргументов против «конструктивности» нацистской политики на Востоке привел немецкий ученый Г. Рейтлингер. К сожалению, в своей книге о гитлеровской политике насилия в России он почти не касался церковных вопросов51. Большой интерес представляет статья другого немецкого ученого Х.-Х. Вильгельма «СД и Церкви на занятых восточных территориях 1941/42», содержащая много ценных фактических данных и наблюдений о меж- доусобной войне германских ведомств. В то же время автор ограничился использованием почти исключительно документов Архива Института современной истории в Мюнхене. В результате Вильгельм сделал целый ряд сомнительных или ошибочных выводов. Например, он писал, что лишь осенью 1941 г. на занятых восточных территориях «постепенно возник скорее все еще побочный интерес к различным конфессиям... Исключительно прикладной интерес развивался в первую очередь у компетентных подразделений Главного управления имперской безопасности [Reichssicherheitshauptamt, сокращенно РСХА], а затем у гражданской администрации и вермахта»52. Между тем первые указания относительно проведения церковной политики на Востоке последовали от Гитлера уже в июле 1941 г., а органы гражданского управления уделяли этой проблеме не меньше внимания, чем РСХА. Автор преувеличивает внутрицерковную борьбу, как и степень сотрудничества священнослужителей с нацистами, и явно недооценивает масштабы и потенциальную возможность церковного возрождения в России. Но его общий приговор церковной политике полиции безопасности и СД вполне справедлив53.
Наиболее фундаментальным трудом немецких ученых по истории русской православной общины в Германии в XX веке является книга К. Геде. Эта исследовательница подробно рассматривает основные этапы унификации евло-гианских приходов, справедливо подчеркивая большое значение закона о земельной собственности Русской Церкви в Германии от 25 февраля 1938 г., анализирует позицию различных представителей православного духовенства. Значительный интерес в связи с этим представляет особый раздел «Русская Православная Церковь в Германии и антифашистское сопротивление», содержащий ряд неизвестных прежде фактов. Нацистская же политика в отношении Русской Церкви во время войны из-за недостатка материала изложена очень схематично, причем делается заключение, что в 1944 г. эта Церковь по политическим причинам была полностью «выведена из игры». На самом деле именно в это время нацистские ведомства гораздо активнее, чем в 1941–1943 гг., старались использовать ее в пропагандистско-политических целях. Нельзя согласиться и с утверждением Геде, что православный Берлинский митрополит Серафим (Ляде) стремился к самостоятельности от Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), то есть к созданию особой Германской Православной Церк- ви. Но эти и другие отдельные недостатки работы объясняются тем, что у исследовательницы в свое время не было возможности работать в российских (советских) и некоторых западногерманских архивах54.
Самым непосредственным образом участвуют немецкие ученые и в дискуссии по проблемам истории Русской Православной Церкви Заграницей в 1933–1945 гг. Так, в 1980–1982 гг. появились две небольшие книги В. Гюнтера, которые преследуют скорее пропагандистские, чем научные цели. Автор относит себя к определенному течению в Русской Церкви и стремится доказать историческую правоту евлогиан, входивших в русский Западно-Европейский экзархат под управлением митрополита Евлогия (с 1931 г. в юрисдикции Константинопольского Патриарха), не пытаясь разделить позицию нацистского государства и РПЦЗ в гонениях на евлогианскую общину в Германии 55 .
В. Гюнтеру возражает в своих упоминавшихся работах немецкий историк Г. Зайде. Он пишет о некорректности обвинений РПЦЗ в сотрудничестве с нацистским режимом, но при этом не рассматривает механизма гонений на евлоги-ан и их сопротивления унификаторским акциям нацистских ведомств. Вполне справедливы утверждения Г. Зайде, что митрополит Серафим (Ляде) не стремился к территориальному расширению православной Германской епархии за счет оккупированных нацистами территорий. В то же время нельзя согласиться с утверждением автора, что Архиерейская конференция осенью 1943 г. в Вене завершает первую фазу истории Русской Православной Церкви Заграницей, так как в 1944 – начале 1945 гг. деятельность РПЦЗ даже активизировалась, хотя и проходила в основном в прежнем ключе.
Уже несколько десятилетий в эмигрантской литературе идет полемика о проблеме взаимоотношений Русской Православной Церкви Заграницей с нацистскими ведомствами. Так, в своих изданных впервые в 1947 г. воспоминаниях глава русского Западно-Европейского экзархата митрополит Евлогий (Георгиевский) пишет о соучастии РПЦЗ в унификаторских акциях нацистов против германских общин евлогиан, продиктованном стремлением увеличить свою паству и завладеть всей русской церковной собственностью в этой стране. Но подобные обвинения направлены, прежде всего, в адрес главы Германской епар- хии РПЦЗ до 1938 г. архиепископа Тихона (Лященко), что в значительной степени справедливо. В адрес Собора или Архиерейского Синода прямых обвинений не выдвигается56.
Много внимания русской церковной жизни в нацистской Германии уделяет архиепископ Иоанн (Шаховской) в книге «Письма о вечном и временном», посвятив этому вопросу специальную главу «Город в огне» 57 . В 1936–1945 гг. Владыка в сане архимандрита возглавлял германские общины евлогиан и был непосредственным участником событий. Относительно РПЦЗ он пишет нейтрально, в целом положительно оценивает личность главы православной епархии Германии в 1938–1945 гг. митрополита Серафима (Ляде) и сообщает большое количество ценных сведений о поддержке и помощи, оказанной русским духовенством на территории III Рейха советским военнопленным и восточным рабочим.
Очень резок в своей полемично заостренной против РПЦЗ книге С.В. Троицкий. Он однозначно негативно оценивает позицию главы этой Церкви митрополита Анастасия в период нацистской агрессии против СССР и даже делает вывод, что последний содействовал нацистам и в чисто военных делах. Подобные заключения Троицкого иногда противоречат им же самим приводимым фактам, в частности признанию, что митрополит Анастасий с начала войны не издал прямых письменных заявлений в пользу А. Гитлера 58 .
В свою очередь священнослужители и миряне Русской Православной Церкви Заграницей в большом количестве работ защищают свою юрисдикцию от обвинений в сотрудничестве с нацистами. В трудах протопресвитера Михаила Польского, епископа Григория (Граббе), И. Зализецкого опровергаются утверждения о прогерманской позиции Русской Православной Церкви Заграницей в годы Второй мировой войны и подробно освещается ситуация в РПЦЗ в этот период59. Далеко не со всеми их выводами можно согласиться, но многое находит подтверждение на новом архивном материале. В частности, справед- ливыми представляются утверждения о патриотизме русского зарубежного духовенства, негативном отношении к нему нацистских ведомств в период войны против СССР, кардинальном отличии позиции руководства РПЦЗ в целом и ее Германской епархии от экспансионистских планов нацистского режима. Правда, в указанных работах не говорится о некоторых серьезных просчетах и ошибках членов Архиерейского Синода, например, в оценке нацистских планов относительно России накануне нападения на СССР. В некоторых публикациях мемуарного характера священнослужителей РПЦЗ можно почерпнуть интересные фактические данные, прежде всего, в статье «Архиерейский Синод во Вторую мировую войну» епископа Григория (Граббе)60 и изданных под псевдонимом Е. Нельской воспоминаниях архиепископа Нафанаила (Львова)61.
Советские историки деятельность Русской Православной Церкви в годы Второй мировой войны за пределами СССР фактически не изучали, ограничиваясь голословными обвинениями РПЦЗ в сотрудничестве с фашистами 62 . С 1990-х гг. в России стали появляться труды, рассматривающие те или иные аспекты темы. В частности, политика нацистского руководства в отношении различных конфессий на территории Германии была серьезно изучена в монографии московской исследовательницы Л.Н. Бровко 63 .
Значительный вклад в изучение истории русских православных приходов на территории Германии в 1933–1945 гг. и на некоторых оккупированных немецкими войсками территориях достаточно серьезно исследовал московский историк А.К. Никитин64. На большом архивном материале автор опроверг утверждения о пронацистском характере деятельности руководства Германской епархии РПЦЗ, попытался проанализировать взаимоотношения различных русских православных юрисдикции с германскими ведомствами, определить цели и этапы соответствующей политики нацистского режима. Правда, изучение этой политики применительно лишь к территории III Рейха сильно затруднило выявление ее общих закономерностей и особенностей. Сказались и определенные пробелы в источниковой базе — использование только российских архивов, в то время как большинство документов по этой теме все-таки хранится в Германии. Поэтому, например, А.К. Никитин фрагментарно осветил окормление русскими священниками военнопленных и восточных рабочих в 1941–1945 гг., писал только о попытке создания православного Богословского института в Берлине, не зная, что подобная попытка ранее предпринималась в Бреслау (Вроцлаве) и т.д. В целом же его работы, несомненно, представляют большую научную ценность, и с большинством выводов автора можно согласиться.
Фундаментальную монографию, исследующую исторический опыт формирования, осуществления государственной политики нацистской Германии в отношении Православия и развитие Русской Церкви как института и социального организма в III Рейхе и на оккупированной территории балканских государств, Польши и СССР написал М.В. Шкаровский 65 . При работе над книгой автор ставил перед собой следующие задачи: определение факторов, влиявших на немецкую политику по отношению к Русской Православной Церкви; выделение ее этапов и их основных характеризующих черт, изучение деятельности органов, непосредственно осуществляющих данную политику, выявление ее целей и результатов; определение реакции различных юрисдикции и течений Русской Церкви на действия национал-социалистических ведомств; изучение феномена религиозного возрождения на занятых восточных территориях — выяснение его причин, масштабов и последствий; рассмотрение воздействия немецкой церковной политики на изменение политики правительства СССР в религиозном вопросе.
Согласно выводам М.В. Шкаровского важнейшие акценты нацистской политики заключались в проведении Рейхсминистерством церковных дел во второй половине 1930-х гг. унификации русских приходов и планировании создания автокефальной Германской Православной Церкви; попытке после начала войны с СССР расколоть Русскую Церковь на несколько враждующих течений и в тоже время пропагандистски использовать стихийное религиозное возрождение на занятых восточных территориях; намерениях после окончания войны создать для народов Восточной Европы «новую религию», обязательную для подданных III Рейха.
История русской церковной эмиграции в годы Второй мировой войны тесно связана с темой ее участия в деятельности российских антисоветских воинских формирований. Истории самого значительного из подобных формирований — власовского и личности самого генерал-лейтенанта А.А. Власова посвящено большое количество мемуарной, популярной и научной литературы 66 . Однако связи этого движения с Русской Православной Церковью и окормле-ние российским духовенством некоторых, возглавляемых Власовым воинских частей, до настоящего времени остается малоизученной. Исключением в этом плане являются две небольшие книги мемуарного характера бывших участников движения — протопресвитера Александра Киселева и протоиерея Димитрия Константинова, специально посвященные проблеме духовного окормления так называемой Русской освободительной армии (РОА) 67 . Оба автора в годы войны непосредственно осуществляли эту функцию и показали в своих работах, что русское зарубежное духовенство выполняло в армии генерала Власова чисто церковную миссию, не занимаясь какой-либо политической деятельностью.
Создание и боевой путь одного из самых крупных антисоветских российских воинских формирований — 15-го казачьего кавалерийского корпуса, воевавшего в 1943–1945 гг. на территории Югославии, частично освящались в работах российских и эмигрантских историков. При этом его церковная жизнь, служение духовенства корпуса оставалась вне поле зрения исследователей68. История такого уникального явления, как существование с августа 1944 по май 1945 гг. в северо-восточной области Италии — Карнии (Фриули) Казачьего Стана также уже привлекала внимание историков. Основные труды были написаны итальянскими исследователями: П. Карньером, Г. Вениром, П. Дьетто69; некоторые сюжеты этой истории освещались и в работах российских, прежде всего эмигрантских авторов: П.Н. Донскова, В.Г. Науменко, А.К. Ленивова, Н.Д. Толстого, Ю.С. Цурганова и др.70 Однако почти никто из них не изучал деятельность духовенства, игравшего заметную роль во многих сферах жизни Казачьего Стана. В последние годы серию статей, посвященных церковной жизни всех четырех значительных антисоветских российских воинских формирований: 15-го казачьего кавалерийского корпуса, Русского корпуса в Югославии, Казачьего Стана и власовской РОА написал М.В. Шкаровский71.
Послевоенный период истории русской церковной эмиграции изучен меньше. В своей направленной против Русской Православной Церкви Заграницей книге профессор Белградского университета С.В. Троицкий резко негативно оценивает деятельность руководства РПЦЗ и во второй половине 1940-х – 1950-х гг., без всяких оснований полагая, что оно выступало за войну США и их союзников против СССР72. С Троицким активно полемизировали священнослужители Русской Православной Церкви Заграницей протопресвитер Михаил Польский и епископ Григорий (Граббе), подробно освещавшие в своих упоми- навшихся трудах борьбу в Русском Православии за рубежом в середине и второй половине 1940-х гг.73
В современной российской историографии послевоенному периоду в основном посвящены работы профессора Нижегородского университета А.А. Корнилова 74 , который в 1998 г. организовал и возглавил Лабораторию по изучению Русского зарубежья в Нижнем Новгороде, ставшую заметным научным центром.
К настоящему времени достаточно много сделано для изучения биографий русских зарубежных священнослужителей, хотя в этой области еще предстоит большая работа. Относительно полно освящены биографии архиереев Московского Патриархата, в том числе перешедших в его юрисдикцию из РПЦЗ, в труде протодиакона Александра Киреева 75 . Митрополит Мануил (Лемешев-ский) также оставил после себя многотомный труд, охватывающий биографии всех православных епископов с 1893 по 1965 гг. 76 Еще раньше работу, содержащую подборку биографий русского православного епископата за 1941–1953 гг., написал эмигрантский историк В.И. Алексеев 77 .
В 2000-е гг. вышли две работы, специально посвященные биографиям служивших за границей русских церковных деятелей: Антуана Нивьера и В.И. Ко-сика 78 . А.А. Корнилов также подготовил биографический словарь русского духовенства, окормлявшего так называемых «перемещенных лиц» из СССР после окончания Второй мировой войны 79 .
Среди опубликованных работ об известных деятелей Зарубежной Русской Православной Церкви следует также отметить книги о святителе архиепископе Иоанне (Максимовиче) и фундаментальный труд иеромонаха Дамаскина (Хри-стенсена), посвященный иеромонаху Серафиму (Роузу) 80 .