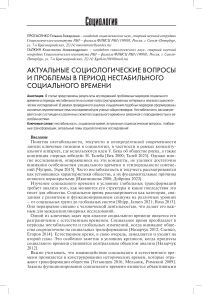Актуальные социологические вопросы и проблемы в период нестабильного социального времени
Автор: Протасенко Т.З., Галкин К.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследований проблемных маркеров социального времени в периоды нестабильности на основе полуструктурированных интервью и анализа социологических исследований. В рамках проведенного анализа и выделения подобных маркеров сформированы основные перспективные темы исследований для ученых-обществоведов. Нестабильность рассматривается как состоящая из различных сюжетов социального времени и связанная с повседневностью и ее особенностями.
Нестабильность, социальное время, актуальные социологические вопросы, глобальные трансформации, актуальные темы социологических исследований
Короткий адрес: https://sciup.org/170211076
IDR: 170211076
Текст научной статьи Актуальные социологические вопросы и проблемы в период нестабильного социального времени
Понятия нестабильности, текучести и неопределенной современности заняли ключевые позиции в социологии, в частности в рамках концептуального аппарата, где используются идеи У. Бека об обществе риска, а также концепция «черных лебедей» Н. Талеба [Бек 2000; Талеб 2023]. Однако многие исследования, опирающиеся на эти концепты, не уделяют достаточно внимания особенностям социального времени и темпоральности изменений [Чупров, Эзри 2015]. Часто нестабильность и текучесть рассматриваются как устоявшиеся характеристики общества, а их фундаментальные причины остаются нераскрытыми [Иконникова 2008; Добрина 2023].
Изучение социального времени в условиях глобальных трансформаций требует анализа того, как меняются его структуры и какие последствия это несет для общества. Социальное время рассматривается как категория, связанная с развитием и функционированием социума на различных уровнях – от социальных групп до глобальных систем [Shipp, Jansen 2021; Rosa 2013]. Оно неразрывно связано с человеческой деятельностью, что делает его важным для междисциплинарных исследований.
Одной из ключевых задач при анализе социального времени является его разграничение с естественным временем. Социальное время преобладает в периоды нестабильности и глобальных изменений, когда внимание общества сосредоточено на социальных трансформациях [Назарчук 2012; Саенко, Егоров 2014]. Естественное время, в свою очередь, замедляется и уходит на второй план. Это особенно заметно в условиях кризисов, когда процессы социального времени становятся центральным объектом анализа [Назарчук 2012].
Важно учитывать, что взаимодействие социального и естественного времени проявляется в конструировании исторических времен, которые отражают трансформации общества [Устьянцев 2016; Мельник, Римский 2009]. Законы функционирования социального времени являются объективными и встроенными в социальные практики, а не внешними по отношению к ним. Исследование настоящего социального времени дает возможность задуматься о будущем, которое станет полем для новых социальных проектов [Пилипенко 2014]. Будущее социальное время связано с поиском моделей, способных разрешить текущую нестабильность и предложить новые стратегии развития общества. Однако данный аспект пока остается малоизученным, что открывает перспективы для дальнейших исследований.
В статье рассматриваются проблемные маркеры социального времени «в новой реальности», которая начала формироваться в период пандемии в нашей стране. Авторы анализируют характеристики «новой реальности» в различных сферах жизни общества, а также реакции семей и различных слоев населения на эти явления. Выводы основаны на информации, полученной из мини-интервью, проводимых авторами исследования по определенным темам (в среднем 50–60 ед. каждый год, 2022–2024 гг.), и на основе анализа социологических источников по современным трендам исследований.
Проблемный маркер социального времени: цифровизация
Ускоренные темпы цифровизации общества носят амбивалентный характер. Наряду с плюсами этого явления (о чем немало написано), стали все больше проявляться ее минусы, опасные явления как для общества в целом, так и для отдельного человека [Parviainen et. al. 2017; Clauberg 2020]. Живой человек изымается из процессов общения, из социализации, виртуальная среда ведет, как ни странно, к автономизации, когда человек лишает себя контактов с другими и не способен найти общий язык с ними [Ивановский 2021]. Цифровизация многих процессов, особенно в сфере взаимодействия различных общественных образований, ведет к цифровому мошенничеству, когда базы данных «гуляют» не только внутри страны, но и по всему миру, проверить же, насколько точна и адекватна поступающая информация, трудно. Тем не менее многие структуры, например Ростелеком, полностью перешли на дистанционное общение, в т.ч. на дистанционную оплату, проверку счетов и т.п., отказавшись от офисов. Проверить точность требований, претензий, поступающих от различных организаций, также трудно. Для того чтобы разобраться в ситуации, требуется навык работы в виртуальной среде, гаджеты, и тратится на это большое количество времени [Лычагина 2021; Долгушев, Тихонова 2019]. Таким образом, работа, которая ранее делалась клерками, перекладывается на пользователя.
Если у человека нет гаджета или он не умеет пользоваться приложениями, он оказывается за бортом, чувствует себя человеком второго сорта. Фактически – это цифровое неравенство, которое ведет и к усилению экономического и социального неравенства [Волченко 2016]. Человек, не имея доступа к «цифре», теряет деньги, привилегии, разного рода бонусы, не знает о многих льготах, эта ситуация уже давно обозначена термином «цифровой концлагерь». Появился термин «цифровой стресс», поскольку «цифра» может приводить к депрессии. Появилась боязнь «личных кабинетов» [Рубцова, Леньков 2020], страх, что могут украсть информацию, деньги. Экспресс-опрос 50 чел. старше 60 лет показал, что пятеро из них хотят отказаться от получения пенсии на банковскую карту и хотят получать деньги по почте или на дом «живыми» деньгами, поскольку были попытки этих респондентов обмануть.
Цифровизация может вести к уменьшению голосового общения (прежде всего по телефону), поскольку возможна имитация голосов, использование информации мошенниками. Цифровизация, изначально ориентированная на расширение общения, в реальности сокращает живые связи и знакомства, осложняет создание семьи и снижает ориентацию на рождение детей. Для привлечения молодежи к семейной жизни изобретаются весьма необычные формы живых контактов. Следует отметить, что психологи и социологи детства отмечают, что цифровизация приводит к сокращениям контактов и проблемам социализации у детей [Михайлова, Штратникова, Уржумова 2020]. Для молодежи, например, организуются «слепые» свидания (мостик между виртуальной и живой средой), когда сначала людей знакомят в темноте, вслепую, они таким образом какое-то время общаются, и лишь потом происходит знакомство при свете и в другом помещении. Результаты бывают очень неожиданными, и цели не оправдывают средства.
Проблемный маркер социального времени: переформатирование рынка труда
За последние два-три года произошло резкое переформатирование рынка труда, трудовой сферы – от безработицы перешли к дефициту кадров во многих отраслях [Чекмарев, Ильвес, Конев 2023; Колесникова, Маслова, Околелых 2023]. Объявлениями с приглашениями на работу заполнены онлайн-про-странства, однако найти достойную работу непросто. Работодатели не готовы платить адекватную заработную плату [Каширин 2024; Курбатова, Пермякова 2015], идут на разного рода хитрости при устройстве на работу, например, устраивают так называемые тестовые дни, когда человек работает, делает немалый объем работы, но ему за это не платят. На рынке труда увеличилась востребованность пожилых людей, пенсионеров. Чтобы пенсионеры работали, придумываются разного рода льготы, в т.ч. оплата годовой индексации пенсии [Видясова, Григорьева, Кривошапкина 2024].
Произошел переход в сторону большой востребованности работников в сфере промышленности, технических специальностей; снизилась ориентация на получение высшего образования в сторону увеличения среднего специального [Волкодаева, Балановская, Чулков 2021; Меренков, Мельникова 2021]. Специалисты-гуманитарии все менее востребованы, что говорит о кризисе гуманитарной сферы. Возникла проблема востребованности личности. Вспомним ситуацию конца 1970–1980-х гг., когда активно обсуждалась эта проблема. Тогда же возник термин: «поколение дворников и сторожей». Теперь можно говорить о «поколении курьеров», когда курьерами подрабатывает и студенты, и даже научные сотрудники. За два месяца работы курьером научный сотрудник может заработать столько, сколько получает в своем учреждении за полгода. Следует отметить и повышенную закредитованность населения, характерную сегодня для российского общества [Баринов 2018].
Дефицит кадров меняет взаимоотношения работодателя и наемного работника. Особенно это заметно в сфере обслуживания. Чувствуется равнодушие к своим обязанностям, работники стали менее вежливыми, на все вопросы или замечания отсылают к начальству. Так и ждешь, что скоро услышишь знакомую фразу из прошлого: «вас много, а я одна».
Проблемный маркер социального времени: трансформации потребительского поведения
Произошли серьезные изменения и в потребительской сфере. Потребительское общество с его характерной гонкой за покупками и новыми товарами, быстрое обновление среды обитания постепенно уходят в прошлое. Происходят серьезные изменения. Снизилась покупка брен- довых вещей, одежды, товаров длительного пользования. Вырос интерес к старым вещам [Зубарева 2018]. Вещи стали чаще ремонтировать, а не выбрасывать. Активно функционируют скупки – это дает некоторую прибавку к семейному бюджету и ощущение, что вещи, с которыми ты жил, будут жить дальше.
Следует отметить, что потребление стало более рациональным. Люди стали внимательнее следить за скидками, отслеживают дни распродаж, выясняют, в каких магазинах товары дешевле [Долина, Шпилькина, Филимонова 2024]. Есть даже группы жителей (в основном это пенсионеры), которые изучают, в каких магазинах и когда продукты дешевле, потом эту информацию они сообщают другим либо по телефону, либо в чатах домов. Эти чаты с социологической точки зрения – весьма положительное явление: благодаря им формируются новые социальные связи. В чатах можно обсудить многие проблемы, попросить о помощи, получить полезные советы и даже рецепты по приготовлению пищи. Однако и тут подстерегает опасность цифрового мошенничества, ибо информация о чатах отслеживается, и все важные сведения о жизни жильцов могут быть использованы им во вред.
В целом же нынешнее потребительское поведение можно охарактеризовать как «жизнь по скидкам». Следует отметить еще одну важную черту нынешнего потребительского поведения – покупку товаров онлайн. Безусловно, это следствие «пандемийного» образа жизни и рационализации семейного бюджета (благодаря значительным скидкам в онлайн-магазинах). Опросы показывают, что пользователи покупками онлайн в целом довольны: доставка осуществляется в срок, хорошая упаковка, нет необходимости искать товар в разных магазинах. Вместе с тем исключенными оказываются те, у кого нет возможности пользоваться этой услугой (значительная часть пенсионеров) [Гагарина, Сотникова 2021; Старкова, Сапрыкина 2021]. Однако, судя по анализу интервью, некоторые пенсионеры специально ходят в магазины, чтобы пообщаться, увидеть «живьем» своих соседей и даже завести новые знакомства. В материалах интервью, где пенсионеры (женщины 65–75 лет, из них двое из десяти работают) подробно рассказывают о бюджете расходов на питание. Так, в среднем в день на питание они тратят 190–220 руб. (60–70 рублей завтрак, 80–90 – обед, 50–60 – ужин). Таким образом, на питание тратится 6–7 тыс. руб. Кроме того, информанты отмечают, что 800 руб. они выделяют в месяц на покупку овощей и фруктов.
Нельзя не отметить такое отрицательное явление в потребительском поведении, как рост воровства в магазинах, особенно в супермаркетах. Несмотря на увеличение числа видеокамер, введение должности детектива, воровство имеет место.
Проблемный маркер социального времени: рост социальной энтропии
Уровень социальной энтропии (по А. Этциони) не снижается и, судя по интервью, растет [Etzioni 2000; Бабосов 2011]. Неуверенность в завтрашнем дне ведет к отказу от долгосрочных жизненных планов. Планирование, как правило, – краткосрочное, ситуативное, конкретное, т.е. связано с привычными и конкретными жизненными целями. Пришла пора идти ребенку в школу – надо его туда устроить (правда, есть выбор, в какую), окончил школу – надо поступить в университет, колледж или пойти работать. На выбор влияют вышеописанные тенденции в сфере труда. Однако что будет после института, многие не задумываются. Придет время – будут решать. А в остальном – планы очень приземленные, превалирует рутина повседневности: уборка или ремонт квартиры, работа на даче, покупка чего-то необходимого и тому подобное. Даже о лечении говорят как-то вскользь, хотя многие жалуются на ухудшение здоровья и уровня медицинского обслуживания. Раздражает бюрократизация здравоохранения, когда врач за отведенные на прием 8–10 минут в основном вводит данные в компьютер, т.е. беседует не с пациентом, а с «машиной», как заметила одна респондентка.
Это состояние общества можно охарактеризовать как апатию, социальную усталость, безразличие [Долженкова, Полевая, Руденко 2019]. Безусловно, реакция представителей различных групп населения на эти общественные явления отличается. Но насколько, каким образом? Ранее обращалось внимание на то, что типичным явлением в период пандемии является усиление роли государства. Это было закономерно: без государственных мер с пандемией было бы не справиться. Но государство за эти годы фактически чрезмерно усилило свою роль, усилило контроль над разными сферами общества. Это привело к снижению личной ответственности человека за свои поступки, за свою жизнь, когда на плечи государства перекладываются личные проблемы.
Проблемный маркер социального времени: кризис получения информации
Наше общество постоянно регламентируется властью. Законы, которые принимают депутаты, носят в значительной мере запретительный характер, увеличивается число разного рода инструкций. Усилению роли государства способствует продолжающаяся уже более трех лет СВО. У людей возникает ощущение, что от них требуют жить по правилам, появилось опасение сделать что-то или сказать не то, за что могут осудить. Эта ситуация чрезвычайно отрицательно влияет в т.ч. на проведение социологических исследований, на опросы общественного мнения [Галкин, Протасенко 2024]. Получить адекватную многообразную информацию о жизни общества трудно, тем более что, похоже, большой потребности у власти в опросах общественного мнения и деятельности социологов нет. Поэтому финансирование больших репрезентативных опросов, которые проводились бы различными структурами, затруднено [Резаев, Трегубова 2021]. Растут проблемы с получением информации и из-за кризиса методов. Телефонные опросы фактически не работают, люди отказываются отвечать. Причины – цифровое мошенничество, нежелание и боязнь сообщить информацию о своей личной жизни: на 100–120 звонков – 3–4 согласия ответить. На часть вопросов люди не отвечают, иногда чувствуется, что говорят неправду или отвечают, «как надо». Явно выражено самоцензурирование [Кудряшова 2018]. Откровенную информацию можно получить в личных интервью, но в том случае, если респондент доверяет интервьюеру и есть гарантия анонимности. Таким образом, получить информацию о тенденциях, новых явлениях в обществе можно, но репрезентативные данные – сложно. Как видим, работа социологов постоянно усложняется. Приходится обрабатывать большое количество информации, чтобы определить репрезентативность выводов.
Усилилась цензура в СМИ, причем как в плане содержания, так и наборов слов и фраз.
Проблемный маркер социального времени: кризис семейных отношений
2024 г. был объявлен Годом семьи. Какие проблемы были поставлены во главу угла? Главная проблема – это падение рождаемости и как ее повысить. В качестве отрицательного фона отмечается демографическая яма, связан- ная с падением рождаемости в 1980–1990-е гг., увеличение числа разводов, уменьшение среднего времени нахождения в браке (9–10 лет), уменьшение общего числва беременностей (что, в принципе, может быть связано с ухудшением уровня жизни) [Щербинин, Корнильцева 2014]. Следует отметить, что наряду с увеличением продаж антидепрессантов и алкоголя наблюдается рост числа продаж противозачаточных средств. Первого ребенка женщины стали рожать позже.
В качестве мер по укреплению семьи (считается, что крепкая семья – основа для увеличения рождаемости), по упорядочению семейных отношений со стороны власти предлагаются экономические, административно-репрессивные или поощрительно-стимулирующие и гуманитарные меры [Брыкова 2014]. В качестве экономических стимулов предлагаются разного рода субсидии, льготы (в частности, льготная ипотека), увеличение числа детских учреждений, отмена платы за посещение детского сада (Санкт-Петербург) и т.п. В качестве административно-репрессивных мер можно отметить запрет на аборты, введение налога на бездетность, для работодателей – введение индекса репродуктивности трудового коллектива. Есть также гуманитарно-стимулирующие предложения: ввести систему дополнительных баллов при поступлении в вуз при наличии детей у абитуриента (выходит, чтобы получить эти баллы, надо зачать ребенка еще в школе или поступать уже в зрелом возрасте).
Заключение
Проблемные маркеры социального времени, рассмотренные в статье, подчеркивают ключевую роль неопределенности в современном обществе. Эти изменения охватывают все сферы жизни – от цифровизации до трансформации общества потребления. Изучение социальных маркеров времени важно для разработки стратегий, которые помогут адаптироваться к новым условиям и сформировать устойчивые модели социального развития.
Выявленные и проанализированные особенности нашего бытия, нашей повседневной жизни показывают, что мы живем в новой реальности. Какими темпами и в каком направлении она будет изменяться дальше, зафиксируется или перейдет в новую форму застоя – покажет время. А пока в обществе царит неопределенность. Как уже отмечалось, именно это мешает людям планировать свою жизнь на долгий срок, включая рождение детей, и брать ответственность на себя. Поэтому формы адаптации отдельных людей и семей неустойчивы, ситуативны, зависят от конкретных условий.
Насколько действенными будут меры, принимаемые властью для решения различных вопросов общественного существования, – пока понять трудно, особенно если это касается демографических проблем.