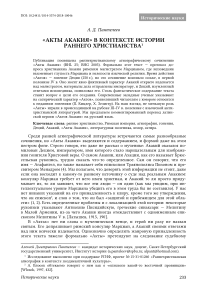«Акты Акакия» в контексте истории раннего христианства
Автор: А. Д. Пантелеев
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
Публикация посвящена раннехристианскому агиографическому сочинению «Акты Акакия» (BHL 25; BHG 2005). Формально этот текст — протокол допроса христианина Акакия римским магистратом Марцианом, где исповедник высмеивает глупость Марциана и нелепости языческой религии. Время действия «Актов» — гонение Деция (250 г.), но это сочинение возникло позже, в первой половине IV в. Оно носит явно фиктивный характер: Акакий открыто издевается над магистратом, материалы дела отправлены императору, и Деций, изумленный ответами исповедника, помиловал его. Столь фантастическое содержание текста ставит вопрос о цели его создания. Современные западные ученые указывают на сатирический характер «Актов», позволявший читателям с юмором относится к недавним гонениям (П. Кицлер, Х. Зелигер). На наш взгляд, не меньшую роль «Акты» играли в происходившей на рубеже III–IV в. полемике с языческой антихристианской литературой. Мы предлагаем комментированный перевод латинской версии «Актов Акакия» на русский язык.
Раннее христианство, Римская империя, агиография, гонения, Деций, Акакий, «Акты Акакия», литературная полемика, юмор, сатира.
Короткий адрес: https://sciup.org/140223399
IDR: 140223399 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10046
Текст научной статьи «Акты Акакия» в контексте истории раннего христианства
Среди ранней агиографической литературы встречаются самые разнообразные сочинения, но «Акты Акакия» выделяются и содержанием, и формой даже на этом пестром фоне. Строго говоря, это даже не рассказ о мученике: Акакий оказался помилован Децием, императором, имя которого стало нарицательным для изображения гонителя Христовой веры. О самом Акакии, или Ахации, как его называет Брюссельская рукопись, трудно сказать что-то определенное. Сам он говорит, что его имя — Агафангел, но также называет себя епископом Траянополиса Пизоном и пресвитером Менадром (4). Мы полагаем, что доверять этой информации не стоит, даже если она восходит к какому-то раннему источнику о суде над реальным Акакием: консуляр Марциан требует от него имен христиан, и Акакий то ли просто придумывает их, то ли заявляет, что все эти люди — он один (как мы увидим, при интеллектуальном уровне Марциана убедить его в этом труда бы не составило). У нас нет никаких указаний на его принадлежность к клиру, кроме того же утверждения, что он епископ2, и слов о том, что он был «защитой и прибежищем для этой области» (1, 2). Есть определенные проблемы и с локализацией этой истории: некоторые рукописи указывают Антиохию Писидийскую, греческие синаксари — Мелитину в Малой Армении, из-за чего Акакия иногда отождествляют с одноименным епископом Мелитины V в. [Латышев, 1915, 190].
В «Актах» нет ни слова о мученическом венце, и герой ни разу не назван святым. Его допрашивает римский консуляр Марциан, а Акакий своими ответами над ним всячески издевается. Однозначно определить жанровую принадлежность этого текста тяжело: формально «Акты» претендуют на следование судебному
протоколу, как, например, «Акты скилитанских мучеников», но при первом же прочтении становится ясно, что этот допрос — фикция. Вопросы, заданные Акакию Марцианом, служат лишь трамплином для мученика, высмеивающего непонятливость магистрата и нелепости языческой религии [Příběhy, 2009, I, 203; Märtyrerliteratur, 2015, 288]3; современные исследователи сопоставляют «Акты» с жанрами disputatio и altercatio — философского диспута. Сообщение об отправлении протоколов допроса императору-гонителю и помилование Акакия носят явно невероятный характер. Обвинение христиан в занятиях магией выглядит странно для дециевых гонений, зато хорошо вписывается в контекст антимагического законодательства Диоклетиана и Максимиана и Константина I конца III — начала IV в. [Märtyrerliteratur, 2015, 289; Марей, 2012, 174]; на IV в. указывают и административные реалии (указание префектуры Памфилии, ставшей самостоятельной только при Константине I), и заявление об отступничестве монтанистов, включенных Константином в список еретиков (CTh, XVI, 5, 34; Eus. VC, III, 64), и христоло-гические рассуждения в 4-й главе «Актов».
Все эти обстоятельства вызвали вопросы о достоверности текста и времени и целях его написания: Ф. Гёррес назвал «Акты Акакия» полной подделкой, рассказывающей, однако, о реально существовавшем исповеднике времени Деция [Görres, 1890, 470–472; Görres, 1879, 66–99], а А. Гарнак охарактеризовал этот источник как «ненадежный» [Harnack, 1904, 468]. Й. Вебер показал, что «Акты» написаны не ранее IV столетия, а их содержание сочетает распространенные апологетические штампы4 и мотивы, характерные для времени Константина [Weber, 1913], и у нас нет причин ставить под сомнение этот вывод. В наше время А. Влосок также согласен с тем, что этот текст безусловно не относится к III в., а имеющаяся латинская версия предполагает греческий оригинал, о котором мы при нынешнем положении дел с источниками ничего не можем сказать [Wlosok, 1997, 432]. Почему же эта сравнительно поздняя фантазия привлекла в последние годы такое внимание исследователей, какого удостаиваются далеко не все аутентичные тексты?5 Причина заключается, во-первых, в его «карнавальном» содержании, а во-вторых, в тех функциях, что он должен был выполнять в христианских общинах.
По замечанию П. Кицлера, несмотря на то, что Акакий и Марциан говорят на одном языке, в диалоге чувствуется «сознательное непонимание» [Příběhy, 2009, I, 203]. Иногда это непонимание грамматики и лексики, как в случае с ответом на вопрос, кто есть истинный Бог, когда Акакий ответил, что это — Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова (deus Abraham et deus Isaac et deus Jacob), а Мар-циан решил, что это имена Бога (1, 7–8). Мученик ставит магистрата в логический тупик, показав, что римляне почитают богов за то же, за что преследуют людей (2, 6). Иногда это непонимание смысла, который вкладывает в свои ответы Акакий, и незнание каких-то реалий. Марциан не понимает, кто такие серафимы и херувимы, как слово истины и благодати оказывается Сыном Божьим (4, 2–3) и как бестелесный Бог может что-то чувствовать (4, 6–7). Римский магистрат нашел только один выход из этой путаницы имен, сущностей и непонятных еврейских слов, обвинив Акакия и всех христиан в том, что они колдуны, но не преуспел и в этом. Акакий смеется и над консуляром, и над его призывом поклониться языческим богам, а в конце допроса прямо заявляет: «Ты надеешься, что сможешь многих победить, ты, кого я один одолел?» (5, 4).
Сатирический и юмористический тон «Актов Акакия» уникальны для раннехристианской агиографии6. В отличие от других текстов, ставивших своей целью укрепить христиан в вере перед лицом гонений и дать им образец для подражания [Пантелеев, 2017, 125–140], здесь П. Кицлер видит развлекательное чтение, где гонение Деция превращается в «захватывающий и увлекательный эпизод прошлого», а страх преследования и смерти уничтожается силой смеха [Příběhy, 2009, I, 204]. Можно развить этот тезис. Об историчности повествования в «Актах» речи нет в принципе, и читатель-современник отлично это сознавал: как только мученик затеял бы подобный разговор, он был бы тут же остановлен магистратом, как мы это видим, например, в «Актах Карпа, Папила и Агатоники»: «Позволив, чтобы ты нес много вздора, я довел тебя до хулы на богов и императоров» (Acta Carpi gr., 21), и был бы подвергнут пытке. Шутить в ходе допроса мог только судья, и мы встречаемся с примерами этого своеобразного юмора в «Мученичестве Фруктуоза» или «Актах Максимилиана». В первом случае происходит следующий диалог наместника Эмилиана и мученика: «„Ты знаешь, что боги существуют?“ — „Не знаю“. — „Скоро узнаешь“» (Mart. Fruct., 2, 5), и немного дальше читаем: «Эмилиан сказал Фруктуозу: „Ты епископ?“. Фруктуоз сказал: „Да“. Эмилиан сказал: „Ты был им“» (Mart. Fruct., 2, 8–9). В «Актах Максимилиана» проконсул Дион, раздраженный отказами мученика вступить в римское войско, так как он уже служит Христу, обещает Максимилиану устроить скорую встречу с Христом (Acta Maximil., 2, 5). Г. Музурилло замечает, что такие проявления черного юмора нередко встречаются в мученичествах и вполне могут быть аутентичными [Musurillo, 1972, 179]. Этот юмор мог проявляться не только в диалогах, но и в выборе способа казни мученика: некоторым из магистратов могла показаться забавной идея казнить христиан, отказавшихся почтить богов, во время зрелищ, посвященных этим божествам, или одеть их в одежды, посвященные языческим богам (Pass. Perp., 18, 4) [Пантелеев, 2014б, 79–80]. Таким образом, здесь происходит деконструкция стандартного римского допроса, где конституируется система «судья — подсудимый», и через передачу права шутить над оппонентом совершается «выворачивание наизнанку» и судебной процедуры, и самого преследования.
Не менее важным, на наш взгляд, для понимания роли «Актов Акакия» является их литературный контекст. В конце III — начале IV в. ведется ожесточенная литературная полемика между сторонниками старой языческой веры и христианами. Создаются «Акты Пилата» — «записки, полные всяческой хулы на Христа»; их разослали по всем городам и весям и читали даже в школах (Eus. HE, IX, 5). Гиерокл пишет сочинение «Любитель истины», где Иисус сопоставлялся с Аполлонием Тианским; в спор с ним вскоре вступит Евсевий с «Против Гиерокла». Мы знаем о существовании целой серии мимов, где осмеивались христианская вера и таинства (Крещение, Евхаристия, представления о Троице, Рождестве Христа, готовность к мученичеству и др.) [Пантелеев, 2013]. Христиане не отставали: в это время создаются «Против язычников» Арнобия и «Божественные установления» Лактанция, обращенные к интеллектуалам, а менее образованной публике были адресованы сочинения вроде «Актов Акакия». Если в языческих мимах христианин изображался как μωρός — «дурак», то в «Актах» эту маску примеряет римский магистрат-гонитель. Над ним смеются и обвиняемый христианин, и сам император, вообще выведенный за рамки преследования: «врагом христианской веры» объявляется Марциан, а не Деций (1). Этим объясняется и незатейливость примеров и аргументации — все они были хорошо знакомы читателям или слушателям, и неспособность магистрата противостоять им лишь подчеркивала его глупость. Это сочинение позволяет нам лучше понять, как протекала эта полемика не на уровне «высоколобых интеллектуалов», а среди обычных жителей империи, «в городских советах греческих городов, на рынках североафриканских деревень и в тысячах обычных домов» [Додд с, 2003, 168–169].
***
Перевод выполнен по изданию: Märtyrerliteratur / Hrsg. von H. R. Seeliger, W. Wischmeyer. Berlin; München; Boston, 2015. S. 272–290, где воспроизведен текст из: Ausgewählte Märtyrerakten / Hrsg. von Knopf R., Krüger G., Ruhbach G. Tübingen, 1965. При составлении комментариев кроме этого издания учитывались замечания П. Кицлера к чешскому переводу «Актов» (Příběhy raně křesťanských mučedníků / Ed. P. Kitzler. T. I. Praha, 2009. S. 201–212).
Рукописная традиция
«Акты Акакия» дошли в латинской (BHL 25) и греческой (BHG 2005) версиях. Основными манускриптами, содержащими латинский текст, являются:
-
1. Cod. Augiensis 32, fol. 130v–131v (Райхенау; IX в.); Карлсруэ, Баденская государственная библиотека;
-
2. Ms lat. NA 2179, fol. 241r–242v (Санто-Доминго-де-Силос (Испания), монастырь Санто-Доминго; X в.); Париж, Национальная библиотека Франции;
-
3. Cod. lat. 3223 t. 2 (бывш. 9290), fol. 69v–71v (Льеж, Аббатство св. Лаврентия; конец XII в.); Брюссель, Королевская библиотека;
-
4. Cod. lat. 1151, fol. 145r–146v (Трир, аббатство св. Максимина; XIII–XIV в.); Трир, Государственная библиотека.
-
5. Cod. lat. 3132 t. 1 (бывш. 207/8), fol. 167r–168r (бывш. Национальная библиотека Франции, происхождение неизвестно; XIII в.); Брюссель, Королевская библиотека;
-
6. Cod. 167, fol. 101v–102r (Мон-Сен-Мишель; XIII в.); Авранш, Муниципальная библиотека.
Первые четыре манускрипта легли в основу издания Й. Вебера. И. Делейэ добавил к этому списку еще два:
Греческая традиция представлена двумя рукописями:
-
1. Cod. R 376, fol. 266v–268r (XI в.), Москва, Синодальная библиотека. Издано в: Latyschev B. Menologii anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt. Fasc. 1. Petropoli, 1911. P. 293–300;
-
2. Ms Barocci 148, Fol. 314v–315r (конец XV в.); Оксфорд, Бодлеанская библиотека.
Acta disputationis sancti Acacii martyris
-
1 . Всякий раз, когда мы вспоминаем славные деяния рабов Божьих7, возносим Ему благодарность, ибо Он и страдальца в наказании сохраняет, и со славой победителя увенчивает. 2. Итак, Марциан, возвышенный императором Децием до звания консу-ляра, враг христианской веры (legis)8, приказал привести к нему Акакия, о котором слышал, что он был некоей защитой и прибежищем9 для этой области10. Когда привели того к нему, он произнес: «Как человек, живущий по римским законам, ты должен любить наших императоров (princepis nostros)»11, 12. 3. Акакий ответил: «А кому же он более по сердцу и кто его почитает сильнее, чем мы? Мы постоянно и беспрерывно за него молимся, чтобы он прожил долгий век на этом свете, правил справедливой властью над народами, чтобы больше всего было мира во время его правления, а затем о здоровье воинов, о сохранении земли и мира»13. 4. Марциан произнес: «Вот это я хвалю. Но чтобы император полнее узнал о твоем подчинении, соверши жертву ему вместе с нами». 5. Акакий сказал: «Я молю своего Бога, истинного и великого, за здоровье царя (regis), но он не может требовать жертву, и мы не должны ее
-
2 . Марциан произнес: «Что за пустым философским рассуждением ты обманут? Лучше отстранись от невидимого и признай богов, которых ты видишь». Ответил Акакий: «Кто же те, которым ты приказываешь мне принести жертву?». 2. Марциан произнес: «Аполлону, нашему хранителю, отвращающему голод и чуму18, который весь мир оберегает и правит им»19. 3. Ответил Акакий: «Этому, как вы считаете, истолкователю будущего20? Этот несчастный, воспылав любовью к девушке, обезумев, бегал за ней, не зная, что он потеряет вожделенную добычу21. Поэтому очевидно, что не было ничего божественного в том, кто этого не знал; не бог тот, кого обманула девушка22. 4. И он испытал не только эту скорбь: судьба вскоре наказала его еще более болезненной потерей. Ведь он постыдно <увлекался и> юношами, плененный красотой некоего Гиацинта, как вы хорошо знаете, воспылал любовью, однако, не ведающий будущего, диском убил того, кому он желал жизни23. 5. Он сам с Нептуном некогда был рабом24, он сам сторожил чужие стада25 — вот ему ты приказываешь мне принести жертву? Или убитому молнией
-
3 . Марциан произнес: «Или ты принесешь жертву, или умрешь». Ответил Акакий: «Так и далматы29 поступают, знающие толк в разбойничьем деле. Чтобы грабить, они занимают потайные места, где мало дорог и путей, охотясь за одинокими путниками, и когда путешественник там проходит, предлагают ему отдать жизнь или деньги; там никто не спрашивает, на каком основании <это происходит>, но кто может это, тот и заставляет. 2. Твое решение такое же: им ты или предписываешь сделать то, что несправедливо, или угрожаешь гибелью. Я ничего не страшусь, ничего не боюсь. Публичное право карает развратника, распутника, вора, того, кто оскопляет мужчин, колдуна и убийцу. Если я виновен в этих вещах, до твоего приказа сам себя признаю виноватым; если же я должен быть наказан на самом деле за то, что поклоняюсь истинному Богу, то осужден не по закону, а по желанию судьи. 3. Пророк, грозя, провозглашает: „Нет никого, кто ищет Бога; все уклонились, сделались равно непотребными“30. Поэтому ты не можешь очистить себя. Ибо написано: „Всякий, кто как судит, так и судится будет“31. И еще: „Когда ты судишь, так и ты будешь судим, и что делаешь, то же и тебе будет“32». 4. Марциан произнес: «Мне приказано не судить, а заставлять33. Если ты этим пренебрегаешь, будь уверен в наказании». 5. Ответил Акакий: «А мне предписано никогда не отрекаться от Бога моего. Если ты служишь тленному плотскому человеку, который быстро уходит из этого мира, которого, как ты знаешь, вскоре съедят черви, то насколько больше я должен повиноваться Всемогущему Богу, Чьей силой все поддерживается, что есть в этом мире34, и Которым сказано: „Кто отречется от Меня перед людьми, от того отрекусь и я перед Отцом Моим Небесным35, Который на небесах, когда Я приду в славе и силе судить живых и мертвых“36».
-
4 . Марциан произнес: «Ты только что признал ошибочность ваших убеждения и закона, о чем я всегда хотел узнать. У Него есть, как ты говоришь, Сын Божий?». Ответил Акакий: «Да, есть». 2. Марциан сказал: «Кто же Сын Божий?». Ответил Акакий:
-
5 . Марциан произнес: «Назови мне их всех по имени44». Ответил Акакий: «Их имена записаны в небесной книге и отмечены на Божественных страницах45. Так каким образом смертные глаза увидят то, что написала сила Вечного и Бессмертного Бога?». 2. Марциан произнес: «Где находятся колдуны (magi)46, твои сообщники по искусству, или учителя этого искусного обмана?». Ответил Акакий: «Мы получили и получаем все от Бога, и нас ужасает учение о колдовских искусствах». 3. Марциан произнес: «Вы колдуны, так как вводите некий новый неизвестный род религии». Ответил Акакий: «Мы отвергаем тех, кого вы сначала создаете, а затем боитесь47. Боги вас покинут, если или у мастера не будет достаточно камня, или у камня не будет достаточно мастеров. Боимся же мы не того, что сами создали, но Того, Кем мы созданы; Он, как господин, создал нас, как Отец, возлюбил нас, как добрый покровитель, спас от вечной смерти». 4. Марциан произнес: «Назови имена, иначе на тебя самого
приносить. Кто же человеку оказывает божественные почести?14». 6. Марциан ответил: «Какому богу ты возносишь молитвы, чтобы и мы сами почтили его божественными почестями?». Акакий сказал: «Я хочу, чтобы ты узнал, что будет полезно, и признал истинного Бога». 7. Марциан произнес: «Скажи мне его имя». Акакий сказал: «Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»15. 8. Марциан произнес: «Это имена богов?». Акакий сказал: «Не они, но Тот, кто говорил с ними, — истинный Бог, Которого мы должны страшиться». 9. Марциан произнес: «Кто он?». Ответил Акакий: «Высший Адонай (altissimus Adonai)16, восседающий над херувимами и серафимами»17. 10. Мар-циан произнес: «Что такое серафим?». Ответил Акакий: «Слуга Высочайшего Бога и предстоятель высокого престола».
Эскулапу26, или развратной Венере27 и другим чудовищам, которые так жили и так умерли? 6. Стало быть, я буду поклоняться тем, кто не достоин подражания, кого презираю, кого обвиняю, кого ненавижу? Если сейчас кто-нибудь совершит их дела, то не сможет избежать ваших строгих законов, и как в одних вы почитаете то, за что осуждаете других?» 7. Марциан произнес: «У христиан в обычае выдумывать много злословия против наших богов. Поэтому я приказываю тебе пойти со мной к Юпитеру и Юноне, чтобы мы вместе воздали почести богам, которые их достойны, устроив прекрасный пир». 8. Ответил Акакий: «Как я принесу жертву тому, чья могила, как известно, находится на Крите28? Разве он воскрес из мертвых?».
«Слово истины и благодати»37. 3. Марциан сказал: «У Него такое имя?». Ответил Акакий: «Ты спросил не об имени, а о власти Сына»38. 4. Марциан сказал: «Назови имя». Ответил Акакий: «Его зовут Иисус Христос». 5. Марциан произнес: «От какой жены Бога он рожден?». Ответил Акакий: «Не по человеческому образу от соития с женщиной Бог Сына породил — чтобы ты не решил, будто божественное величие коснулось смертной девушки, — но как первого Адама создал Своей творящей десницей, из глины члены этого первого человека составил, и после того, как уже весь облик завершил, даровал душу и дух; так же и Сын Божий, Истинное Слово, из сердца Божьего появился39. Поэтому написано: „Излилось из сердца моего слово благое“40». 6. Марциан произнес: «Стало быть, Бог телесен?»41. Акакий сказал: «Это знает только Он, мы же не знаем о Его невидимой форме, но почитаем Его силу и мощь». 7. Мар-циан произнес: «Если у Него нет тела, то нет и сердца, и чувств, ведь это не может существовать без членов»42. Ответил Акакий: «Не в этих членах рождается мудрость, но даруется Богом. Ведь что общего тело имеет с чувством?». 8. Марциан произнес: «Посмотри на катафригийцев43, придерживающихся древней религии: они, обращенные моими жертвами, с нами богам жертвы принесли и оставили то, что у них было; и ты тоже поспеши повиноваться. Собери всех христиан кафолической веры и вместе с ними исполни обряды в честь наших императоров. Пусть придут с тобой все, кто ценит твое мнение». 9. Ответил Акакий: «Всеми ими руководит не моя воля, но Божье наставление. Поэтому они послушают меня, если буду склонять их к истине, если же к дурному и погибельному, то пренебрегут».
падет наказание». Ответил Акакий: «Я сам стою перед судом, а ты имя спрашиваешь? Или ты надеешься, что сможешь многих победить, ты, кого я один одолел? Если тебе интересны имена, то меня зовут Акакий, а если ты хочешь узнать мое подлинное имя, меня зовут Агафангел, и епископ траянополитский Пизон, и пресвитер Менандр48. Делай уже, что хочешь». 5. Марциан произнес: «Ты будешь возвращен в тюрьму до тех, пока император с протоколами познакомится и решит, что следует сделать с тобой». 6. При чтении всех этих протоколов император Деций так поразился спору и славным ответам, что смеялся, и Марциану вскоре дал префектуру Памфи-лию49, Акакию же весьма дивясь, выказал свое уважение и дал ему жить по своим законам. 7. Это произошло при Марциане консуляре при императоре Деции за четыре дня до апрельских календ50.