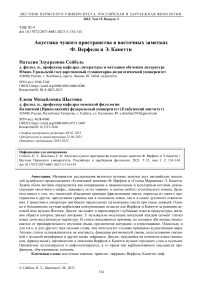Акустика чужого пространства в восточных заметках Ф. Верфеля и Э. Канетти
Автор: Сейбель Н.Э., Шастина Е.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Материалом исследования являются путевые заметки двух австрийских писателей иудейского происхождения «Египетский дневник» Ф. Верфеля и «Голоса Маракеша» Э. Канетти. Задача обоих авторов определяется как возвращение к национальным и культурным истокам, реконструкция «восточного мифа», лежащего, по их мнению, в основе любого эстетического поиска. Делается вывод о том, что писателей объединяет принцип фрагментации текста: перехода из одного пространства в другое, преодоления границы как в локальном плане, так и в плане духовного становления. Странствие в литературе неизбежно предполагает сегментацию текста при смене локаций. Однако в большинстве случаев вербальная коммуникация остается для Верфеля и Канетти за рамками искомой ими музыки Востока. Диалог заслоняет и перекодирует глубинные пласты пракультуры, желание обрести которые движет авторами. У музыкально мыслящих писателей каждый сегмент топоса имеет свою акустическую партитуру. В статье описываются причины, по которым оба автора отказываются от предварительного изучения языка, предпочитая интуицию и вчувствавание. Поскольку и для того, и для другого звук сильнее слова, они используют сходные принципы аудиализации мира. Авторы статьи останавливаются на контрасте, фиксации ритмической смены, использовании связанной с музыкой метафорики и других видах экфрасиса. Диалог, ведущийся на понятном языке (немецком, французском), противостоит в описании Верфеля и Канетти музыке городских улиц и пустыни. Непонятное эстетизируется и мифологизируется, в то время как вербализованное ощущается профанным, обытовленным, плоским.
Восточные заметки, травелог, экфрасис, верфель, канетти, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/147241901
IDR: 147241901 | УДК: 82-4 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-134-144
Текст научной статьи Акустика чужого пространства в восточных заметках Ф. Верфеля и Э. Канетти
Вступительные замечания
В начале ХХ в. идеи восстановления национальной идентичности тесно взаимодействуют с эстетическими поисками культуры в направлении очищения от цивилизационного «умствования», возвращения к истокам, реконструкции «архаического пласта», который «старше человеческой социальности» [Сурова 2001: 223]. Увлечения «идеями восстановления ˂…> мифологических систем прошлого, архаикой» [Рыков 2022: 148], «интенсивное обращение ˂…> к архаическим… символам и формам сакрального – как правило, не только пере-открытым, но и заново созданным» [Липовецкий 2008: 28] составляют одно из магистральных направлений модернистской мысли и многократно возникают в текстах виднейших авторов эпохи. Апелляция к древнему мифу как форме осознания своей связи с «родиной предков» становится общей темой для М. Брода, Ф. Кафки, Ф. Зальтена и многих других австрийских писателей 10–30-х гг. ХХ в.
Так, австрийский поэт и прозаик иудейского происхождения Франц Верфель дважды посещает Ближний Восток. В 1925 и 1929 гг. он путешествует по Сирии, Палестине и Египту и по итогам этих странствий создает «Египетский дневник» (“Ägyptisches Tagebuch”, 1925), лирический сборник «Сон и пробуждение» (“Schlaf und Er-wachen”, 1935), два романа «Сорок дней Муса-Дага» (“Die Vierzieg Tage des Musa Dagh”, 1933) и «Слушайте голос, или Иеремия» (“Höret die Stimme, oder Jeremias”, 1937), лекцию «Об истинном счастье человека» (“Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen”), прочитанную в начале декабря 1937 г. в австрийской секции Лиги Наций в Вене.
Личная встреча с Востоком австрийского культуролога и писателя, с детства вобравшего «наивное высокомерие сефардов» [Канетти 1990: 142], Элиаса Канетти, литературная слава которого связана с серединой 30-х гг. (самый известный его роман «Ослепление» вышел в 1935), произошла значительно позже, когда на фоне творческого кризиса он решает отправиться в Марракеш в составе группы британских кинематографистов. Его книга «Голоса Марракеша. Заметки после одного путешествия» (“Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise”) состоит из коротких зарисовок, некоторые из них публиковались в журнальном формате как отчет о путешествии. И Верфелю, и Канетти потребовались время и дистанция для «диагностики культуры» [Görbert 2009: 65], оба они «после своего возвращения не стали публично расска- зывать о путешествиях» [Sonder 2013]. Единственным фрагментом дневника, который Вер-фель опубликовал в 1925 г. отдельным очерком, были «Пляшущие дервиши». Канетти собрал разрозненные записки в книгу лишь в 1968 г., спустя почти четырнадцать лет после поездки в Марокко.
В обоих случаях («Египетский дневник» Верфеля и «Голоса Марракеша» Канетти) речь идет о восточных заметках, в основе которых желание прикоснуться к корням, обрести «до-конфессиональное» чувство сопричастности природе и пустыне и «узнать» себя в жителях Востока. Содержание заметок того и другого автора – самоанализ и религиозный поиск, дававшиеся часто с большим трудом. О том, как происходит самоопределение писателей по отношению к земле предков, «приобщение к культурному и мифологическому наследию, хранимому Востоком» и «восстановление живой веры» [Сейбель, Шастина 2022: 324], мы писали ранее. Цель данной статьи – системно описать формы аудиального восприятия музыкально мыслящими авторами чужого пространства.
Методология
Описывая акустическую картину изображаемого авторами мира, исследователь необходимым образом оказывается на проблемном поле жанра (жанрового анализа) и экфрасиса.
Путешествие – свободный и синтетичный жанр. Изначально будучи «своеобразным документом, ˂…> составленным в живой манере» [Лихачев 1954: 321], литературное путешествие сохраняет семантику «описания путешественником (очевидцем) достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь незнакомых читателю или малоизвестных, странах, землях, народах в форме заметок, записок, дневников (журналов), очерков, мемуаров» [Гуминский 2001: 839]. При этом оно активно субъективизируется, фиксируя позицию рассказчика, отражая в описываемой картине мира его мировоззренческие, эстетические и пр. ценности. Топос превращается в куль-туроним. Синхронизируются сюжеты «передвижения в пространстве и переживания душевной трансформации» [Головченко 2017: 180]. В связи с «переносом повествования с географического пространства на повествующего субъекта» [Банах 2004: 3], путешествие психологизируется и мифологизируется.
Обладающее значительной «жанровой свободой» [Шачкова 2008: 280], путешествие среди устойчивых атрибутивных признаков содержит основной мотив (странствие), акцентацию на фи- гуре путника, переосмысливающего пространственный опыт в этических категориях, и фрагментарность: путешествие неизбежным образом представляет собой набор эпизодов («встреча – испытание – расставание») и повествовательных лакун между ними. Проблема жанрового своеобразия литературы путешествий, ее «вовлеченность» в процесс формирования ималогических образов, возникающих при встрече путешествующего и «другого», привели к появлению «новой» модификации жанра – травелога – понятия достаточно дискуссионного, где наравне с автором представлен другой рассказчик – «сам мир, который автор-путешественник открывает» [Аксенова 2018: 173].
Фрагментарность путевых заметок дает «максимум возможностей для неограниченного выбора предметов изображения и перехода от одного предмета к другому, не подчиняясь закономерностям, присущим произведениям с четко выстроенной фабулой» [Шачкова 2008: 279]. Потенциально она несет в себе энергию расширения пространственного и повествовательного поля за счет возникающих пробелов как в описании пути, так и в изменении «статуса души» рассказчика в «связи с биографическим контекстом» [Фаустов 2008: 285]. Особое значение фрагментарность обретает именно в контексте модернизма, « когда благодаря коллажированию предметов, звуков, цвета автор добивался эффекта целостности, сопоставимой с впечатлением от сохранившихся фрагментов древних культур» [Едошина 2002]. «Разорванность, фрагментарность духовного и эмоционального опыта» [Зверев 2001: 568] передается через «обыгрывание диссонансов… и разрушение естественных взаимосвязей между предметами» [Хализев 2001: 586].
В путевых заметках Верфеля и Канетти границы между пространствами далеко не всегда маркированы, часто переходы между эпизодами организуются именно по принципу умолчания, через резкую смену визуального и аудиоряда, стратификацию встречных лиц и типов, нарушение эстетических законов, организующих предыдущие эпизоды.
Проблема структурного единства путевых заметок Верфеля и Канетти «Египетский дневник» Ф. Верфеля выстроен хронологически. Движение в тексте линейно, но включает элементы рамочного повтора, образованного двумя визитами в Каир и разницей восприятия незнакомого и уже освоенного города. Большое место в дневнике Верфеля занимают наблюдения за туристами и заметки, которые он делает, чтобы использовать в художественных текстах.
Автор подробно описывает трехнедельную экскурсию по Египту: Каир, Гелиополис, Мемфис, Луксор и т. д. и бегло, неполно – двухнедельное пребывание в Палестине. В отличие от восточных заметок современников, в дневнике нет продуманного гармоничного распределения элементов. Сквозные мотивы, которые прослеживаются в структуре текста: потрясения от встречи с «великой древностью» [здесь и далее перевод наш. – Н. С. ; Werfel 1975: 723] и догре-ческим мистицизмом, языка как главного формирующего культуру фактора, нищеты и социальной несправедливости, царящих на древней земле, отголосков европейских войн и революций, привнесенных туристами на Восток.
У «Голосов Марракеша» Э. Канетти центростремительное строение текста. В поисках литературной формы автор отказался от первоначального замысла написать роман-путешествие в пользу коротких фрагментов. Книга включает 14 зарисовок, размеренно, в духе викторианского романа описывающих путешествие. Канетти полагает, что структура его книги дает «живое представление» о Марракеше (eine recht lebendi-ge Vorstellung von Marrakesch) [Hanuschek 2005: 528–529].
Две центральные главы (седьмая и восьмая) – «Посещение Меллаха» – еврейского квартала – и «Семейство Дахан» – являются не только самыми объемными, но и самыми значимыми. Они репрезентируют общественную (город как топос) и частную (быт отдельного семейства Дахан) жизнь.
Вокруг них группируются остальные двенадцать глав, подобно «годичным кольцам дерева» [ibid.: 535], обнаруживая сходство и соответствия. Всю пестроту зарисовок Канетти собирают воедино мотивы столкновения древности и тривиальности, диалога с мифом, превращения и др.
Апология интуиции, или Да здравствует непонимание!
Оба писателя, отправляясь в восточное путешествие, отказываются от предварительного изучения языка, не желая, чтобы «чистое блаженство (reine Glückseligkeit) трансформировалось в блаженство искусства (Glückseligkeit der Kunst)» [здесь и далее перевод наш. – Н. С.; Wer-fel 1938: 8]: «Я не пытался научиться ни по-арабски, ни по-берберски. Я не хотел, чтоб чужеродные возгласы утратили для меня хоть частицу своей силы. Я хотел, чтобы звуки косну- лись меня сами по себе, не ослабленные» [Ка-нетти 1990: 359]. Чужой язык – залог глубинного познания чужого мира на уровне интуиции, вчувствавания, возвращения к истокам. И для того, и для другого звук сильнее слова, «акустические арабески вокруг Бога впечатляют куда больше оптических» [там же: 360], «в начале истинного человеческого языка, когда он окончательно “воздвигался” из пыхтящих животных звуков и пробной артикуляции, была не коммуникативная проза, а познавательно-опьяненное пение» [Werfel 1938: 25].
Рационализация слова лишает его святости, обессиливает и ограничивает энергию воздействия. Непонятные, но наполненные жизнью фразы чужих языков производят впечатление. «Сливаются в один злобный хор…» «законных обитателей» пустыни, «хранителей голых камней и невидимых костей» [Канетти 1990: 367]. Привлекают внимание как «пустынный призыв. Их фонетические законы обусловлены широтой эха, общением на больших расстояниях. Ча-ха-ла-ле-хай (Cha-ha-la-le-hij)» [Werfel 1975: 716].
Верфель противопоставляет глубинное «духовное зрение» (geistsichtig) зрению «натуральному» (natursichtig) [Werfel 1938: 22] и предостерегает от «героического оптимизма», тривиальности, упрощающего жизнеподобия, которое часто предписывается художникам: «Художник должен быть осторожен, чтобы не придавать вещам иное значение, чем очевидное и общепризнанное … <ведь> диктаторы выразили религиозное “да” нынешнему состоянию человеческой расы, которое им понравилось» [ibid.: 42]. В лекции «Об истинном счастье человека» он предваряет то, о чем значительно позже, в 1968 г., писал Р. Брат: «чистое “изображение реальности”, голое изложение “того, что есть” (или было) как бы сопротивляется смыслу, подтверждая тем самым распространенную мифологическую оппозицию пережитого (то есть живого) и умопостигаемого. Достаточно напомнить, что в современной идеологии навязчивые призывы к “конкретности” (которые риторически адресуются гуманитарным наукам, литературе, нормам поведения) всегда нацелены своим острием против смысла» [Барт 1989: 397–398]. Для Верфеля спасение от рационалистически-плоского взгляда на мир – притча, миф, представляющие собой прямой диалог с природой и Богом: «Провидцы и поэты стоят, как древнейшие стражи, у входных ворот человечества» [Werfel 1938: 25]. Их инструмент – музыка и картина. Поэтому такое внимание привлекают в восточных заметках стены гробниц – «иллюстрированные книги, полные повествовательной свежести» («Bildenbänder voll erzählender Frische») [ibid.: 9], пиктография, противопоставленная своей сложностью и наполненностью новейшему алфавиту, и музыка окружающего мира, складывающаяся из голосов, ритма восточной жизни, молчания, звуков природы и цивилизации.
Взгляд Канетти выборочный и фрагментарный, он переносит на бумагу отдельные эпизоды, выхваченные им из общей картины, заостряет внимание на единичных фигурах, «рисует» собственную картину Востока. В этом смысле «программной» является глава «Возгласы слепых» („Die Rufe der Blinden“), в которой Канетти формулирует писательское кредо: «Тут были события, картины, звуки, смысл которых лишь в тебе возникает , которые нельзя ни записать, ни очертить словами, которые существуют по ту сторону слов, глубже и многозначнее их» (курсив Ка-нетти) [Канетти 1990: 359].
Попав в Марракеш, автор оказался среди слепцов, «их было сотни», это были нищие, которые просили подаяние именем Господа: «повторяющийся возглас характеризует возглашающего», возгласом он «четко обрисован», «возглас – одновременно его граница», «возглас умножается», «повторение делает его групповым» [там же: 360]. Акустическая составляющая мира всегда была для Канетти более важной, поскольку контакт с «другим» осуществляется через звуки. Первоначально книга должна была называться «Звуки Марракеша», поскольку звук заполняет пространство, наделяя его новым смыслом, объяснить его по-европейски рационально удается не всегда. На базаре Канетти наблюдает за разговором мужчин, выхватывая интонацию, улавливая тени сменяющихся эмоций на их лицах, интуитивно проникая в суть: «Я не понимал, что они говорили, но по выражению их лиц мог заключить, что речь шла о великих мировых делах» [там же: 364]. Его интересует не рациональное содержание, а наполненность пространства музыкой речи: «Я не хотел, чтоб чужеродные возгласы утратили для меня хоть частицу своей силы, Я хотел, чтобы звуки коснулись меня сами по себе, не ослабленные недостаточным или искусственным знанием» [там же: 359].
Диалог как путь разочарования, или Прочь от понятного!
В своих путешествиях Верфель и Канетти встречают туристов, проводников, читают и комментируют местную и мировую прессу, вступают в диалоги с жителями древних городов и новых поселений. Однако в большинстве случаев вербальная коммуникация остается для них за рамками искомой ими музыки Востока. Диалог заслоняет и перекодирует глубинные пласты пракультуры, желание обрести которые движет авторами. И Верфель, и Канетти последовательно дистанцируются от спутников, чья речь им знакома и понятна, самоустраняются из привычного коммуникативного поля в поисках новых эстетических впечатлений и этических переживаний.
Общая тональность диалогов в «Египетском дневнике» Верфеля – полемика. Он дорожит изначально выбранной нейтральной позицией, поэтому не присоединяется ни к одной стороне в чуждых ему политических дискуссиях. Чужая прямая речь возникает крайне редко и почти всегда в негативном контексте: «Преувеличенная примитивность, оправдание директоров и служащих: “Мы ведь в пустыне,” – все это было бы второстепенно, не будь чувства недобросовестной эксплуатации» [Werfel 1975: 721]. Худшими из собеседников представляются те, кто проявляет национальную спесь, предубежденность, неприязненное безразличие к бросающимся в глаза проблемам местных жителей: вновь прибывшие евреи-мигранты, европейцы-англоманы, сопровождающие туристов проводники. Реакция автора на разворачивающиеся вокруг него конфликты эмоциональна: «Разговоры о сионизме оставляют злое чувство» [ibid.: 739]. Ситуация осложняется тем, что точки зрения его близких принципиально не совпадают. Сопровождавшая его в поездке Альма Маллер известна своим негативным отношением к сионизму, что стало поводом для многочисленных столкновений. Против своей воли писатель втягивается в споры и, не желая занимать чью-либо сторону, «непрерывно оказывается в ложной роли посредника в полемике» [ibid.: 739]. Следствием становится «тяжелое состояние изоляции. Дорога делается ˂…> почти невыносимой» [ibid.: 727], на какое-то время переживаемый автором кризис лишает его возможности писать.
Путевые разговоры и наблюдения приводят Верфеля к выводу о том, что принадлежность человека к расе деиндивидуализирует и унифицирует личность. Она «проявляется ˂…> в приспособлении его обличья к господствующим установкам его мира… в конце концов язык делает людей. И язык – это и выражение лица, тон голоса, жест – все выражение породы (Ausdrucksrasse)» [ibid.: 708]. Арабы, которые вызывают восхищение автора, будучи погруженными в свои дела и заботы, разочаровывают при вербальной коммуникации: «Чем ближе к сияющему солнцу английского отеля, тем очевиднее деградирует араб. С приближением эти глаза, – так часто опустошенные болезнями, – теряют свое достоинство. Когда европеец выходит из отеля, он слышит шипение: “Бакшиш”» [ibid.: 722]. Европейцы с их светскими беседами производят впечатление «пустых, бессмысленных людей, у которых есть деньги, чтобы совершить путешествие в Египет» [ibid.: 721].
Верфель прибегает к диалогу как удобной форме для выражения своих чувств, но это диалог с собой и читателем. Он насыщает свой текст риторическими вопросами, восклицаниями, ситуативно неполными предложениями, типичными для диалогической речи. Это позволяет, например, не высказывать разочарования напрямую, а смягчить его вопросительной конструкцией («Где его мистическая ˂…> боевая эпоха?» [ibid.: 734]), передать грандиозность и противоречивость впечатления восклицанием («Кто может собрать это море обломков?!» [ibid.: 724]) и т. д.
Таким образом, Верфель пытается дистанцироваться от описываемого мира, занять позицию объективного исследователя. Загадочный и непонятный Восток кажется ему миролюбивым, слабым, бедным, в то время как все привнесенное (европейское и американское), «чужое» – агрессивным, благополучным, эгоистичным.
«Голоса Марракеша» Элиаса Канетти наполнены диалогами, автор вступает в коммуникацию с местными жителями, поддерживает разговоры с европейцами, ведет внутренние диалоги с самим собой. Поскольку общение происходит на разных языках, Канетти прибегает к прямой речи, добиваясь аутентичности. Например, глава «Встреча с верблюдами» – фактически первый контакт с бытом восточной страны и еt многоголосием – насыщена разнообразными речевыми потоками, а случайный собеседник объясняет на ломаном французском, полном парцелляции: «У верблюда бешенство. Это опасно» [Canetti 2002: 8]. Желание «увековечить» воспоминания объясняет выбор лингвистических средств – от прямого диалога, графических средств до несобственно-прямой речи. Развернутые диалоги чередуются с незначительными фрагментами обмена репликами. Автор выстраивает в тексте временну́ю дистанцию между собой и рассказчиком, делая свое участие одним из предметов наблюдения и оформляя собственные слова прямой речью: «“Здесь много едят верблюжьего мяса?” – спросил я, стараясь в вопросе скрыть свое волнение» [Canetti 2002: 12].
Автор теории «акустической маски» акцентирует суть собеседника-приспособленца, заигрывающего с европейским гостем: «Ни один предмет не мог свидетельствовать, в какой стране ты находился» [Канетти 1990: 379], европейский покрой одежды на хозяевах дома, беседа на банальные темы, касающиеся официальных достопримечательностей Марракеша. Повествователь не скрывает разочарования по поводу того, что вместо языка ладино – языка его предков – приходится общаться на французском. Верфель в этом случае использовал иронию (попрошайки «уверенные в своей добыче… обращаются к нам по-немецки…– стратегия утомления врага» [Werfel 1975: 711]), Канетти язвительно саркастичен: «Я почувствовал, что это для него золотое слово» [Канетти 1990: 376]. Оба с грустью сознают, что цель коммуникации «аборигена» с европейцем – экономическая польза. Хозяин дома (Элия) пытается использовать случай, просит у гостя оказать протекцию при устройстве на работу. Древнее, национальное, специфическое размывается униженным подобострастием и заискиванием перед европейским благополучием. Это уже не упразднение индивидуального внутри национального, как у Верфеля, а размывание национального в процессе глобализации. Знакомство с родственниками Элии, общение с ними проясняют для автора ситуацию: в Марракеше 250 бедных евреев, которых содержит местная община, Глауи – паша Марракеша ненавидит арабов и «держит при себе евреев» и т. д. Небольшой компенсацией является встреча с тетушкой Элии, напоминавшей «восточных женщин, каких рисовал Делакруа» [Канетти 1990: 379].
В целом симпатизирующий марракешцам о людях «извне» Канетти формирует негативное впечатление, используя весь спектр характеристик: от иронии до обличения и осуждения. В главе «Клевета» („Die Verleumdung“) это «владелец ресторана, француз с круглой лысой головой и с глазами, напоминавшими липучку для мух» [там же: 388], нелицеприятно отзывавшийся о детской проституции и о местных женщинах, которых французы презрительно именовали Фатьмами. Канетти подчеркивает, что скабрезные шутки владельца ресторана превратили его и его друзей – англичанина и американца «в холодных англосаксов», которые «с кислыми минами улыбались и смущенно кивали» [там же: 390]. Процесс «англификации мира» и превращения в «очень англофилов… всех европейцев на Востоке» [Werfel 1975: 733–734], унификацию колонизаторов в их высокомерном презрении к древней земле подчеркивает и Верфель.
Для обоих писателей важной характеристикой становится звучание – музыка описываемой культуры. У Верфеля торжественным и трагическим барабанам бедуинов и опере Верди, воплощающим Восток, противостоят западные «надоевшие» синкопы джаза [ibid.: 730]. Канетти, подобно герою романа «Ослепление» Петеру Кину, угодившему в заведение «У идеального неба», попадает в бар «Шахерезада», где собирались в основном иностранцы, а также богатые арабы, одетые по-европейски, – оазис роскоши среди нищеты бедных кварталов, где звучат только европейские шлягеры. Владелица заведения – мадам Миньон, имевшая французско-китайские корни, имеет стойкое предубеждение относительно других национальностей и даже восточный разрез ее глаз слегка «подкорректирован» пластической операцией.
Таким образом, Канетти выстраивает диалог как с местными жителями, так и с «чужаками», в поле зрения писателя попадают люди, их судьбы. Канетти в большей степени «эгоцентричен», несмотря на то что в произведении «слышны» голоса самых разных людей, в тексте явно превалирует диалог с самим собой.
Музыка древнего мира
Настоящее очарование Востока оба автора находят в акустических впечатлениях, несущих для каждого из них особый, почти сакральный смысл.
Музыкальность Верфеля, обладавшего тонким чувством гармонии, широкими знаниями в области истории музыки и музыкальной культуры, проявляется в активно используемых параллелях и ассоциациях, «озвучивании» описываемого мира через интертекстуальные связи, сюжетообразующей роли музыкальных элементов в его текстах: «Звук слова, ритм строки, музыка рифмы диктуют, как он сам признает, логику целого» [Klarmann 1931: 79]. Музыкальность Вер-феля связывают с его биографией (он был «фанатичным любителем оперы» [Fiala-Fürst 1996: 50]), обилием заимствованных из музыковедения пара-текстуальных элементов («музыкальных терминов в заголовках стихов Верфеля» [ibid.: 51]), «тематизацией музыки» в «предмете произведения» [ibid.], наконец, тем, «в какой мере сам Верфель ощущает свои тексты как музыкальноакустические сочинения, и в какой мере музыка дает ему метафорический материал» [ibid.: 53].
Морское путешествие в его описании – череда портретов, не столько живописных, сколько аудиальных. Восторженный мальчик ассоциирован с шелестом бумаги (упаковки для его бутер- бродов и карты Средиземного моря, которую он постоянно разворачивает), молодой интеллектуал напевает народные песни («…еврейское вибрато с убывающей ферматой на последней ноте звучит как нечто среднее между бельканто и пастушеским пением… как бы плохо и неуклюже он ни пел, а окружающие аплодируют» [Werfel 1975: 705–706], речь делового человека – собеседника за утренним кофе – череда рваных парцеллированных фраз, переданных в косвенной речи с явной акцентацией и пародированием интонации. Контрастные и резкие переходы от одного звукового ряда к другому позволяют отказаться от маркировки смены пространства, времени и эпизода. Контраст восполняет и замещает собой повествовательную лакуну.
Город обладает собственной музыкой и наделен как общей характеристикой (громко и быстро), так и аудиально индивидуализирован в конкретных встречах и впечатлениях. Смешение языков создает почти вселенский хаос, какофонию разнообразных звуковых рядов, соединенных настроением: «Восток – это гонка. Египтяне, нубийцы, арабы, дикие лица сельджуков, фигуры бедуинов, толстые османы, кочевники, и все кричат, бушуют, злятся на немецком, английском, итальянском, французском!» [Werfel 1975: 709]. В музыкальных образах Верфель осмысляет религиозность мусульман. Он акцентирует внимание на маршевом строе молитвы, которая, для него, «самовозбуждение через ритм» [ibid.: 715], на музыке, сопровождающей балдахин доставленной жениху невесты. Акцентированность ритуала, экстатический восторг чужой религии «от crescendo частного мотива до одуряющего furioso» отражает для писателя «не столько психологическую, сколько ˂…> музыкальную проблему!» [ibid.:]. Часто звук становится воплощением витальности, воли к победе («шум как отношение, как усилитель жизни, боевой клич, преимущество в делах» [ibid.: 710]), эманацией древнего инстинкта, «этого звериного рева, этого звериного потока маслянистых тел, ˂…> хлопанья одеждой» [ibid.: 711]).
Самой экфрастически наполненной частью восточных заметок Верфеля, безусловно, являются «Пляшущие дервиши». Очерк организован по принципу рондо. Неизменяемой темой в нем является круг (круг арены, похожей на цирк), кружение (танцующих дервишей), религиозный экстаз («распахиваются всё шире и вздымаются всё выше танцующие души» [Верфель 2005: 286]). Мотив круговорота обрастает новыми темами, создавая почти классическую пятичастную структуру: от мощного вступления о воин- ственности и суровости ислама – к какофонии выхода дервишей (убогое место, бедные усталые люди) – к появлению доминантного аккорда (белая центральная фигура шейха дервишей) – к мотиву ученичества (старый дервиш, опекающий юного Вениамина) – и, наконец, ощущению «полета. Так пророк танцует на поверхности вод и взмывает в воздух» [там же]. Автор легко соединяет музыкальную терминологию с экфраси-сом, передающим мистические впечатления наблюдателя, подробно воспроизведенную геометрию танца с чувством «обретения своего истинного Я» [там же: 283].
Описывая восточное путешествие, Верфель обращает внимание на музыкоподобное движение собственных переживаний: настроение путника меняется от ожидания к впечатлению и к проживанию полученного впечатления. Гармоничное взаимодействие этих трех элементов дает ощущение открытия и просветления: «В своих музыкальных рассуждениях я определил ожидание как диафонический элемент, а удивление – как хроматический элемент. Гениальный баланс между обоими элементами приводит к мелодичному опыту» [Werfel 1975: 716]. Эмоциональная реакция на экзотические картины связана с гармонией предваряющего знания и полученного опыта – неравновесность этих компонентов порождает, как констатирует автор, чувство поражения, проигрыша, неудачи.
Для Канетти так же, как и для Верфеля, было важно найти свой путь погружения в экзотику Востока, для обоих авторов акустическое пространство непознанного полно загадок и таинств. Во второй книге автобиографической трилогии «Факел в ухе» („Die Fackel im Ohr“) Канетти позднее напишет о «науке слушать», о том, что слушание – «самое многообразное измерение», позволяющее утолить жажду обладания речевыми формами [Канетти 2020: 228]. В заметках «Голоса Марракеша» музыкальный фон создается многоголосьем, «акустическими масками», которые скрупулезно собраны, чтобы передать атмосферу восточного города. В главе «Возгласы слепых» автор обращает внимание на молитву слепцов, в которой имя Господа повторяется «по десять тысяч раз на дню» [Канетти 1990: 360], они «святые повторения», в повторении заключена суть жизни. Полифония восточного базара находит отражение в «общем гомоне», через который пробиваются перестук молотков ремесленников и горячие споры участников торга, тишина удаленных от базара улочек наполнена «верещанием» детских голосов. «Оглушительный шум», «бушующее море школы» контрасти- руют с «лунным ландшафтом смерти» еврейского кладбища. Своеобразными контрапунктами звучат голоса нищих – «гневные проклятия» одного сливались с голосом других «в один злобный хор», создавая таким образом гармоническое целое [Канетти 1990: 368]. Обращение к «музыкальному вокабуляру», как и у Верфеля, помогает наблюдающему транслировать атмосферу происходящего: нищие, окружающие «чужого» двигались «в каком-то искусном и в то же время яростном танце» [там же: 369]. Своеобразной кульминацией становится встреча с отцом Элии, который привлекает мелодикой голоса, подчеркивает напевностью значимость имени автора: «Э-ли-ас Ка-нет-ти?». Благодаря его фонетическим акцентам звук обретает форму, вес – не свойственные ему параметры: «Он великодушно взвесил его четыре или пять раз; показалось, будто слышится звон гирь» [там же: 384]. «Музыкальные метафоры» создают своеобразную звуковую палитру, которая окрашивает эмоции путника. В главе «Рассказчики и писцы» Канетти возвышает говорящего над пишущим, это были «островки древней и нетронутой жизни», звучащие слова, подчиненные ритму говорящего, заставляли «воздух бурлить над головами слушателей» [Канетти 1990: 385].
Музыкальность Канетти обнаруживает себя на разных уровнях – от включения «музыкальных» слов, «звучащих» метафор до синтаксических конструкций, замедляющих или ускоряющих ритм повествования, отводя особое место при этом прямой речи.
Автор активно использует звуковые контрасты: от рыночной сцены продажи кур (построенной на паузах, тишине и молчании) – к шуму школьного двора, от торжественной размеренности Меллаха – к бытовым звукам дома.
Выводы
В Восточных заметках оба автора создают звуковую партитуру чужого города, в которой рациональные смыслы слова как формы коммуникации и построения логической концепции мира менее важны, чем его звучание. И Верфель, и Канетти используют художественные и эмоциональные возможности диалогической формы, однако их главная установка – на интуитивное понимание, построенное на интонации, звукосочетании, гармонии и дисгармонизме. Верфель через диалог – преимущественно внутренний – передает противоречивость впечатления от описываемых встреч и нравов. Канетти, акцентируя не столько «реплики», сколько авторские комментарии, выявляет соответствие слова и инто- нации, обнажает скрытые замыслы собеседников, вписывает их в границы своего «восточного мифа». Оба отказываются от изучения языка с тем, чтобы воспринять акустические картины в их изначальности.
Различные пространства, по которым странствуют рассказчики, наполняются разной «музыкой». Часто специфика места реализуется через звуковой контраст с рядоположными сценами. Активно используются музыкальные метафоры, передающие авторское впечатление и наполняющие текст дополнительной экспрессией.
Архаический, мифологически осмысленный мир Востока реализуется в эстетически значимых формах, тесно переплетающихся с предваряющим и формирующимся знанием, вступающим в сложную систему взаимодействий с культурной эрудицией, стереотипами, направлением эстетических поисков обоих авторов.
Список литературы Акустика чужого пространства в восточных заметках Ф. Верфеля и Э. Канетти
- Аксенова М. В. Травелог: путешествие жанра и жанр путешествий // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. № 3 (31). С. 170-176.
- Банах И. В. Нарративная структура жанра путешествия (на материале русской литературы конца ХУШ - первой трети XIX вв.): автореф. ... канд. филол. наук. Минск, 2004. 21 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 391-399.
- Верфель Ф. Пляшущие дервиши // Верфель Ф. Черная месса / пер. А. Кантора. М.: Эксмо, 2005. С. 277-287.
- Головченко И. Ф. Эволюция жанра путешествия в мировой литературе // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7, № 1А. С. 180-187.
- Гуминский В. М. Путешествие // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 839-842.
- Едошина И. А. Художественное сознание модернизма: Истоки и мифологемы: дис. ... д-ра культурологии. Кострома, 2002. 350 с.
- Зверев А. М. Модернизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 568-571.
- Канетти Э. Человек нашего столетия / пер. с нем. / сост. и авт. предисл. Н. С. Павлова; ком-мент. Р. Г. Каралашвили. М.: Прогресс, 1990. 474 с.
- Канетти Э. С факелом в голове. История жизни: пер. с нем. А. Карельского. М.: Отто Райхль, 2020. 372 с.
- Липовецкий М. Н. Модернизм и авангард: родство и различие // Филологический класс. 2008. № 20. С. 24-31.
- Лихачев Д. С. Повести русских послов как памятники литературы // Путешествия русских послов XVI-XVII вв. Статейные списки. М.; Л., 1954. С.319-346.
- Рыков А. В. «Спор о древних и новых» и теория модернизма // Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2022. Т. 12, вып. 1. С. 147-163.
- Сейбель Н. Э., Шастина Е. М. Дихотомия «своего» и «чужого» в структуре Восточных заметок Ф. Зальтена, Ф. Верфеля, Э. Канетти // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 3. С. 319-335. doi 10.24224/2227-1295-2022-11-3-319-335
- Сурова О. Ю. Человек в модернистской культуре // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000: учеб. пособие / под ред. Л. Г. Андреева. М.: Высшая школа, 2001. С. 221-291.
- Фаустов А. А. Фрагмент // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. С. 285-286.
- Хализев В. Е. Монтаж // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 586-587.
- Шачкова В. А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Филология. Искусствоведение. 2008. № 3. С. 277-281.
- Canetti E. Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise / E. Canetti. Bearbeitet von Kurt-Michael Westermann. München: Carl Hanser Verlag, 2002. 160 S.
- Fiala-Fürst I. Das Lyrische Frühwerk Franz Werfel und seine musikalischen Qualitäten // Sym-paian. Jahrbuch der Internationalen Franz-Werfel-Geselschaft / Hrg. von K. F. Ausckenthaler. B. I. Bern - Berlin - Frankfurt a.M. - New York - Paris -Wien: Peter Lang, 1996. S. 47-64.
- Görbert J. Poetik und Kulturdiagnostik. Zu Elias Canettis „Die Stimmen von Marrakesch". St. Ingbert: Röhrig, 2009. 124 S.
- Hanuschek S. Elias Canetti. Biographie. München-Wien: Carl Hanser Verlag, 2005. 800 S.
- Klarmann A. D. Musikalität bei Werfel: Diss. Druck: Philadelphia, 1931. 82 S.
- Sonder I. Reise ins Heilige Land // David: Jüdische Kulturzeitschrift. 2013. № 3(96). URL: https://davidkultur.at/artikel/reise-ins-heilige-land (дата обращения: 03.01.2023).
- Werfel F. Zwischen Oben und Unten. MünchenWien: Langen-Muelle, 1975. 915 S.
- Werfel F. Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1938. 50 S. URL: https://translate.google.com/trans-late?hl=ru&sl=de&u=https://portal.dnb. de/bookvie-wer/view/1032703237&prev=search&pto=aue (дата обращения: 29.10.2023).