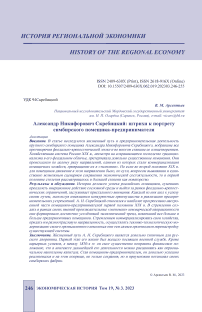Александр Никифорович Скребицкий: штрихи к портрету симбирского помещика-предпринимателя
Автор: Арсентьев В.М.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История региональной экономики
Статья в выпуске: 3 (62) т.19, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье исследуются жизненный путь и предпринимательская деятельность крупного симбирского помещика Александра Никифоровича Скребицкого, вобравшие все противоречия феодально-крепостнической эпохи и во многом ставшие ее олицетворением. Хозяйственная система России XIX в., несмотря на сохраняющееся господство традиционализма в его феодальном обличье, претерпевала довольно существенные изменения. Они происходили по целому ряду направлений, одними из которых стали коммерциализация помещичьих хозяйств, превращение их в «экономии». Но если во второй половине XIX в. для помещиков движение в этом направлении было, по сути, вопросом выживания и единственно возможным сценарием сохранения экономической состоятельности, то в первой половине столетия рассматривалось в большей степени как новаторство. Результаты и обсуждение. История делового успеха российских помещиков, сумевших преодолеть инерционное действие сословной среды и выйти за рамки феодально-крепостнических ограничений, заслуживает пристального внимания. Каждый из них шел к успеху своим путем, используя имеющиеся конкурентные преимущества в реализации предпринимательских устремлений. А. Н. Скребицкий относился к наиболее прогрессивно настроенной части помещиков-предпринимателей первой половины XIX в. В стремлении создать в рамках своих имений производительные «экономии» коммерческой направленности они формировали достаточно устойчивый экономический тренд, вовлекший все больше и больше предприимчивых помещиков. Стремлением коммерциализировать свои хозяйства, придать им разноотраслевую направленность, осуществлять технико-технологическую модернизацию своего промышленного комплекса они тем самым производили перенастройку существующей системы. Заключение. Жизненный путь А. Н. Скребицкого является довольно типичным для русского дворянина. Первый этап его жизни был всецело посвящен военной службе. Кроме карьерных успехов, к началу 1830-х гг. он смог существенно поправить финансовое положение, что в контексте дальнейшей его деятельности можно расценивать как первоначальное накопление капитала. Став помещиком-предпринимателем, он довольно успешно реализовался и на этом поприще, не только сохранив, но и приумножив потенциал своих симбирских фабрик.
Военная служба, дворянство, предпринимательство, промышленность, помещичье хозяйство, суконное производство, симбирская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/147241156
IDR: 147241156 | УДК: 94Скре6ицкий | DOI: 10.15507/2409-630X.062.019.202303.246-255
Текст научной статьи Александр Никифорович Скребицкий: штрихи к портрету симбирского помещика-предпринимателя
Хозяйственная система России XIX в., несмотря на сохраняющееся господство традиционализма в его феодальном обличье, претерпевала довольно существенные изменения. Они происходили по целому ряду направлений, одними из которых стали коммерциализация помещичьих хозяйств, превращение их в «экономии». Но если во второй половине XIX в. для помещиков движение в этом направлении было, по сути, вопросом выживания и единственно возможным сценарием сохранения экономической состоятельности, то в первой половине сто- летия рассматривалось в большей степени как новаторство. Кроме того, это было связано с преодолением целого ряда препятствий, связанных с существовавшими в дворянской среде установками жизнедеятельности. Занятие хозяйством не только не было приоритетным, но даже в какой-то мере считалось «недостойным» высокого звания «благородного российского сословия».
Результаты и обсуждение
История делового успеха российских помещиков, сумевших преодолеть инерционное действие сословной среды и выйти за рамки феодально-крепостнических ограничений, заслуживает пристального внимания. Каждый из них шел к успеху своим путем, используя имеющиеся конкурентные преимущества в реализации предпринимательских устремлений.
Весьма показательна история крупного симбирского помещика Александра Никифоровича Скребицкого (1778–1864), жизненный путь и предпринимательская деятельность которого вобрали в себя все противоречия той эпохи, во многом став ее олицетворением. Он родился в семье представителей польско-украинской шляхты, проживавшей в имении при с. Прусы Киевской губернии Черкасского повета. Получил образование в Киевском главном училище, по окончании которого поступил на военную службу в Московский мушкетерский полк, в звании унтер-офицера. После увольнения в декабре 1802 г. принят на службу в Киевское губернское правление, в связи с чем ему был присвоен чин губернского регистратора. Позднее Правительствующим сенатом был произведен в коллежские регистраторы1.
С 1 сентября 1805 по 1 ноября 1807 г. А. Н. Скребицкий служил в канцелярии Киевского гражданского губернатора. После того как по распоряжению императора
Александра I на гражданских губернаторов было возложено продовольственно-фуражное обеспечение войск, А. Н. Скребиц-кий назначен комиссионером по закупке и транспортировке продовольствия для нужд армии. За добросовестное выполнение своих обязанностей он получил в награду от киевского губернатора бриллиантовый перстень и был переведен в ранг губернского секретаря2.
Первый этап биографии А. Н. Скребиц-кого можно ограничить началом 1830-х гг. Его можно считать олицетворением жизненного пути типичного российского дворянина, всецело посвятившего себя служению государству. Все это время он фактически непрерывно находился на военной службе. Немалые испытания легли на плечи А. Н. Скребицкого в годы Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. В 1808–1810 гг. он принимал непосредственное участие в военных действиях и был отмечен командованием за особые отличия3.
С 1810 г. А. Н. Скребицкий служил ревизором при действительном тайном советнике сенаторе В. И. Красно-Милашевиче, председательствовавшем в диванах княжеств Молдавия и Валахия. В этой должности находился до 23 сентября 1812 г., дослужившись до чина титулярного советника.
После начала наполеоновского нашествия А. Н. Скребицкий оказался под началом генерал-интенданта графа А. Л. Санти, служившего на тот момент в должности киевского губернатора. Под руководством последнего проводился комплекс мероприятий по тыловому обеспечению Дунайской армии П. В. Чичагова и 3-й Обсервационной армии под руководством А. П. Тормасова. На начальном этапе войны граф Санти занимался организацией приема, размещения и продовольственного снабжения взятых в плен австрийских и саксонских воен- нопленных в Киеве после разгрома корпуса генерала Кленгеля в сражении под Кобриным [2, с. 854].
В гуще всех этих событий оказался и А. Н. Скребицкий, который на протяжении всей Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода служил под началом А. Л. Санти. После начала отступления русской армии на восток граф Санти был назначен на вновь учрежденную должность генерал-интенданта резервной армии. С 1814 г. А. Н. Скребицкий выполнял обязанности провиантского комиссионера этой армии, а в 1815 г. был награжден орденом Святого Владимира IV степени4.
После окончания военных действий А. Н. Скребицкий был назначен обер-прови-антмейстером в Варшаве, где служил под началом великого князя Константина Павловича. Успешный офицер был замечен великим князем, который после вхождения Великого княжества Варшавского в состав Российской империи стал главным представителем царской власти в Польше. С этого времени карьера А. Н. Скребицкого пошла стремительно вверх. С 1817 г. он служил в должности обер-провиантмейстера Литовского корпуса (впоследствии переименованного в Полевую провиантскую комиссию 6-го пехотного корпуса). В 1818 г. А. Н. Скребицкий награжден орденом Святой Анны II степени. В 1821 г. его назначили военным советником, а в 1829 г. за достижения по службе он был удостоен ордена Святого Станислава I степени5.
Практически сразу же после начала Польского восстания А. Н. Скребицкий стал помощником генерал-интенданта дей- ствующей армии, в составе которой в 1831 г. участвовал в подавлении восстания6.
После окончания польской кампании А. Н. Скребицкий написал прошение об освобождении от занимаемой должности, которое было удовлетворено. 26 февраля 1831 г. по расстроенному здоровью он был освобожден от должности помощника ге-нерал-интенданта, но оставлен в действующей армии для особых поручений7.
Уже после смерти своего покровителя, великого князя Константина, А. Н. Скре-бицкий в октябре 1834 г. подал новое прошение, в котором просил освободить его от всякой службы. Оно было также удовлетворено. В 1839 г. он произведен в чин тайного советника, получив знак отличия за двадцатилетнюю беспорочную службу.
С этого момента начался новый этап жизни А. Н. Скребицкого, связанный уже с другим направлением жизнедеятельности. Устав от тревожной Польши, он все больше задумывался об уходе на пенсию и переезде в российскую провинцию, где бы мог насладиться спокойной жизнью.
То, что после ухода с военной службы жизненный путь А. Н. Скребицкого оказался тесно связан с Симбирской губернией, стало результатом стечения ряда обстоятельств. После того как в результате восстания 1830–1831 гг. был разграблен его дом в Варшаве, он начал поиск подходящих имений для покупки8.
Выбор Симбирской губернии в качестве новой жизненной локации предопределил факт знакомства А. Н. Скребицкого с Иваном Александровичем Голицыным (1783–
1852), адъютантом великого князя Константина. По всей видимости, он также сыграл важную роль в замужестве старшей дочери Александра Никифоровича, Эмилии. Именно благодаря ему состоялось ее знакомство с будущим супругом. Им стал симбирский дворянин подполковник Александр Львович Киндяков, который также служил в Варшаве и участвовал в подавлении Польского восстания.
И. А. Голицын с 1813 г. совместно с теткой Марией Борисовной Алмазовой владел довольно обширным тереньгуль-ским имением. В 1822 г. благодаря целенаправленным усилиям и своим связям Иван Александрович смог лишить свою родственницу владельческих прав на часть ее доли, которая уже вскоре была продана А. Н. Скребицкому. В результате последний стал собственником части тереньгульско-го имения – с. Поповка с суконной фабрикой. К 1831 г. А. Н. Скребицкий выкупил оставшуюся долю тереньгульского имения И. А. Голицына с 11 тыс. дес. земли, суконной и стекольной фабриками.
И. А. Голицын был заядлым карточным игроком, поэтому из-за частых проигрышей вынужден был брать в долг и постоянно нуждался в деньгах. Вероятно, именно это обстоятельство побудило его продать имение.
Судя по размаху дорогостоящих приобретений, близкое знакомство с высокопоставленными особами, а также специфика военной службы А. Н. Скребицкого, связанная с материальным снабжением русской армии, предполагала возможности извлекать и немалые личные выгоды, благодаря чему к моменту выхода на пенсию он сколотил немалое состояние (неслучайно в народе слагали легенды о несметных сокровищах и кладах симбирского помещика). Об этом красноречиво свидетельствует то, с какой легкостью он покупал довольно крупные имения в Киевской, Симбирской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Вятской, Оренбургской губерниях, дома в Санкт-Петербурге и Москве9.
Реализуя себя в качестве помещика-предпринимателя, он всецело погрузился в реалии хозяйственной жизни и с довольно большим рвением взялся за реализацию производственно-коммерческих проектов. При этом основной областью приложения предпринимательских усилий новоиспеченного предпринимателя стало суконное производство. Благодаря постоянной поддержке государства в первой половине XIX в. оно относилось к числу наиболее прибыльных. Самым крупным промышленным объектом А. Н. Скребицкого была Те-реньгульская суконная фабрика. К моменту вступления в свои права нового владельца она представляла собой целый комплекс заводских корпусов, расположенных по течению речки Тереньгул на протяжении трех верст. Среди них два основных корпуса для фабричных работ, корпус для стрижки и отделки сукон, два здания для зимней сушки сукон, магазин для хранения сукон и разных материалов, красильное заведение. Шерсть и другие материалы хранились в шести кладовых. Отдельно на речке Те-реньгул располагались две сукновальни на 20 ступ, оборудованные всеми необходимыми устройствами. Кроме того, были и другие «мелочные фабричные строения», обслуживающие процесс производства сукна. Среди этих зданий не было помещений для жилья фабричных рабочих – верный признак того, что в тот период среди работавших на мануфактуре не было пришлых вольнонаемных людей. Рабочими были крепостные крестьяне и дворовые терень-гульской вотчины, отбывающие барщину10.
Вторая суконная фабрика А. Н. Скребиц-кого была гораздо менее производительной, к тому же на ней не был организован полный цикл производства сукна. Фактически она представляла собой внешнее отделение Те-реньгульской мануфактуры, куда привозили на доделку сукна из Вельяминовки11.
Учитывая то обстоятельство, что имения А. Н. Скребицкого были разбросаны по разным губерниям, значительную часть управленческо-распорядительных функций он осуществлял дистанционно. В каждом из имений от его имени действовали управляющие, общение с которыми осуществлялось в форме почтовой переписки.
Довольно наглядное представление о том, как функционировала эта система, дают документы, сохранившиеся в фондах Государственного архива Ульяновской области. Практически с момента вступления в права владельца симбирским имением А. Н. Скребицкий пытался реализовать план технической модернизации производства на Тереньгульской фабрике. Для этого он привлек француза Ф. Колиньона, до этого работавшего механиком на суконной фабрике в Польше. Приехав в 1830 г. на фабрику, новый управляющий с энтузиазмом взялся за дело12.
Из его переписки с работодателем мы узнаём о его действиях по технической реконструкции предприятия, благодаря которой планировалось увеличить как качество, так и количество производимой продукции. Однако реализовать все эти замыслы было непросто. Главным препятствием оказалась позиция представителей руководства Те-реньгульской вотчинной конторы: управляющего И. Шведова и служащих И. Зимули-на, А. Обрубова и И. Грязнова13. Действия француза они рассматривали как угрозу своей стабильности, не желая менять десятилетиями складывавшуюся систему. Она была ориентирована не столько на эффективную и рентабельную работу предприятия, сколько на обеспечение возможностей извлекать личную выгоду.
Из переписки мы узнаём, что Колиньон выражает недоумение по поводу целого ряда нерациональных с экономической точки зрения решений, которые не только не приносят дохода, но и оказываются убыточными для фабрики. В числе наиболее вредных для действия фабрики злоупотреблений Колиньон называет неправильное ведение бухгалтерии, а также разного рода «укрывательства» со стороны служащих вотчинной конторы [1, с. 48].
В своих письмах Колиньон высказывает несогласие по поводу целесообразности принимаемых управленческих решений. В частности, он пишет о закупке шерсти на фабрику по завышенной цене, которая к тому же была плохого качества. Даже в этом случае сохранялся дефицит шерсти, приводивший к простоям в работе фабрики. Терень-гульская фабрика была одним из крупных в Симбирской губернии поставщиков сукна в казну, практически постоянно участвовала в государственных подрядах. Поэтому срыв поставок мог повлечь за собой весьма неприятные последствия для владельца.
В числе других злоупотреблений со стороны служащих вотчинной конторы, препятствовавших нормальной работе предприятия, Колиньон называет следующие: «почти ежедневное» пьянство и плохая трудовая дисциплина; необоснованные растраты и финансовые злоупотребления, вследствие которых возникла задолженность в сумме около 100 тыс. руб.; частые случаи воровства шерсти, сукна, мыла; незаконный отрыв рабочих от заводских работ, которых управляющий и служащие конторы заставляли работать на своей земле14.
Не менее резкая критика уже в адрес Ко-линьона звучит в письмах управляющего вотчинной конторой Ивана Шведова. Он отмечает, что при установке нового водяного колеса были допущены грубые просчеты и оно оказалось непригодным. Чесальные, прядильные машины и ткацкие станы по несколько раз переставлялись с места на место, отчего терялось много времени. Кузницу, располагавшуюся у реки, поместили в деревянном корпусе рядом со складом шерсти, что создавало пожароопасную ситуацию. Ткацкого мастера, работавшего 30 лет, уволил без всякой причины и назначил вместо него неопытного. Особых выделенных мальчиков делу не обучал. Сообщая об этих и других упущениях, Шведов отмечает: «Сукна ныне работаются хуже прежнего, как у нас работали без него, отчего происходит и при сдаче в казну большой брак, все чины в комиссии не могут надивиться, что у нас при механике сукна выходят хуже. Вчерашний день из 288 половинок сдал только 159, и последние 129 половинок за разными пороками забракованы и обращаются на фабрику»15.
Далее он делает вывод, «что механик Колиньон по действиям суконной фабрики и машинного производства нисколько не сведущ», заключает, «что фабрика не сможет оказать при действии механика Коли-ньона желаемого успеха и улучшения по сукноделию, а без него можно надеяться достигнуть хорошего успеха и улучшения фабрики, ибо есть свои люди, умеющие делать машины и действовать на оных, коими лишь только распорядиться конторе»16.
Вероятно, А. Н. Скребицкий оказался в затруднительной ситуации, не понимая, кто же больше прав. Первоначально он безоговорочно поддерживал своего «ставленника». Но по мере того как знакомился с позицией служащих вотчинной конторы, каждому из которых приказал писать о действиях француза, все больше и больше сомневался.
Ситуацию осложняло то, что, даже вступив в права собственника тереньгульского имения, он некоторое время не мог приехать на фабрику, оказавшись в гуще происходивших в Польше событий и продолжая оставаться на военной службе. Для улаживания споров и взятия ситуации под контроль А. Н. Скребицкий вначале командировал в Тереньгу шурина, Гавриила Яковлевича Езерского, а затем брата Степана.
К сожалению, в документах не обнаружена информация, чем закончился принципиальный спор между Колиньоном и так называемой старой гвардией. По-видимому, стремясь наладить отношения со служащими конторы, от действий которых зависело благополучие всего тереньгульского имения, А. Н. Скребицкий не решился на том этапе ломать существовавшую хозяйственно-управленческую систему. В итоге механику Ф. Колиньону так и не удалось в полной мере осуществить план модернизации предприятия. Вероятно, он вскоре покинул Тереньгу, так как в более поздних документах мы его не находим в числе механиков Тереньгульской суконной фабрики.
В дальнейшем, поселившись в с. Тереньга и имея возможность непосредственно участвовать в делах своей фабрики, А. Н. Скребицкий прочно взял бразды правления в свои руки, но в то же время продолжил прилагать усилия в направлении совершенствования технико-технологической организации производства.
О техническом оснащении суконной фабрики в с. Тереньга известно из переписки мастеров и главного механика предприятия с ее владельцем. Мастер Степан Новиков с рабочими людьми в письме от 1 ноября 1831 г. докладывает А. Н. Скребицкому, что фабрика работает в полном комплекте, имеются 62 одночелночных стана, 63 артели на ручных колесах, 12 прядильных станков, в связке с которыми действует 10 щипальных, чесальных и катальных аппаратов17.
Практически сразу после вступления в права собственника А. Н. Скребицкий вкладывал немалые средства в дооснащение фабрики, заказывая машины и оборудование за границей. Заводской механик француз Коли-ньон в письме от 12 ноября 1831 г. сообщал, что «машины из заграницы получил, все в хорошем состоянии, он их собрал, кроме гидравлического пресса, для сборки которого не было нужных материалов»18.
Одной из задач, которую планировалось решить благодаря внедрению технических инноваций, было налаживание производства тонких сукон, более сложных в отделке. До этого фабрика производила лишь грубые сорта солдатского сукна, поставляемого по казенным подрядам. Главный управляющий вотчинной конторой Иван Шведов в рапорте А. Н. Скребицкому в 1831 г. сообщает: «Из присланных Вами из заграницы трех аппаратов работает два, третий оставлен для тонких сукон, они пока не производятся. Еще прежние работают четыре аппарата, всего шесть аппаратов, при коих три машины щипальных, двенадцать прядильных, три ворсостригальные цилиндрические и две американские машины, а гидравлический пресс не собран...»19.
В частности, благодаря его инициативам в производственный процесс были внедрены усовершенствованные аппараты, так называемые контины, благодаря которым можно было повысить качество производимого сукна. Фабричные рабочие их называли «секретами», скорее всего потому, что они были первоначально внедрены лишь на нескольких фабриках и держались в секрете, обеспечивая определенные конкурентные преимущества20.
Кроме того, его суконные фабрики были оснащены паровыми двигателями, которые приводили в движение все основные машины и механизмы. В источнике начала
1860-х гг. в этом отношении фабрики А. Н. Скребицкого относятся к наиболее технически совершенным в губернии21.
Как и большинство других суконных фабрик Симбирской губернии, фабрика в с. Тереньга специализировалась на производстве солдатских сукон, львиную долю продукции поставляя в казну. Ситуация несколько изменилась во второй половине 1850-х гг., когда закончилась Крымская война. Снижение объемов закупки сукна в казну дало возможность переориентировать производство на свободную продажу. Оперативно отреагировать на падение государственных закупок сукна могли только крупные и технически оснащенные предприятия, к числу которых относились и фабрики А. Н. Скребицкого22.
Говоря о А. Н. Скребицком как о помещике, следует сказать о его сложных отношениях с крестьянами. Он прослыл сторонником строгой дисциплины, создав довольно жесткую репрессивную систему. Стараясь поддерживать порядок в имении, он нередко перегибал палку. Иллюстрацией этого стала возникшая во второй половине 1840-х гг. конфликтная ситуация в отношениях А. Н. Скребицкого с проживающими в с. Тереньга несколькими семействами солдатских жен. Они, не являясь крепостными, работали на мануфактуре в качестве вольнонаемных. Недовольство владельца вызвало то обстоятельство, что они энергичнее, чем другие, отстаивали свои права, заражая примером и крепостных. А. Н. Скребицкий просил уездного исправника выслать их из Тереньги за то, что они производят беспорядки. После того как следствие не подтвердило обвинений, выдвинутых против солдаток, А. Н. Скребицкий решил действовать сам. В жесточайший январский мороз они были выселены из заводских домов и вы- сланы из Тереньги. Солдатки обратились с жалобой к симбирскому губернатору князю Черкасскому, выдвигая в том числе требование о компенсации за дома, из которых они были выселены А. Н. Скребицким. В течение трех лет велась переписка между административными органами по этому вопросу, однако солдатки так и не добились своего23.
Еще более жестко тереньгульский помещик относился к собственным крепостным. В народной памяти сохранилось выражение, которое любил повторять А. Н. Скре-бицкий: «Плутуй, воруй, да концы хорони, а попался, так не пеняй!». Провинившихся он жестко наказывал, нередко практикуя и телесные экзекуции.
А. Н. Скребицкий оставался богобоязненным человеком. В 1850 г. на собственные средства он возвел каменную Александро-Невскую церковь. При этом на многих сохранившихся предметах церковной утвари выгравированы чин и имя благодетеля. Кирпич для строительства производился на кирпичном заводе, устроенном в терень-гульском имении самим владельцем.
После реформы 1861 г. А. Н. Скребицкий постепенно отошел от дел. В 1861 г. он продал дом в Симбирске известному симбирскому предпринимателю купцу Сулейману Абдулловичу Акчурину [3, с. 19]. Последние годы жизни А. Н. Скребицкий провел в Санкт-Петербурге. Уже тяжело болея и предчувствуя скорую кончину, он составил завещание, которое было утверждено 9 июня 1864 г. в Царскосельском уездном суде, а 12 июня представлено для хранения в запечатанном конверте в Санкт-Петербургский опекунский совет. Умер тереньгульский помещик 19 июля 1864 г. на 87-м году жизни. Как следует из текста завещания, в числе наследников значились третья жена Анна Ивановна Скребицкая (Гуреева), дочери Эмилия Александровна Киндякова и София Александровна Стремфельт, а также сыновья умершего брата А. Н. Скребицкого, Петр и Николай Степановичи Скребицкие24.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что жизненный путь А. Н. Скребицкого является довольно типичным для русского дворянина. Первый этап его жизни был всецело посвящен военной службе. Весьма преуспев на этом поприще, он к началу 1830-х гг. имел за плечами хороший послужной список. Кроме того, специфика занимаемых должностей и выполняемых служебных обязанностей позволила ему существенно поправить финансовое положение. Судя по тому, как сложилась дальнейшая судьба А. Н. Скре-бицкого, результаты его деятельности, оперируя рыночными категориями, можно расценивать как первоначальное накопление капитала. Став помещиком-предпринимателем, он довольно успешно реализовался и на этом поприще, не только сохранив, но и приумножив потенциал своих симбирских фабрик. Его деятельность можно идентифицировать как предпринимательский, или переходный, тип управления. Высшим его звеном оставался заводчик, и именно от его личных качеств, а также способов и форм реализации предпринимательской инициативы главным образом зависела эффективность всей системы организации бизнеса, а в итоге и деловой успех.
В первой половине XIX в. предпринимательская деятельность помещиков и их стремление вести в рамках своих имений расширенное воспроизводство рыночного типа не были еще так называемым мейнстримом и больше напоминали новаторство наиболее прогрессивно настроенных. Тем не менее к середине XIX в. стремление к созданию в рамках своих имений производительных «экономий» коммерческой направленности превратилось в достаточно устойчивый экономический тренд, вовлекавший все больше и больше предприимчивых помещиков. Стремлением коммерциализировать свои хозяйства, придать им разноотраслевую направленность, осущест- влять технико-технологическую модернизацию своего промышленного комплекса они тем самым производили перенастройку существующей системы. По сути, они уже преодолевали локальную ограниченность своих хозяйств, заимствуя накопленный к тому времени опыт и внедряя разного рода инновации. При этом переход к производству расширенного типа автоматически разрушал натуральную замкнутость феодально-крепостнических хозяйств.
Хотя одной ногой помещики-предприниматели шагнули в эпоху индустриальной модернизации, второй ногой они продолжали стоять в «болоте» феодально-крепостнической системы, замедлявшей движение вперед. Следует отметить, что в некоторых случаях промышленники превращали это «препятствие» в «благоприятствующий» фактор. В данном случае речь идет о возможности использования дворянами-помещиками дешевого труда собственных крепостных крестьян, а также даруемых государством сословных привилегий и охраняемой властью заповедной области феодального землевладения.
Список литературы Александр Никифорович Скребицкий: штрихи к портрету симбирского помещика-предпринимателя
- Арсентьев В. М. Трансляция западноевропейских инноваций в промышленности Среднего Поволжья в первой половине XIX века (на примере деятельности иностранных специалистов) // Экономическая история. 2014. № 2. С. 43-50.
- Подмазо А. А. Образы героев Отечественной войны 1812 года: Военная галерея Зимнего дворца. М.: Рус. витязи, 2013. 864 с.
- Симбирск купеческий: в 2 ч. Ч. 2. Купеческие фамилии Симбирска / Р. К. Вильданова, Р. Ш. Гайнетдинов [и др.]; ред.-сост. Т. А. Громова. Ульяновск: РГ "Пеликан", 2016. 102 с.