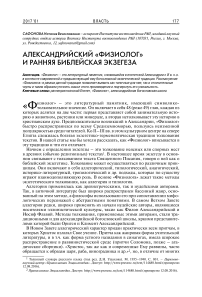Александрийский «Физиолог» и ранняя библейская экзегеза
Автор: Сафонова Наталия Вячеславовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
«Физиолог» - это литературный памятник, сложившийся в египетской Александрии к III в. н.э. в контексте современной и предшествующей ему богословской экзегетической традиции. Рассмотрение «Физиолога» в рамках данной традиции позволяет выявить как типичные для нее, так и отличительные черты и таким образом уточнить смысл этого произведения и подчеркнуть его уникальность.
Раннехристианский египет, "физиолог", александрийская богословская школа
Короткий адрес: https://sciup.org/170168582
IDR: 170168582
Текст научной статьи Александрийский «Физиолог» и ранняя библейская экзегеза
«Ф
изиолог» – это литературный памятник, имеющий символикотолковательное значение. Он включает в себя 48 (реже 49) глав, каждая из которых делится на две части: первая представляет собой занимательную исто- рию о животном, растении или минерале, а вторая истолковывает эту историю в христианском духе. Предположительно возникший в Александрии, «Физиолог» быстро распространился по всему Средиземноморью, пользуясь неизменной популярностью среди читателей. Ко II–III вв. в этом культурном центре на севере Египта сложилась богатая экзегетико-герменевтическая традиция толкования текстов. В нашей статье мы бы хотели рассказать, как «Физиолог» вписывается в эту традицию и что его отличает.
Начнем с определения экзегезы – это толкование неясных или спорных мест в древних (обычно религиозных) текстах1. В настоящее время экзегезу в основном связывают с толкованием текста Священного Писания, говоря о ней как о библейской экзегетике. Толкование может осуществляться по различным принципам. Они включают в себя аллегорический, типологический, анагогический, историко-литературный, тропологический и др. подходы, которые по существу играют взаимодополняющую роль. В основе «Физиолога» лежат такие методы экзегетического толкования, как аллегория и типология.
Аллегория применялась как древнегреческими, так и иудейскими авторами. Так, в античной литературе был широко распространен басенный жанр, основанный на этом методе, а философы использовали его при сопоставлении мифологических персонажей с абстрактными понятиями. В самом Ветхом Завете аллегории редки, широко применять их начали иудейские авторы, являющиеся носителями эллинистической культуры, такие как Филон Александрийский и Иосиф Флавий. Методы толкования, применяемые этими авторами, стали традиционными и для александрийской богословской школы, яркими представителями которой были Ориген и Климент Александрийский.
В Новом Завете аллегорический характер придан практически всем притчам, в которых Христос излагал Свое учение. Притча как жанровая форма учительской литературы, и в т.ч. как форма устного назидания в синагогах, имела широкое распространение в раввинистической среде (притчи Соломона, позже – ага-дические сборники). «Христос, так же как и современные Ему раввины, часто обращается к образам царя, раба, виноградника и др.»2, но, в отличие от многих иудейских притч, новозаветные используют для своих сюжетов, как правило, примеры из повседневной жизни слушателей. Судя по стилю и структуре, наиболее вероятно, что «Физиолог» также апеллирует к простому народу. При толковании сюжета автор «Физиолога» использует обращение к читателю во втором лице, что обусловлено основной его задачей религиозного и нравственного воспитания. Этот мотив сближает «Физиолог» с притчами и баснями по цели и по форме, а также сближает с гомилией – проповедью, написанной простым, понятным для широкой аудитории языком. Этот жанр был очень распространен у богословов александрийской школы. Аллегорические методы, широко использующиеся в гомилиях и притчах, наиболее подходили для популяризации Библии.
Такой популярный автор, как Климент Александрийский, так же как и Филон Александрийский задолго до него, использует цитаты из языческих авторов и привлекает их методы к толкованию Писания. Это совмещение традиций характерно для александрийской культурной среды в целом; здесь «Физиолог» выступил ярким ее представителем. Действительно, автор трактата также находил вдохновение в языческой и иудейской традициях. Если целью произведения является нравственное и религиозное воспитание, то предполагается использование образов, понятных аудитории, через которые при этом возможно выразить божественную истину. По этой причине можно говорить об использовании автором связанных с животными ходовых сюжетов, которые скорее всего имели распространение во всем Восточном Средиземноморье. Много заимствований и из натуралистической и псевдогеографической античной литературы.
Однако есть и существенные отличия «Физиолога» от других современных ему работ. Так, в отличие от александрийских теологов, которые применяют экзегезу к библейскому отрывку, автор «Физиолога» ставит в центре своего повествования свойства природы и животных и именно их пытается интерпретировать. Но почему автор «Физиолога» выбрал именно мир природы для иллюстрации божественных истин и богословских догм? Здесь будет уместно вспомнить цитату из Амвросия Медиоланского о том, что «Физиолог» – это произведение о «природе и повадках животных, и их введения в мистически-духовный контекст, и как они свидетельствуют о Порядке Господа Бога нашего» [Амвросий Медиоланский].
Действительно, и животный, и растительный мир могут отражать мир духовный. Вспомним о том, что животные также участвуют в деле Спасения, как они участвовали и в грехопадении. Особо оговаривается в Библии тот факт, что одним из показателей Спасения и грядущего рая для праведников будет такое явление, как прекращение вечной вражды между добычей и хищником, охотником и жертвой.
Кроме того, для всей эллинистической культуры, столкнувшейся с восточным мистицизмом, было характерно изучение природного мира с приданием ему магических и оккультных свойств. Мы видим, что установка на то, чтобы видеть в физических явлениях явления другого, высшего уровня, воспринимать природу как шифр, существовала на протяжении нескольких веков, особенно ярко проявившись в трудах Псевдо-Демокрита и впоследствии воплотившись уже в герменевтической традиции [Evans 1896: 35].
Но для ранних отцов Церкви, для представителей александрийской богословской школы истинное знание заключается в Священном Писании, потому и весь универсум трактуется ими на его основании. Так, все процессы, происходящие в мире, вписываются в христианскую доктрину, но, чтобы это понять, необходимо познать и расшифровать категории физического мира, и тогда они смогут стать иллюстрацией к Писанию. Так, Ориген пишет: «…видимый мир учит нас в отношении невидимого; земля содержит образы божественных вещей, так, чтобы при помощи предметов низшего порядка мы достигли того, что наверху....И Бог сделал человека по своему образу и подобию. Так, Он создал и низших животных по образу их божественных прототипов» [Ориген]. Невидимое проникает через видимое, все творение повествует о своем создателе – Боге, и «Физиолог» является как бы манифестом присутствия Бога в своих творениях. Поскольку речь идет уже о новозаветной традиции, то «Физиолог» показывает нам основные события и темы ее Священной истории: искупительной жертвы, борьбы Иисуса Христа и дьявола, которые также находят свое подтверждение и отражение в мировом процессе, в событиях природного и животного миров [Evans 1896: 41].
Таким образом, принадлежность «Физиолога» к александрийской экзегетической традиции обусловила то особое отношение к природному миру, который воспринимался как отражение божественных, духовных идей в материальном физическом мире и чьи образы стали теперь использоваться для иллюстрирования христианских богословских истин.
Список литературы Александрийский «Физиолог» и ранняя библейская экзегеза
- Амвросий Медиоланский. Творения. -Православный портал Предание.ру. Доступ: http://predanie.ru/amvrosiy-mediolanskiy-svyatitel/book/67702-amvrosiy-mediolanskiy-tvoreniya/(проверено 20.06.2016)
- Ориген. Комментарий на Евангелие от Иоанна. -Православная энциклопедия «Азбука веры». Доступ: http://azbyka.ru/otechnik/Origen/kommentarii-na-evangelie-ot-ioanna/(проверено 20.06.2016)
- Evans E.P. 1896. Animal symbolism in Ecclesiastical architecture. London. W. Heinemann. 173 р