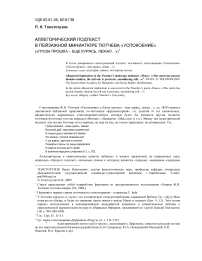Аллегорический подтекст в пейзажной миниатюре Тютчева «Успокоение» («Гроза прошла - еще курясь, лежал…»)
Автор: Толстогузов Павел Николаевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 (7), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается аллегорический подтекст тютчевского стихотворения «Успокоение» («Гроза прошла - еще курясь, лежал…»).
Аллегория, символ, тютчевская поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175181
IDR: 170175181 | УДК: 82:81-26;
Текст научной статьи Аллегорический подтекст в пейзажной миниатюре Тютчева «Успокоение» («Гроза прошла - еще курясь, лежал…»)
Стихотворение Ф.И. Тютчева «Успокоение» («Гроза прошла – еще курясь, лежал…», ок. 1829) кажется лаконичной пейзажной зарисовкой, по-тютчевски «фрагментарной», т.е. далекой от тех законченных, афористически выраженных стихотворений-эмблем, которые будто бы являются другим полюсом тютчевской поэтики того же периода («Фонтан», «Цицерон», «Mala aria» и т.п.). Между тем аллегорической подтекст для поэзии Тютчева этого периода, на наш взгляд, не только характерен: он универсален. См.:
Гроза прошла – еще курясь, лежал Высокий дуб, перунами сраженный, И сизый дым с ветвей его бежал По зелени, грозою освеженной. А уж давно, звучнее и полней, Пернатых песнь по роще раздалася И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася [13, с. 87].
Аллегорические и символические аспекты небесных и земных проявлений, не выраженные здесь напрямую, образуют подтекст, ключевым словом к которому являются «перуны»: выражение «перунами
сраженный» может быть воспринято как ходовая перифраза и как отголосок устойчивого аллегорического значения грозы – проявление ее «неземного языка» («Не то, что мните вы, природа…»). В традиционном аллегорическом контексте гроза как Божий гнев поражает человеческую гордость, эмблематически выраженную высоким/гордым дубом, а радуга предстает как радуга завета («между Богом и землею»3) и как высокое зрелище Божественного творчества4. Ср.:
Гул восшумел, и дождь и град,
Простерся синий дым полетом,
Дуб вспыхнул, холм стал водометом,
И капли радугой блестят.
Взгляните в буйности надменной На сей ревущий страшный мрак… (Г.Р. Державин, «Гром»)5
… И тот, на коего с трудом взирали очи, Кто ада и небес едва не досягал, – Упал!
(И.И. Дмитриев, «Дуб и трость»6 [4, с. 187]) Ужель перуны устремишь
В пылинки малы, оживленны Твоей любовью бесконечной, На коих ты среди перунов Осклабленным лицем взираешь? Нет, паче громовым ударом Ты рассекаешь гордый дуб, Чем нежный и смиренный мирт.
Се! – радости прекрасный пояс,
Семью цветами испещренный,
В завет погибели минувшей
Препоясует те равнины,
Которые еще по буре
Во влаге моются кристальной.
(С.С. Бобров, «Херсонида» [8, с. 137, 138, 151])1
В глубь леса вонзилися молний лучи, –
И дуб преклонился челом горделивым!
… Но там уж светлело! глагол вразумленья Молчал, – и по тучам свинцовым алел Трехцветной дугою завет примиренья!
(В.Н. Григорьев, «Гроза» [9, т. 1, с. 396])
В романтической поэзии 20-х годов этот мотив, среди прочего, мог выражать тему охлажденной опытом души, чувствующей свое одиночество посреди жизнерадостных проявлений бытия:
Порою дни любви и счастья Мне память приведет моя – Но без сердечного участья Их вспомню и забуду я.
Так дуб, перуном раздробленный,
Стоит без листьев и ветвей
Среди смеющихся полей,
Весенним солнцем озаренных.
(Е.П. Зайцевский, «Одиночество» [9, т. 1, с. 516])
Или – в развитие традиционного аллегорического мотива – поражение демонической гордости, вносящей в мир начало дисгармонии, и восстановление гармонии: Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облекался, Недавно дуб над высотой В красе надменной величался…
Но ты поднялся, ты взыграл, Ты прошумел грозой и славой – И бурны тучи разогнал, И дуб низвергнул величавый.
Пускай же солнца ясный лик Отныне радостью блистает, И облачком зефир играет, И тихо зыблется тростник.
(А.С. Пушкин, «Аквилон» [10, с. 217])
Аллегорические значения, сопутствующие мотивам «гроза и дуб» и «радуга», в стихотворении Тютчева остаются втуне, не актуализируются, так как не получают понятийных экспликаций. Развитие темы совершается иначе: образы экспозиции и финала в приоткрывшемся временном «просвете» («еще – а уже») застывают относительно друг друга как диалектические моменты «этого – иного». Происходит их взаимоопределение. Звучность и полнота послегрозового мира вполне очевидны лишь на фоне индивидуальной гибели, равно как героика такой гибели, ее сложная («неясная», потому что внутренне противоречивая) выразительность может выявить свой пафос лишь в обрамлении восстановленного, заветного мирового единства. Образы ограничивают друг друга, заостряя свои определения через антагонистически выраженную инаковость, и в то же время их взаимоопределение образует единый процесс диалектического становления темы. И гибель дуба, и звучная песня птиц, и радуга являются следствиями грозы и, значит, возвращают ей, ее номинально обозначенному экспозицией событию, полноту внутренних определений. В таком событии, где титанические сопротивление и гибель обречены разрешиться в стройную, музыкальную гармонию («песнь»), слышен блаженный смех богов (ср. мифологическую концовку еще одного грозового пейзажа – «Люблю грозу в начале мая…»)2. Экспозиция («Гроза прошла») выполняет здесь двойную функцию: функцию эвристического пробрасывания темы (в которой неустраним почти чистый дескриптивный момент) и функцию неразвернутого смыслового тождества, от которого исходят и к которому возвращаются все моменты смыслового циклического становления .
Мерцающий план иносказания у Тютчева (гроза поражает высоты ) лишается дидактической интеллектуальной силы, упраздняющей полноту бытийных определений, и событию прошедшей грозы сообщается глубинный смысл древнего мифологического тождества молнии и дуба4, смерти и жизни (жизнеутверждающей гибели и гибельного жизнеутверждения) – всё то, что в аллегории программно противостояло друг другу. Все противоречивые аспекты события связаны в смысловое единство, невыразимое не в силу каких-либо служебных отношений к сфере чистых духовных сущностей, а в силу очевидной, поэтически раскрытой несказуемости его собственного ядра. «Пейзажная» лирика, романтическая проекция «ландшафта души» (на какой-либо эмпирический план) держатся на прямо высказанном или подразумеваемом транспсихическом взаимоотношении космологического и антропологического аспектов существования. Любая эмпирия в мирах романтизма имеет незримую надстройку, возвышающую ее до состояний мировой души. Но степени этой незримости, степени ее смысловой интенсивности – разные. В связи с этим композиционная схема может как бы пульсировать от реализации эйдетически свернутого и становящегося за счет внутренних диалектических моментов образа – до полного вида, предстающего как развернутое сравнение природной и человеческой сфер и содержащего отчетливые понятийные экспликации.
Наблюдения такого рода также помогают понять, что теоретическая дискредитация собственно аллегории в романтическую эпоху не мешала продуктивному использованию аллегорических контекстов как средства тонкой смысловой настройки.
Список литературы Аллегорический подтекст в пейзажной миниатюре Тютчева «Успокоение» («Гроза прошла - еще курясь, лежал…»)
- Английская лирика первой половины XVII века: пер. с англ. М.: МГУ, 1989. 347 с.
- Гельдерлин. Гиперион: пер. с нем. М.: Наука, 1988. 718 с.
- Державин Г.Р. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. 469 с.
- Дмитриев И.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1967. 501 с.
- Жуковский В.А. Сочинения: в 3 т. М.: Худож. лит., 1980.
- Капнист В.В. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1973. 615 с.
- Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. 975 с.
- Поэты 1790-1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. 890 с.
- Поэты 1820-1830-х годов: в 2 т. Л.: Сов. писатель, 1972.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. М.: АН СССР, 1963. 462 с.
- Ростопчина Е.П. Талисман. Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания. М.: Моск. рабочий, 1987. 319 с.
- Русская литература -век XVIII. Лирика. М.: Худож. лит., 1990. 735 с.
- Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1987. 448 с.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Радуга, 1997. 448 с.
- Хвостов Д.И. Полное собрание стихотворений графа Хвостова. В 8 т. Т. 5. СПб, 1830. 404 с.
- Эмблемы и символы. М.: Интрада, 2000. 367 с.
- Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высш. шк., 1990. 303 с.
- Эстетика немецких романтиков: пер. с нем. М.: Искусство, 1987. 736 с.
- Horace. Odes and epodes. Harvard, 1995. 438 p. Latin and English.
- Статья представляет собой переработку фрагмента из диссертационного исследования «Лирика Ф.И. Тютчева: поэтика жанра» (М., 2004).
- Название и первые строки тютчевского стихотворения -в переводе F. Jude
- У Тютчева «радуга» и «дуга», что соответствует словоупотреблению славянской Библии. Ср.: «Дугу Мою полагаю во облаце, и будет во знамение завета вечнаго между Мною и землею» (Быт. 9. 13). Этот мотив широко использовался в новоевропейской ландшафтной живописи; в романтическом пейзаже к символической выразительности радуги обращался Фридрих, называвший ее «дугой Божьей благодати» [18, с. 504, 683-684].
- Сир. 43. 12-13.
- Ср. также стихотворение Державина «Радуга» [3, с. 312-315].
- Аллегорический мотив «дуб и трость», восходящий к Лафонтену, известен в русской поэзии по его многочисленным басенным разработкам (А.П. Сумароков, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, Н.П. Николев, И.А. Крылов и др.).
- Об устойчивости мотива «сраженный грозой дуб» и устойчивости его аллегорических значений в более поздней традиции свидетельствует стихотворение Бенедиктова «Гроза» (ср. также его «Радугу»), приведенное нами одноименное стихотворение В.Н. Григорьева, «Дуб» И.И. Козлова и др. Использование мотива «грозы» как перифразы «Божьего гнева» см. у самого Тютчева в переводе «Венка мертвым» Цедлица («Байрон») [13, с. 94].
- О дубе как о поэтическом символе жизненной титанической мощи, восходящем к мифу и фольклору, см.: [17, с. 47-50]. Сравнение дуба с «племенем титанов» содержит стихотворение Гельдерлина «Дубы» (см.: [2, с. 270]). В качестве образа, выражающего иррациональную и героическую основу титанизма, поверженный дуб в романтической поэзии входил в ряд таких репрезентативных для этой традиции мотивов, как «осень», «вечер», «ночь», «руины» и т.п. Ср. программный отбор подобных мотивов в «Осенних листах» Е.П. Ростопчиной: «Я в храме древнем, обветшалом // Молюсь теплей; среди лесов // Ищу не тополей красивых, // Не лип роскошных, горделивых, - // Но громом сломанных дубов!..» [11, с. 31]. В новоевропейской поэтической традиции мотив поверженного дуба восходит к аллегорическому инвентарю эпохи барокко, где он выражал тему "vanitas" Ср., например, стихотворение Роберта Геррика (R. Herrick) «Все крушится и умирает» (см.: [1, с. 223]). В то же время возможен был и мотив дуба-победителя (например, в басне Д.И. Хвостова «Ветр и дуб», где с присущим этому автору непреднамеренным комизмом «спесивый дуб», знаменующий Кутузова, оказывается выразителем патриотической идеи: «Погибнуть я могу, но кланяться не стану»; см.: [15, с. 226, 227]).
- См: feriuntque summos fulgura montis (молния поражает вершины гор) - Гораций (Carm. II 10) [19, p. 130]. В переводе В.В. Капниста: «Вершины гор бьет чаще гром» [6, с. 154]. Аллегорический мотив мог включать в себя оба образа высоты - горной вершины и дуба. Ср.: «Ветр ломает дуб нагорный, // По лозам он лишь скользит» (А.М. Бакунин, «Жатва»; см.: [12, с. 535]); «Скатившись с горной высоты, // Лежал на прахе дуб, перунами разбитый…» (Жуковский, «Дружба»; см.: [5, т. 1, с. 254]). В «Emblemata et Symbola» (сборник формировался в XVII-XVIII вв.) связь вершины и дерева, а также вершины и молнии аллегорически раскрывается как величие силы («Кто может его исторгнуть?») и как опасность близости к сильным мира сего (см.: [16, с. 97, 117, 284]).
- Молния и дуб являются мифологическими метафорами Зевса (Юпитера)/царя/мужчины и, следовательно, выражают в мифе один и тот же смысловой субстрат (см.: [7, с. 50]; [14, с. 122, 207]). Эта связь эмблематически закреплена в образе Юпитера в дубовом венке (см.: [16, с. 56]).