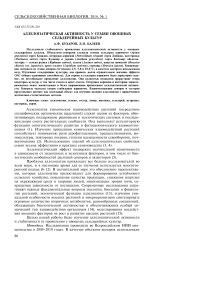Аллелопатическая активность у семян овощных сельдерейных культур
Автор: Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н.
Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology
Рубрика: Качество посевного материала и продуктивность
Статья в выпуске: 1 т.49, 2014 года.
Бесплатный доступ
Исследовали стабильность проявления аллелопатической активности у овощных сельдерейных культур. Объектами-донорами служили семена сельдерея корневого ( Apium graveolens ) сорта Купидон, петрушки корневой ( Petroselinum crispum ) сорта Любаша, пастернака ( Pastinaca sativa ) сорта Кулинар и укропа ( Anethum graveolens ) сорта Кентавр; объекты-тестеры - семена редиса ( Raphanus sativus ), салата ( Lactuca sativa ), капусты японской ( Brassica chinesis var. japonica ), кресс-салата ( Lepidium sativum ), горчицы ( Brassica juncea ). Концентрация экстракта из семян доноров составляла 2,5; 5,0 и 10,0 %, в качестве контроля использовали воду. Изученные сельдерейные культуры, как правило, имели отрицательное значение эффекта ОАС (общая адаптивная способность). Для укропа и сельдерея корневого было характерно сильное, но нестабильное проявление аллелопатии. Они полностью подавляли прорастание семян некоторых культур, в том числе салата и кресс-салата. Петрушка корневая и пастернак характеризовались менее значительным и более выравненным проявлением аллелопатической активности. Контроль оказался самым стабильным вариантом. Взаимоотношения доноров и тестеров представляют интерес как модельный объект для изучения явления аллелопатии с привлечением математико-статистических методов.
Аллелопатия, семена, тестер, донор, вытяжка, сельдерей, петрушка, пастернак, укроп
Короткий адрес: https://sciup.org/142133483
IDR: 142133483 | УДК: 635.53:581.524
Текст научной статьи Аллелопатическая активность у семян овощных сельдерейных культур
Аллелопатия (химическое взаимодействие растений посредством специфических органических выделений) служит одним из факторов, обеспечивающих поддержание равновесия в экологических системах и последовательную смену растительных сообществ. Она выполняет регуляторную функцию онтогенетического развития и фитоценотического взаимоотношения (1). Изучение принципов химических взаимодействий растений способствует пониманию роли агрофитоценозов, предшественников, монокультуры, повторных посевов, степени насыщенности севооборотов, почвоутомления (2). Использование знаний об аллелопатических свойствах семян весьма эффективно в практике семеноводства (3, 4).
Аллелопатический эффект подвержен значительной изменчивости в зависимости от эндогенных и экзогенных факторов, в том числе от биологических особенностей растений-доноров и акцепторов (5).
Проблема аллелопатии привлекает все больше исследователей во всем мире, и в настоящее время для ее изучения используется многосторонний подход (6-12). В значительной мере это обусловлено перспективами, которые аллелопатия предоставляет для формирования устойчивого сельского хозяйства, повышения качества продукции, снижения нагрузки на окружающую среду и здоровье людей, минимизации эрозии почв, сокращения зависимости от пестицидов. Современные исследования затрагивают важные фундаментальные вопросы экологии, биологии и физиологии растений, экологической функции аллелопатии (13), изучения уникальной особенности высших растений и микроорганизмов синтезировать огромное количество вторичных метаболитов, разнообразных соединений, обладающих биологической активностью и обеспечивающих особый химический тип взаимодействия организмов (14), моделирования воздействия внешних факторов на рост и развитие высших растений (15).
Целью нашей работы было изучение аллелопатической активности и стабильности ее проявления у овощных сельдерейных культур.
Методика . Исследования проводили во Всероссийском НИИ овощеводства в 2008-2010 годах. В качестве объектов-доноров использовали 86
семена сельдерея корневого ( Apium graveolens ) сорта Купидон, петрушки корневой ( Petroselinum crispum ) сорта Любаша, пастернака ( Pastinaca sativa ) сорта Кулинар и укропа ( Anethum graveolens ) сорта Кентавр.
Для приготовления водной вытяжки (2,5; 5,0 и 10,0 %) навеску семян (2,5; 5,0 и 10,0 г) растирали в ступке с кварцевым песком и добавляли 100 мл дистиллированной воды. Время экстракции составляло 1 ч, после чего образец фильтровали через бумажный фильтр. Объектами-тестерами служили семена овощных культур: редиса ( Raphanus sativus ), салата ( Lactuca sativa ), капусты японской ( Brassica chinesis var. japonica ), кресс-салата ( Lepidium sativum ), горчицы ( Brassica juncea ). Семена раскладывали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, приливали экстракт и проращивали в термостате при постоянной температуре (23 ° С). В качестве контроля использовали воду. Повторность опыта 3-кратная.
Статистическую обработку данных выполняли по Б.А. Доспехову (16). Для расчета параметров, характеризующих адаптивную способность и стабильность генотипов, применяли методику, разработанную А.В. Киль-чевским и Л.В. Хотылевой (17).
Резуёътаты . Под влиянием 2,5 % экстракта из семян сельдерея корневого всхожесть капусты японской и горчицы снижалась соответственно на 1,0 и 4,0 % в среднем за 3 года исследований. Наиболее активно на вытяжку из семян сельдерея корневого реагировал кресс-салат, при этом прорастания за годы исследований не отмечали. На 15,0 % снизилось прорастание салата . Семена редиса под влиянием вытяжки из сельдерея имели стабильную всхожесть (79,0 %), что на 9,0 % ниже контроля (табл. 1). Невысокую аллелопатическую активность проявляли семена укропа пахучего. Экстракт из них снижал всхожесть редиса и капусты японской в среднем соответственно на 8,0 и 5,0 % по сравнению с контролем. Экстракт из семян петрушки корневой умеренно и относительно стабильно уменьшал всхожесть редиса и салата (на 9,0 и 12,0 %). Пастернак за годы исследований обеспечил стабильное угнетение большинства тест-объек-тов. Прорастание семян горчицы составило 86,0 %, что на 12,0 % ниже контроля. Кресс-салат, как и в других вариантах, сильно угнетался в течение 3 лет исследований.
1. Прорастание семян тест-объектов (%) в зависимости от обработки экстрактами разной концентрации, полученными из семян сельдерейных культур (лабораторный опыт, 2008-2010 годы)
|
Вариант |
Тест-объект |
||||
|
редис |
салат |
капуста японская |
кресс-салат |
горчица |
|
|
К о |
н ц е н т р а ц и я |
э к с т р а к т а 2,5 % |
|||
|
Контроль |
98,0 |
99,0 |
98,0 |
94,0 |
88,0 |
|
Укроп |
80,0 |
99,0 |
93,0 |
7,0 |
84,0 |
|
Сельдерей корневой |
79,0 |
84,0 |
97,0 |
0 |
84,0 |
|
Петрушка корневая |
89,0 |
87,0 |
95,0 |
45,0 |
84,0 |
|
Пастернак |
91,0 |
93,0 |
86,0 |
56,0 |
84,0 |
|
НСР 05 |
1,7-2,1 |
0,9-1,9 |
1,0-2,2 |
1,0-2,7 |
1,0-2,1 |
|
К о |
н ц е н т р а ц и я |
э к с т р а к т а 5,0 % |
|||
|
Контроль |
98,0 |
99,0 |
98,0 |
94,0 |
88,0 |
|
Укроп |
68,0 |
9,0 |
92,0 |
0 |
72,0 |
|
Сельдерей корневой |
79,0 |
21,0 |
91,0 |
0 |
68,0 |
|
Петрушка корневая |
82,0 |
60,0 |
87,0 |
9,0 |
78,0 |
|
Пастернак |
83,0 |
89,0 |
75,0 |
52,0 |
67,0 |
|
НСР 05 |
1,1-2,2 |
1,0-2,5 |
0,9-2,2 |
1,0-2,6 |
1,1-2,2 |
|
К о |
н ц е н т р а ц и я |
э к с т р а к т а 10,0 % |
|||
|
Контроль |
98,0 |
99,0 |
98,0 |
93,7 |
87,7 |
|
Укроп |
32,3 |
0 |
11,9 |
0 |
28,4 |
|
Сельдерей корневой |
41,7 |
3,3 |
49,6 |
0 |
51,3 |
|
Петрушка корневая |
41,7 |
48,1 |
51,3 |
0 |
66,9 |
|
Пастернак |
39,2 |
40,9 |
14,4 |
13,6 |
49,4 |
|
НСР 05 |
0,9-2,0 |
1,0-2,0 |
1,0-2,3 |
0,7-2,1 |
1,0-2,5 |
При использовании экстрактов с концентрацией 5 % максимальную аллелопатическую активность проявляли семена укропа пахучего. Кресс-салат в течение 3 лет не имел проросших семян. Экстракт из семян укропа пахучего снижал всхожесть культур-акцепторов, особенно салата (в среднем за 3 года исследований на 90,0 %), а также редиса (на 30,0 %), слабее было действие на капусту японскую и горчицу — доля прорастания в среднем составляла соответственно 92,0 и 72,0 %, что на 6,0 и 16 % ниже контроля. Под влиянием экстракта из семян сельдерея корневого кресс-салат в течение 3 лет испытаний не имел проростков. Наиболее активно на вытяжку из сельдерея корневого реагировал салат: прорастание составило в среднем 21,0 %, что на 78,0 % ниже контроля. Экстракт из семян петрушки корневой умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть семян салата, горчицы и капусты японской (на 10,0-39,0 %). Доля прорастания семян у редиса оказалась ниже контроля на 16,0 %. Стабильным аллелопатическим действием на все тестеры обладал экстракт из семян пастернака. Снижение всхожести семян салата и горчицы в течение 3 лет не превышало 10,0-21,0 %. Несколько сильнее этот экстракт влиял на семена кресс-салата, снижая их всхожесть в среднем на 23,0 %.
При использовании экстрактов в концентрации 10 % максимальную аллелопатическую активность проявляли семена укропа пахучего. Кресс-салат и салат в этом варианте не имели проросших семян. Экстракт из семян укропа пахучего снижал всхожесть редиса, капусты японской и горчицы в среднем на 65,7-80,1 % по сравнению с контролем. Под влиянием экстракта из семян сельдерея корневого капуста японская и горчица снижали всхожесть семян. Наиболее активно на вытяжку из семян сельдерея корневого реагировали салат и кресс-салат. Экстракт из семян петрушки корневой уменьшал всхожесть семян салата, горчицы и капусты японской на 8,0-68,0 %. У кресс-салата прорастания семян не наблюдали.
Дисперсионный анализ позволил выявить высокую достоверность различий между эффектами генотипов-доноров, средовых факторов (тестеров) и их взаимодействия, что дало возможность осуществить анализ по методике А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой (17).
В контроле (дистиллированная вода) продуктивность генотипа (среднее значение аллелопатической активности по варианту) составила 95,3 и была максимальной в пределах опыта. Общая адаптивная способность (ОАС) (отклонение от среднего по опыту) при использовании экстрактов в концентрации 2,5 % равнялась 15,8, что указывает на стабильно высокое проявление признака на разных фонах (табл. 2). Показатель 2САС , = 81,3 свидетельствует о стабильности признака всхожести семян у всех изученных тест-объектов в контроле и практически полном отсутствии влияния на признак аллелопатической активности.
Продуктивность генотипа (среднее значение аллелопатической активности по варианту) при использовании экстрактов в концентрации 2,5 % последовательно снижалась с 69,0 (сельдерей корневой) до 80,4 (пастернак). Для ОАС отмечали аналогичное (от -10,5 до 0,9) изменение значений показателя, причем сельдерей корневой и укроп имели отрицательное значение общей адаптивной способности. Минимальное значение вариансы САС (специфическая адаптивная способность) было характерно для пастернака — 19,1. Сельдерей корневой и укроп пахучий, для которых значение САС изменялось в пределах от 35,2 до 37,4, оказались наименее стабильны. Показатель относительной экологической стабильности (Sgi) варьировал от 9,4 % в контроле до 23,6-54,2 % в опытных вариантах. Максимальное значение отмечали у сельдерея корневого (Sgi = 54,2) и укропа пахуче- го (Sgi = 48,4 %).
2. Параметры адаптивной способности и стабильности для показателя аллелопатической активности в экстрактах разной концентрации, полученных из семян сельдерейных культур (лабораторный опыт, 2008-2010 годы)
|
Вариант |
| U + и |
' i ui 1 |
2CACi 1 |
CACi |
1 S gi |
|
К о н ц е |
н т р а ц и я э к с т р |
а к т а 2,5 % |
|||
|
Контроль |
95,3 |
15,8 |
81,3 |
9,0 |
9,4 |
|
Укроп |
72,7 |
- 6,8 |
1239,3 |
35,2 |
48,4 |
|
Сельдерей корневой |
69,0 |
- 10,5 |
1400,0 |
37,4 |
54,2 |
|
Петрушка корневая |
79,9 |
0,4 |
621,3 |
25,0 |
31,3 |
|
Пастернак |
80,4 |
0,9 |
363,6 |
19,1 |
23,6 |
|
К о н ц е |
н т р а ц и я э к с т р |
а к т а 5,0 % |
|||
|
Контроль |
95,3 |
30,8 |
81,3 |
9,0 |
9,4 |
|
Укроп |
48,3 |
- 16,2 |
1558,0 |
39,5 |
81,8 |
|
Сельдерей корневой |
51,9 |
- 12,6 |
1473,7 |
38,4 |
74,0 |
|
Петрушка корневая |
53,5 |
- 11,0 |
1079,9 |
32,9 |
61,5 |
|
Пастернак |
73,3 |
8,8 |
265,1 |
16,3 |
22,2 |
|
К о н ц е н т р а ц и я э к с т р |
а к т а 10,0 % |
||||
|
Контроль |
95,3 |
53,0 |
81,3 |
9,0 |
9,4 |
|
Укроп |
14,5 |
- 28,0 |
918,0 |
30,2 |
209,0 |
|
Сельдерей корневой |
29,2 |
- 13,2 |
928,4 |
30,5 |
104,5 |
|
Петрушка корневая |
41,7 |
- 0,7 |
1056,2 |
32,5 |
78,0 |
|
Пастернак |
31,5 |
- 10,9 |
607,4 |
24,6 |
78,1 |
П р и м е ч а н и е. U + и — продуктивность генотипа, и — общая адаптивная способность, 2 cACi — дисперсия специфической адаптивной способности, CACi — варианса специфической адаптивной способности, S gi — относительная экологическая стабильность.
При использовании экстрактов в концентрации 5,0 % общая адаптивная способность составляла 30,8, то есть проявление признака на разных фонах было стабильно высоким. Продуктивность генотипа последовательно снижалась (с 73,3 до 48,3) в ряду пастернак > петрушка корневая > сельдерей корневой > укроп . Для OAC отмечали изменение значений показателя от 8,8 до - 16,2. При этом положительное значение общей адаптивной способности имел только пастернак. Минимальное значение вариансы CAC было характерно для пастернака — 16,3. Петрушка корневая, сельдерей корневой и укроп, для которых значение CAC изменялось в пределах 32,9-39,5, оказались наименее стабильными. Показатель относительной экологической стабильности (Sgi) изменялся от 9,4 % в контроле до 22,2-81,8 % в опытных вариантах. Его максимальное значение отмечали у укропа пахучего (Sgi = 81,8 %) и сельлдерея корневого (Sgi = 74,0 %).
При использовании экстрактов в концентрации 10 % OAC составляла 53,0, продуктивность генотипа снижалась с 41,7 до 14,5. Для OAC наблюдали аналогичное изменение значений показателя от - 0,7 до - 16,7. Все четыре донорных объекта характеризовались отрицательными значениями общей адаптивной способности. Минимальную величину вариансы CAC отмечали у пастернака — 24,6. Для петрушки корневой, сельдерея корневого и укропа пахучего значение CAC изменялось от 30,0 до 32,5, они оказались наименее стабильными. Относительная экологическая стабильность (Sg i ) изменялась от 9,4 % в контроле до 78,0-209,0 % в опытных вариантах. Максимальные значения регистрировали у сельдерея коневого (104,5) и укропа пахучего (209,0 %).
Таким образом, для укропа пахучего и сельдерея корневого характерно сильное, но нестабильное проявление аллелопатии. Они полностью подавляли прорастание семян некоторых культур, в том числе салата и кресс-салата. Петрушка корневая и пастернак отличались от других культур менее значительным и более выравненным проявлением аллелопатической активности. Полученные данные могут быть использованы при подборе информативных тестеров для оценки аллелопатической активности сельдерейных культур. Рассмотренные в работе взаимоотношения доноров и
òåñòåðîâ ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ êàê ìîäåëüíûé îáúåêò äëÿ èçó÷åíèÿ ÿâëå-íèÿ àëëåëîïàòèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À
-
1. Ãðîäçèíñêèé À.Ì. Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ àëëåëîïàòèÿ. Êèåâ, 1986.
-
2. Ãðîäçèíñêèé À.Ì. Àëëåëîïàòèÿ â æèçíè ðàñòåíèé è èõ ñîîáùåñòâ. Êèåâ, 1965.
-
3. Íèêîëàåâà Ì.Ã., Ëÿíãóçîâà È.Â., Ïîçäîâà Ë.Ì. Áèîëîãèÿ ñåìÿí. ÑÏá, 1999.
-
4. Îâ÷àðîâ Ê.Å. Ôèçèîëîãè÷åñêèå îñíîâû âñõîæåñòè ñåìÿí. Ì., 1969.
-
5. Baleev D.N., Buharov A.F. Allelopathic activity of seeds family of celery. Plant breeding and seed production, 2009, 15(4): 29-33.
-
6. Wu H., Pratley J., Lemerle D., An M., Liu D.L. Modem genomic approaches to improving allelopathic capability in wheat ( Triticum aestivum L.). Allelopathy Journal, 2007, 19: 97-108.
-
7. Liu D.L., An M., Wu H. Implementation of WESIA: Whole-range evaluation of the strength of inhibition in allelopathic-bioassay. Allelopathy Journal, 2007, 19: 203-214.
-
8. Roy S. The coevolution of two phytoplankton species on a single resource: allelopathy as a pseudo-mixotrophy. Theoretical Population Biology, 2009, 3: 88-92.
-
9. Rashid H., As a e da T., Uddin N. The allelopathic potential of kudzu ( Pueraria montana ). Weed Science, 2010, 58(3): 47-55.
-
10. Benyas E., Hassan M.B., Zehtab S., Khatamian O.S. Allelopathic effects of Xan-thium strumarium L. shoot aqueous extract on germination, seedling growth and chlorophyll content of lentil ( Lensculinaris Medic ). Romanian Biotechnological Letters, 2010, 15(3): 5223-5228.
-
11. Kato - Noguchi H., Seki T., Shigemori H. Allelopathy and allelopathic substance in the moss Rhynchostegium pallidifolium . Journal of Plant Physiology, 2010, 167(6): 468-471.
-
12. Oracz K., Voegele A., Tarkowska D., Jacquemoud D. Myrigalone A inhibits Lepidium sativum seed germination by interference with gibberellin metabolism and apoplastic superoxide production required for embryo extension growth and endosperm rupture. Plant and Cell Physiology, 2012, 53: 81-95.
-
13. Sole J., Garcia-Ladona E., Ruardij P., Estrada M. Modelling àllelopathy among marine algae. Ecological Modelling, 2005, 183: 373-384.
-
14. Liu D.L., An M., Johnson I.R., Lovett J.V. Mathematical modelling of allelopathy: III. À model for curve-fitting allelochemical dose-response. Nonlinearity in Biology, Toxicology and Medicine, 2003, 1: 37-50.
-
15. Sinkkonen A. Density-dependent chemical interference — an extension of the biological response model. J. Chem. Ecol., 2001, 27: 1513-1523.
-
16. Äîñïåõîâ Á.À. Ìåòîäèêà ïîëåâîãî îïûòà. Ì., 1985.
-
17. Êèëü÷åâñêèé À.Â., Õîòûëåâà Ë.Â. Ìåòîä îöåíêè àäàïòèâíîé ñïîñîáíîñòè è ñòàáèëüíîñòè ãåíîòèïîâ, äèôôåðåíöèðóþùåé ñïîñîáíîñòè ñðåäû. Ãåíåòèêà, 1985, 21(9): 1491-1497.
ГНУ Всероссийский НИИ овощеводства Поступила в редакцию
Россельхозакадемии, 23 марта 2011 года
SEED ALLELOPATHY EFFECT IN VEGETABLE CELERY CROPS
A.F. Bukharov, D.N. Baleev