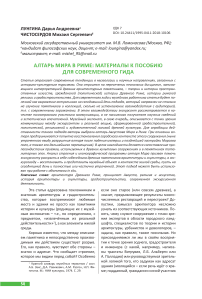Алтарь мира в Риме: материалы к пособию для современного гида
Автор: Лунгина Дарья Андреевна, Чистосердов Михаил Сергеевич
Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst
Рубрика: Региональные проблемы развития туристского сервиса
Статья в выпуске: 1 т.12, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья отражает современные тенденции в музеологии и научных направлениях, связанных с историко-культурным туризмом. Она строится на пересечении нескольких дисциплин, занимающихся интерпретацией древних архитектурных памятников, - теории и истории пространственных искусств, гражданской (политической) истории Древнего Рима, истории римской религии и градостроительства. Для современного гида и музейного работника статья будет полезной как выражение актуального на сегодняшний день подхода, который направлен не столько на изучение памятников и коллекций, сколько на установление взаимодействия с аудиторией, т.е. с современными горожанами. В этом взаимодействии экскурсант рассматривается в качестве полноправного участника коммуникации, а не пассивного получателя научных сведений и эстетических впечатлений. Музейный экспонат, в свою очередь, описывается с точки зрения коммуникации между экскурсантом и реальной вещью, сформированной градостроительной, политической, религиозной и художественной логикой древней культуры. Для апробации действенности такого подхода авторы выбрали алтарь Августова Мира в Риме. При описании алтаря предпринимается попытка восстановления городского контекста этого сооружения (ныне утраченного ввиду разрушения алтаря после падения империи и позднейшей застройки Марсова поля, а также его дальнейшего перемещения). В целях наглядности делается сопоставление пропагандистских приёмов, используемых в древних культовых сооружениях и в памятниках тоталитарных эпох. Анализ строения и иконографической программы алтаря Мира призван помочь экскурсанту раскрыть в себе собеседника древних памятников архитектуры и скульптуры, а экскурсоводу - восстановить и представить музейный объект в контексте жилой среды, пусть на сегодняшний день и полностью или частично утраченной. Этот подход может быть использован при работе с объектами in situ.
Архитектура древнего рима, принципат августа, религия и искусство, история архитектуры и скульптуры, градостроительство, современная экскурсионная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/140236932
IDR: 140236932 | УДК: 7 | DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10106
Текст научной статьи Алтарь мира в Риме: материалы к пособию для современного гида
Эта статья адресована поклонникам и знатокам архитектуры и градостроительства, которые воспринимают любимые места и здания не просто как памятники истории и культуры (роднящие их с музейным экспонатом – т.е., по определению, с предметом, «извлечённым из реальной действительности»1), а как элементы жилой среды.
Хорошо известно, что между описанием памятника и непосредственно производимым им действием существует разрыв. Его, как правило, чувствуют обе стороны – знаток и адресат. Что сообщает строение, которое мы видим перед собой? Особенно если оно старое (или совсем древнее), а значит, предъявляющее результаты многочисленных реставраций и перестроек? Допустим, замысел архитектора несложно узнать из соответствующих источников. Понять, чему служит сооружение с точки зрения экспертов в области городского ландшафта, специалистов по теории и истории архитектуры, урбанистов и девелоперов, – задача, как правило, также посильная. Но присоединяемся ли мы в своём восприятии к точке зрения зодчего, градостроителя и инженера (с какой, например, написаны трактаты Витрувия, Л.Б. Альберти или А. Палладио) или руководствуемся зрительной логикой того, кто задуман как адресат здания (молящийся – если речь идёт о храме; подданный, гражданин и иной участник властных отношений – если дело касается площадей и дворцовых ансамблей), или заглядываем в путеводители, составленные на основе литературных источников (как, например, лучшее в своём жанре чтение «Здесь был Рим» Виктора Сонькина), мы встречаем своего рода идеальные здания и городские пейзажи. Они отсылают не к реальности, а к замыслу. Говоря о них, специалисты описывают то, что создано или увидено таким же профессионалом, как и они (или целенаправленным «пользователем»), а не явлено горожанину непосредственно.
Многих стесняло это обстоятельство. Выдающийся искусствовед XX века Ганс Зедльмайр уподоблял художественное творение нотам или пьесе. Наш современник, лауреат премии «Просветитель» Сергей Кавтарадзе продолжает его мысль: «Произведения искусства не могут существовать без зрителя. Сами по себе они просто мёртвые тела, куски холста, листы бумаги, обломки мрамора и кирпичные коробки. Только люди дают им жизнь <…> Мы, искусствоведы – профессиональные интерпретаторы, поясняем смысл, обращаем внимание на детали, придаём старым вещам актуальное звучание. Наша роль сродни призванию дирижёра или режиссёра. Но жить произведение всякий раз начинает именно тогда, когда к нему приходит зритель» [4, с. 454]. А вот зрительское восприятие, добавим мы от себя, – это тоже работа. Глядящий так же нуждается в поставленном зрении, как артист – в наработанной технике игры. Тем более – если он горожанин, который любит родные места и вдохновляется чужими. Но чтобы «пьеса» зазвучала, а автор, исполнитель и слушатель пребывали в общем смысловом пространстве произведения, нужно помочь работе нашего восприятия, апеллируя не только к знаниям истории архитектуры, культуры, религии или политики, но и к некоторым другим способностям.
Как это возможно? Как уменьшить пропасть между текстом архитектуры и ее посланием? Ведь будоражащая воображение римская инсула (т.е. отдельно стоящее жилое помещение в несколько этажей), в которой в I в. н.э., возможно, обитал сам
Марциал, сегодня выглядит, как крошащаяся кирпичная кладка, что вот-вот обрушится под тяжестью позднейших надстроек.
В данной статье предлагается обсудить эту проблему в форме беседы между двумя участниками. Будущую аудиторию (в данном случае выступающую в качестве интервьюера) мы условно назовём «образованными горожанами», в тексте – «О.Г». Роль гида возьмет на себя «специалист», сокращённо «С.».
О.Г.: Как уже было сказано, любовь к архитектуре предполагает не только знание теории и истории. Архитектура управляет нами прямо и непосредственно. В отличие от станковой картины, зодчество, скульптура и монументальное искусство требуют телесной вовлеченности в их действие, а значит – и другого, более органического уровня понимания. Как жители столицы мы испытываем на себе это действие, когда оказываемся… – да хотя бы на оси, соединяющей Московский университет с центром города, в районе Пироговских улиц, которые звучат, как настоящий гимн дореволюционной науке (клиники Девичьего поля, здания курсов Герье – 2-го МГУ, ныне МПГУ, архива древних актов и др.). Каким контрастом к этой жизнеутверждающей мелодии слышится монотонная дробь окон там же расположенного здания, чей боковой фасад тянется вдоль ул. Россолимо! Это здание архива Октябрьской революции (ЦГАОР, 1932–38, окончание строительства – конец 1950-х гг.), ныне Государственного архива РФ. Здесь невозможно просто гулять. Ритм этого фасада требует строевого шага; главный (по ул. Хользунова), но в ещё большей степени – боковой, выходящий на Б. Пироговскую улицу фасад разъясняет источник этой локомоции: здесь сосредоточены бумаги государственной важности. От них, как от государства, зависит жизнь каждого советского человека. Что эта жизнь в любой момент может быть отнята, напоминает барельеф, изображающий группу людей, которые обороняются от противника. Но их фигуры не связаны общим движением и грубо изваяны – создаётся впечатление, что скульптор намеренно оставил героев действовать поодиночке. Зажавший в руке пулемётную ленту ребёнок в треухе глядит на врага с любопытством. Призванный быть символом всемирного обновления, которое несёт революция, он смотрится случайным прохожим, а значит – потенциальной жертвой революции. Быть готовыми разделить его участь были призваны и люди тридцатых годов.
Специфические узкие «архивные» окна фасада на ул. Россолимо, затрудняющие проникновение света внутрь здания, и его глиняная окраска усиливают впечатление тесного склепа. Кажется, оно такое длинное, что занимает половину улицы – точнее, заменяет её собой. Поскольку его невозможно охватить взглядом – а значит, отстраниться и перепроверить собственные реакции, – впечатлительному горожанину ничего не остаётся, как поскорей пройти мимо. Но если все же вглядеться в эту постройку (к сожалению, справочники дают мало сведений об архитекторе А.Ф. Волхонском), бросается в глаза шаблонность авторского послания, делающая необязательным знать имя создателя. Индивидов – горожан, бюргеров, просто прохожих здесь не знают; сообщества, собственно, тоже. Сложная ритмическая система здания, включающая не только множественное повторение одних и тех же элементов, но и субординацию цоколя по отношению к верхним этажам, вдавливающим его в землю, изображает сложный и непрозрачный порядок советского государства, закрытый от людей и сегодня.
Чтобы это увидеть, не требуется специальных знаний; достаточно довериться общему эстетическому чувству. Тем интереснее было бы рассмотреть сооружение, чьё послание – неочевидно для нашего современника и скрыто под воздействием целого комплекса обстоятельств. Вам как знатоку культуры Древнего Рима, хорошо понимающему эти обстоятельства, наверное, было бы интересно рассказать о постройке, которая, аналогично архиву, соединяет живых и мёртвых (и, кстати, так же, как и корпус ЦГАРФ, выходящий на Б. Пироговскую, тяготеет к кубу). Но, в противоположность нашему случаю, она визуализирует не только государственный порядок.
С.: Темой нашей беседы станет алтарь Августова Мира (Ara Pacis Augustae). Он был возведён по постановлению сената в 13–9 гг. до н.э. и посвящён первому римскому императору Октавиану Августу – вернее, не ему лично, а его «Pax», то есть миру, который он установил в империи.
Проверим, можно ли восстановить городской контекст этой постройки. Сегодня мы приближаемся к алтарю или по модернизированной набережной Лунготевере-ин-Аугуста или по Виа ди Рипетта, где, кроме ещё одного памятника эпохи раннего принципата – мавзолея императора, расположено много домов XVI–XIX вв. Но даже здесь, в Риме, где современная жизнь органично протекает среди древних построек, алтарь практически непроницаем для взгляда горожанина. Это не элемент жилой среды, а всецело музейная редкость (хотя и встроенная в уличную магистраль). Статус «памятника истории и культуры» подчёркивает не только посвящённая императору топонимика района, но и собственная самоподача монумента. Аналогично холсту, защищённому рамой со стеклом, он предстаёт в консервирующем «колпаке» из современных материалов – сегодня уже втором по счету. Современный корпус музея установил Ричард Мейер в 2006 г. Кроме надписей и указателей, нет ни намёка о том, что внутри модернистского здания располагается воссозданный антик, и это весьма характерное для современности явление: внешний вид современных музеев не отражает их сущности и направленности.
О.Г.: Мы догадываемся, что Тибр, разливами уничтожавший алтарь после падения империи, – не лучшее соседство для святилища. Изначальным местоположением культового места была, вероятно, сакральная зона?
С.: Вы правы, хотя остатки того, что раньше было восточным углом Марсова поля, где изначально и располагался алтарь, сегодня также едва выдают присутствие святыни. Под средневековым фундаментом дворца на Виа дель Корсо (в древности – Фламиниева дорога), который принадлежал членам папской курии, в том числе – кардиналу Пьетро Оттобони, и потом ещё несколько раз менял имена и владельцев, сохранилось лишь основание алтаря из туфа.
О.Г.: А можно ли теперь понять предназначение алтаря (как элемента городской, а значит социально-политической системы Рима), которое сегодня не вычитывается из сооружения на Виа ди Рипетта?
С.: Лишь отчасти. Муссолини, чьим приказом в 1938 г. (в год 2000-летия Августа) последние фрагменты алтаря были извлечены из-под дворца Оттобони на Виа дель Корсо и собраны воедино на Виа ди Рипетта, считал, что принципат Августа должен стать стилистической платформой для его диктатуры. Поэтому предыдущий павильон – стиль короба, возведённого Витторио Морпурго из стекла и травертина, называется поздним конструктивизмом, в просторечном варианте «стилем тоталитарных режимов» – более соответствовал градостроительной политике диктатора. Но решение сохранить соседство алтаря с мавзолеем Августа подчеркнуло, скорей, разительное отличие новых пропагандистских приёмов от древних.
Участок Марсова поля, обустроенный при Августе, был образом идеального города, контрастирующего с хаотичной застройкой республиканского Рима. Узловые точки этого пространства – привезённый из Гелиополя обелиск, служивший горологием (не только часами, но и объектом религиозного предназначения, т.к. проверка точности календаря входила в обязанности верховного понтифика2), сам алтарь и, наконец, крематорий и мавзолей императора – всё подчёркивало отделение сакрального мира от профанного. Август не стремился сделаться для масс новым богом; религиозное содержание его «Мира», как мы увидим далее, задавало вектор политической стратегии.
Отдельная тема – история утраты и обретения алтаря в XIX веке, с чем связан тот факт, что целый ряд сегментов фриза и карниза, украшающих его стены, – это копии. Подлинники хранятся в Лувре, музеях Ватикана, галерее Уффици, Венских музейных собраниях. Строго говоря, всё сооружение в том виде, в котором он находится в Музее алтаря Мира, является современной реконструкцией [подробнее см.: 13, с. 79-101]. Особого разговора требует и та колоссальная реставрационная работа, которая была проведена при восстановлении памятника.
О.Г.: Рассказ о сооружениях, безвозвратно утраченных, а если и восстановленных, то демонстрирующих в большей степени логику современных научных установок, чем импульс создателей оригинального произведения, оставим до следующего раза. И всё же – иногда отсутствующий оригинал ( «на месте этого здания было...» ) может сказать горожанину больше, чем реплика. И не только пробуждая любопытство, ностальгию или возмущение. В данном случае мы стоим перед проблемой, в которой итальянский архитектор и теоретик Бруно Дзеви видел сущность или, как он говорил, «момент» архитектуры.
Он считал, что здание – это не просто вторжение в природу, замещающее пустоту человеческими постройками. Говоря о зодчестве в целом, нужно рассматривать и причины, побуждающие человека строить в этом месте. Ибо тектоническая деятельность являет не только результат человеческого вмешательства. Архитектура – это, прежде всего, высвобождение энергии местности, изменяющее и человека, и природу. Они становятся частью нового – архитектурного организма (Дзеви обозначает его как замкнутое, или организованное, пространство). Оно продолжает действовать – например, в планировке улиц, перекличке других строений, изменениях флоры, результатах археологических раскопок – даже если сооружение передвинуто, разрушено или утрачено. Ибо произведение состоится тогда, когда «когда мы во всей полноте своего физического и духовного, а главное, человеческого существа вступим в пространства, которые мы изучали, и постигнем их на собственном опыте <…> Всякий раз, когда должен реализоваться полный пространственный опыт, мы должны быть включены в него, мы должны чувствовать себя частью и мерой архитектурного организма, будь то раннехристианская базилика, церковь Сан Спирито Брунеллески, колоннада Бернини или овеянные легендами камни средневековой улицы…» [3, с. 486-487].
Сегодня алтарь Мира, обтекаемый современными улицами, представляет собой явление художественно-эстетическое. Его религиозное послание считывается лишь внутри музейного пространства. Правда, стоит заметить, что и древнейшие процессы, приведшие к тому, что в I в. до н.э. алтарь получил именно такую форму – куба в кубе, сопоставимы с цивилизационными сдвигами, через которые прошла Европа за последние две тысячи лет и которые в корне изменили смысл священного сооружения. Ушли в историю религиозные ритуалы римлян. Нет ни понтификов, заклинающих богов жреческой формулой и закрепляющих её смысл кровавой жертвой (отверстие для стока крови можно видеть и сейчас, заглянув в целлу), исчезла и республика, благополучие которой была призвана оплатить эта жертва. Её граждане, участники древней процессии, сохранились только в мраморе.
Потребовалось больше трёх тысячелетий – с бронзового века до расцвета античного градостроительства, сопровождаемого соответствующими трансформациями религиозного культа, чтобы «алтарь» (по одной из версий, возводящей ‘ara’ к ‘altus’, означавший навершие жертвенника) из камня, престола, куба или иного монолита, помечающего событие эпифании, стал кровом, помещением, в которое можно войти, – предтечей алтаря в христианском понимании. Интересный случай превращения монолита в камеру уже был отмечен в греческой архитектуре эллинистического периода (пример – Пергамский алтарь, ныне в музее Пергамон, Берлин). Если брать индоевропейскую культуру в целом, ранней промежуточной формой такой трансформации была ниша в индийской ступе, предназначенная для статуи божества; более поздней, с уже сформировавшимся узким и тесным наосом – хорошо всем известный храм «в антах». В книге Н.Л. Павлова «Алтарь. Ступа. Храм» подробно описывается религиозная, социальная и художественная логика этого превращения [7, с. 28, 39, 79-82, 87]. Мы же обратим внимание на то, что алтарь Мира демонстрирует несколько стадий развёртывания алтаря от жертвенника до здания, т.е. замкнутой пространственной системы с целлой. И если древний жертвенник постепенно становился зданием, поначалу приобретая алтарный подиум, затем – парапет, украшенный рельефами с изображениями богов – адресатов жертвоприношения, а затем ограждаясь колоннами, то в алтаре Мира можно заметить несколько стадий одновременно. Это и внутренний двухъярусный алтарь на ступенчатом подиуме, который виден в дверной проем, и те, кто торжественной процессией приближаются к сакральному месту и изображены на внешних стенах (в греческом храме местом их изображения была бы средняя часть балочного перекрытия, называемая фризом).
С.: Однако для неизвестного римского зодчего, строившего алтарь Мира, превращение жертвенника в здание было событием глубоко архаичным, ведь для поколения Витрувия храм уже давно ассоциировался с «domus». Как и людям, божествам полагалось иметь убежища, а храмам – защиту в городских стенах, т.е. быть включёнными в civitas – союз богов и людей, гражданскую общину. Такова была сугубо городская, «цивилизаторская» логика римского понимания жилой среды.
О.Г.: «Идеальная зона» Марсова поля сохраняла это логику?
С.: Конечно. Вылетная дорога, обеспечивающая коммуникацию между городами, известна, пожалуй, каждой цивилизации. Но улицу как элемент градостроительства изобрели римляне. В отличие от греков, не придававших такого значения триумфальным шествиям и сосредоточивших свою общественную жизнь на площади (агоре), римляне впервые продумали проходы, или проезды для торжественных процессий. Тем самым они превратили улицу в важней-
-
3 Результаты архитектурной археологии, показывающие глубину истории местности, сами по себе способны составить городское пространство и стать элементом жилой среды. Примеры таких подземных музеев и их аналогов есть не только в Риме (Барселоне, Вене, Лондоне и других городах), но и в нашем городе – как, например, Музей археологии, созданный вокруг Воскресенского моста, подземный переход к м. Китай-город, хранящий основание Варварских ворот, фундаменты Чудова монастыря в Кремле и др.
ший архитектурный и градостроительный элемент. Им принадлежит идея отделения проезжей части от тротуара, а также мощения улиц каменными плитами (подробнее: [2, с. 58]). Это привнесло дополнительные смыслы в идею римских городских построек: дома – не только то, в чем укрываются, но также и то, мимо чего проходят.
Это породило ещё одно важное отличие римской архитектуры от греческой. Прежде чем говорить о картине шествий, изображённых на верхних ярусах северного и южного фасадов алтаря, войдём в музей и поближе рассмотрим то, что находится на уровне глаз. Нижние ярусы исполняют гимн природе. Здесь лебедь (имеет также символическую нагрузку: это священная птица Аполлона – покровителя принцеп-са4), там – червяки, пища обитателей надземного мира; в траве прячутся скорпионы, ящерицы и лягушки. Сегодня мраморнобелая, как большинство дошедших до нас памятников античной скульптуры, тогда эта живность была окрашена в цвета, какими её наделила природа.
Взаимоотношения с натурой, в которые было погружено римское зодчество посредством таких почти оживших картин, – тема, опять же, требующая специальных знаний из истории религии. Чтобы не уходить в сторону, добавим лишь, что идея украшения стен, делавшая римскую пластику столь оригинальной, стала (как мы знаем из книги «Образы Италии»; см.: [6, с. 229]) дополнительным импульсом для развития психологизма в изображении и человеческих фигур.
О.Г.: Да, тяга римлян к иллюстративности хорошо известна, и здесь, в Риме, мы видим её в действии.
С.: В отличие от греков, впервые вменивших архитектуре в обязанность изобра- жать «работу собственных конструкций» [4, 17], римляне сосредоточили внимание не на реально нагруженных частях сооружения, а на декоре. Они не только придумали заменить колонны пилястрами, ввели членение стены по вертикали и по горизонтали, а также идею соединения ордеров – дорического, ионического и коринфского при оформлении одного фасада, дабы облегчить или зрительно переоформить стену. «Ощущение бестелесности материала поддерживалось искусством резчиков, из-под рук которых мраморные аканфы, пальметты и овы, а также края каннелюр, абрисы модульонов и другие детали выходили подобными кружевам – насыщенными, чёткими и дематериализующими поверхность каменной массы» [4, с. 17].
О.Г.: И не только ощущение «бесте-лесности материала», «дематериализованной массы». Растительный и животный мир алтаря, в котором свободно и гармонично уживаются реалистичность и символическая нагруженность фигур, позволяет предположить, что этот приём – соединение разнородных категорий ради дальнейшего развития образа – оправдает себя повсеместно. Жрецу дозволялось взойти по ступеням и начать священнодействие внутри целлы – профанный мир с его естественной суетой, по идее, оставался снаружи. Но шум и неконтролируемые движения, свойственные всему живому, удел не только нас, зрителей – всё это сохранено и показано на наружных стенах алтаря. Сюжет рельефов южной и северной стороны легко считает даже непрофессиональный глаз: среди членов торжественной процессии – не только жрецы и децемвиры, но и домочадцы «августейшей фамилии», явно не доросшие до понимания торжественности момента. Маленький мальчик просится к отцу на ручки, двое детей весело переглядываются, женщина, прижимающая палец к губам, призывает к тишине – и не только малышню, но, скорее всего, и взрослых.
С.: Некоторые считают, что это сестра императора Октавия [см.: 9, с. 407]. На боковых панелях изображены и другие личности, большая часть из которых может быть с известной долей точности идентифицирована: это, конечно, сам принцепс (в венке и в тоге), его жена Ливия, её сыновья от первого брака Друз и Тиберий, дочь Юлия, его личный друг Гай Меценат, соратник и зять императора Марк Випсаний Агриппа (строитель первого, несохранившегося Пантеона) и другие.
Процессия, тем не менее, не является отражением реального события. По мнению исследователей, рельефы с процессией фиксируют либо закладку алтаря, либо его освящение, либо оба обряда одновременно [12, с. 228-231]. Питер Холлидей настаивает, что рельефы процессий несут в себе смысл идеального, мифологического события [11, с. 544-550] – ведь люди, изображённые здесь, по объективным причинам не могли присутствовать вместе ни на одной из перечисленных церемоний. А следовательно, историческая действительность интерпретируется здесь не с точки зрения сиюминутного политического момента, а в мифологической, вневременной перспективе. Продолжая наше шествие по периметру алтаря, мы встречаем сцены с теми, в чьём направлении движутся обе процессии, – легендарным Энеем и Ромулом с Ремом; на противоположном, восточном фасаде, изображены богини Теллус и Рома. Таким образом, процессии, расположенные по боковым стенам, связывают пространства вечного, прошлого и настоящего – ведь идеологией Августа было создание мифа о новом «Золотом веке», который заканчивает историю Рима, возвращая его к истокам, в век мира, изобилия и всеобщего благоденствия.
Характерная черта так называемого «Августовского классицизма» – соединение реального с ирреальным, конкретно-индивидуального с вымышленным и обобщённым, делает ненужным появление на алтаре никого из других исторических деятелей долгой истории Рима.
О.Г.: Действительно, среди персонажей нет ни Цезаря, ни кого-либо из триумвиров, ни полководцев, ни государственных деятелей периода республики. Такое ощущение, что изображенная на рельефах история Рима, сжатая до моментов «в нача- ле» и «в конце», представлена, по сути, как «сейчас» нового «Золотого века», всегдашними свидетелями которого должны стать и современники принцепса, и мы – зрители последующих эпох.
С.: Наше соприсутствие в культуре вместе с деятелями ранней империи отмечают герои и боги.
Богиня Рома, сидящая на груде оружия (согласно идентификации Карла Галинского; см.: [10, с. 148]; к сожалению, из-за плохой сохранности большая часть рельефа заменена современной прорисовкой), напоминает о том, что мир для римлянина неотделим от войны, является её понятием. В понятие мира входит также природа. Её символизирует богиня Теллус (Земля), которая изображена в виде заботливой матери. Она дарует людям различные плоды: у её ног мирно лежит бык и пасётся овца, на руках сидят два карапуза, один показывает ей яблоко, а другой тянется к груди. Земля – это аллегория установки Августа на мир и изобилие. Несмотря на разнесённость по разным стенам, богам и шествующим в процессии вполне комфортно в обществе друг друга. Ведь в основе этого согласия лежит ритуальная римская религия, основу которой составляет не изжитое пока чувство близости богов, а значит – ощущение, что государственный порядок, установленный ими и их посредниками-героями, находится в руках людей и им реально управлять. Но посредством эстетики утверждается и новое для ранней империи культурное обстоятельство – трансформации идиллии в идеологию. Гражданин республики становится гражданином мира с расширенным горизонтом представлений о человеке, власти и достоинстве.
Причём скульпторы делают это не прибегая к героическим позам и другим мобилизирующим зрителя приёмам. Глядящего не втягивают в «отзеркаливание» порыва персонажей, действующих в произведениях мобилизационных эпох («Тираноубийцы», «Давид», «Рабочий и колхозница»). Древняя эстетика пробуждает в нем более сложное душевное движение. Политика, всё ещё произрастающая из религии, не превращает её в орудие своего господства, как в XX веке. Религиозное по- чтение (предшествующее таким важным политическим категориям, как уважение к авторитету, с одной стороны, и гражданским правам, с другой) поддержано здесь не экспрессией порыва, напряжения или угрозы, а чувством причастности к традиции.
На западном фасаде алтаря мы видим мужчину с покрытой головой, т.е. в одеянии понтифика. Если мы обратимся к «Энеиде» Вергилия, где описывается жертвоприношение белой свиньи, совершенное Энеем в благодарность богам за исполнение предсказания Феба5, то узнаем этого легендарного предка римлян. Сзади него, предположительно, Асканий-Юл, один из основателей династии Юлиев, давший ей своё имя и ставший тем самым, через Гая Юлия Цезаря, предком и императора Августа. Двое молодых людей перед Энеем помогают ему свершить заклание. На заднем фоне виден домик, который может быть интерпретирован как маленький храм бо-гов-пенатов, покровителей рода. Сцена слева от входа на том же западном фасаде алтаря (также, как и на восточном, прорисованная) изображает встречу Марса, отца Ромула и Рема, с пастухом Фаустулом, который нашёл младенцев рядом с волчицей; сцена тоже отсылает к легендарной эпохе основания Рима. Боковые процессии северной и южной стены направлены именно к этим рельефам, символизируя возвращение к истокам, к праотцам, к их памяти и заветам, и снова становится понятен вектор политики Августа. Стремясь утвердить себя в качестве нового Ромула, не создающего ничего сызнова, а возрождающего древние обычаи и нравы, он лишний раз подчёркивал свою приверженность родной старине. Глядящий должен был быть уверен: Август занимает достойное место в настоящем времени, будучи напрямую связанным с самым основанием Рима через свой род. Окончание истории, т.е. введение Рима в «Золотой век», одновременно является возвратом к праотеческим временам, но более мирным и более сытным.
О.Г.: Этот алтарь – памятник также и животным, которых ведут на заклание. Вместо туманного будущего, ради которого призывали к жертвам политики новейшего времени, «сейчас» алтарных сцен, чьими современниками становимся и мы, напоминает о необходимой, как пища, связи природы и богов. Пенаты – «существа иного, лучшего мира» [1, с. 64], наделяют политику и гражданственность забытыми смыслами: не изменяя себе, домашнее и семейное способно стать общественным, а значит, политическим. Идеализация – иначе говоря, расширение образов и смыслов – возвышает глядящего до уровня гражданина мира, не делая его, однако, лишним или отгороженным от идеала, как в продукциях типа «Кубанских казаков». Хотя алтарные рельефы полны «плодов изобилия», цветочные гирлянды, поддерживающие бычьи черепа, напоминают о жизни и смерти как звеньях одной цепи. Глядящего на эти сцены, по сути, захватывает сама игра баланса художественных категорий – веризма и обобщения, индивидуального и типического, реалистического (сиюминутного) и отвлечённого. Мы учимся преодолевать обычное для музея отчуждение зрителя от произведения, глядящего от образа, а значит – и от самого себя. Ведь узнать себя в другом, малопонятном, и есть главная цель искусства.
Список литературы Алтарь мира в Риме: материалы к пособию для современного гида
- Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998. 688 c.
- Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры: Лицо города. М.: Молодая гвардия, 1990. 352 с.
- Дзеви Б. Уметь видеть архитектуру (отрывки)//Мастера архитектуры об архитектуре. М.: Искусство, 1972. 684 с.
- Кавтарадзе С. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. 472 с.
- Межерицкий Я.Ю. «Восстановленная республика» императора Августа. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016. 992 c.
- Муратов П.П. Образы Италии. М.: Республика, 1994. 592 с.
- Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. М.: Олма-пресс, 2001. 368 с.
- Ревзин Г.И. Очерки по истории архитектурной формы. М.: ОГИ, 2002. 138 с.
- Сонькин В. Здесь был Рим. М.: Астрель, 2012. 608 с.
- Galinsky K. Augustan Culture. Princeton: Princeton University, 1996. 496 p.
- Holliday P. Time, History, and Ritual on the Ara Pacis Augustae//The Art Bulletin. 1990. Vol.72. No.4. Pp. 542-557 DOI: 10.2307/3045761
- Momigliano A. The Peace of the Ara Pacis//Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1942. Vol.5. Pp. 228-231 DOI: 10.2307/750454
- Ryberg I.S. The Procession of the Ara Pacis//Memoirs of the American Academy in Rome. 1949. Vol.19. Pp. 79-101 DOI: 10.2307/4238621
- Thornton M.K. Augustan Genealogy and the Ara Pacis//Latomus. 1983. Vol.42. Pp. 619-628.
- Wood S. Urban Imagery and Visual Narrative: The Campus Martius in the Age of Augustus//The School of Historical Studies Postgraduate Forum. Edition Two. 2003. URL: https://www.societies.ncl.ac.uk/pgfnewcastle/files/2015/05/Wood-Urban-Imagery-and-Visual-Narrative.pdf (Дата обращения: 18.09.2017).