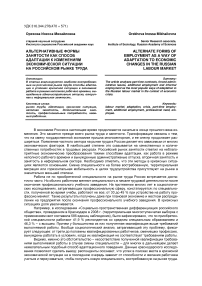Альтернативные формы занятости как способ адаптации к изменениям экономической ситуации на российском рынке труда
Автор: Орехова Инесса Михайловна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 24, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются наиболее востребованные на российском рынке труда способы адаптации в условиях кризисной ситуации в экономике: работа в режиме неполного рабочего времени, вынужденные административные отпуска, вторичная и неформальная занятость.
Рынок труда, адаптация, кризисная ситуация, неполная занятость, дополнительная занятость, профессиональные потребности, наемный работник
Короткий адрес: https://sciup.org/14938004
IDR: 14938004 | УДК: 316.344.276(470
Текст научной статьи Альтернативные формы занятости как способ адаптации к изменениям экономической ситуации на российском рынке труда
В экономике России в настоящее время продолжаются начатые в конце прошлого века изменения. Это касается прежде всего рынка труда и занятости. Трансформации связаны с тем, что на смену государственной экономике пришла многосекторная, и ее спектр продолжает расширяться. Появление частного сектора на рынке труда в России делает его зависимым от многих экономических факторов. В наибольшей степени это сказывается на качественных и количественных потребностях в трудовых ресурсах. Российский рынок занятости ответил на неблагоприятные экономические преобразования такими способами адаптации, как работа в режиме неполного рабочего времени и вынужденные административные отпуска, вторичная занятость и занятость в неформальном секторе. Необходимо отметить, что эти методы в кризисных ситуациях являются основными. Смена специальности на более востребованную, территориальная миграция или горизонтальная мобильность в целях трудоустройства присутствуют на рынке в значительно меньшей степени.
Работа не по приобретенной специальности на рынке труда России встречается достаточно часто. Но обычно работники меняют специальность в начале трудовой деятельности после окончания профессионального учебного заведения. На протяжении многих лет в социологических исследованиях, затрагивающих профессиональную сферу, констатируется: по специальности, полученной во время учебы, работают не все; от 30 до 45 % при устройстве на работу профессию меняют. Такие результаты получены даже при плановой экономике и жестком распределении на предприятия после окончания профессионального учебного заведения. В кризисных ситуациях доля увеличивается.
Например, в исследовании «Социально-пространственная дифференциация российского общества», проведенном в Краснодаре в 2008 г. (территориальная многоступенчатая выборка с применением квот составила 585 единиц наблюдения), было зафиксировано, что по приобретенной специальности работают 41,9 % респондентов со средним специальным образованием и 46,3 % – с высшим. Причем у большинства из них полученная квалификация выше требований выполняемой работы. Вообще социологический анализ, затрагивающий эту проблему, фиксирует следующее: от трети до половины квалифицированных работников, сменивших профессию, вынуждены работать в условиях, когда их квалификация не соответствует требованиям работы.
Видимо, именно это обстоятельство – несоответствие полученной квалификации требованиям выполняемой работы в случае смены специальности – для многих в дальнейшем делает нежелательным подобный способ адаптационного поведения. Данные краснодарского исследования позволяют сделать вывод: респонденты осознают, что успех в поисках места в кризисной экономической ситуации не в последнюю очередь зависит от способности и желания работника учиться и переучиваться, чтобы получить новую специальность, востребованную на рынке труда.
Несмотря на это, 27,9 % респондентов со средним специальным образованием и 36,6 % с высшим ответили, что будут искать работу только по своей специальности и никакую другую.
В еще меньшей степени работники используют такой адаптационный способ, как территориальная миграция в целях трудоустройства в кризисной ситуации. Подобная практика была характерна для распределительной системы устройства на работу после окончания профессионального учебного заведения. Система была в значительной мере принудительной, призванной решить кадровые проблемы в первую очередь отдаленных или сельских регионов страны. Но, как правило, специалисты после обязательного срока отработки (три года) места жительства и работы меняли. Поскольку в Советском Союзе существовал институт прописки, большинство отработавших срок по распределению возвращались на место постоянной прописки, даже если работы по специальности в регионе не было. Хотя в настоящее время институт прописки перестал существовать, добровольно сменить место жительства, чтобы трудоустроиться, способны немногие, даже если в их регионе кадровые потребности ограничены.
В большей степени распространен такой вид трудовой миграции, как временная миграция для заработка. Поскольку основная ее цель – улучшить материальное положение свое или своей семьи, профессиональная составляющая отходит на второй план. В большинстве случаев трудовые мигранты получают работу ниже квалификации, решая кадровые проблемы региона за счет профессиональной нереализованности. Профессиональные и квалификационные потери для мигрантов могли бы быть меньше, если бы они расширили географию миграции. Причем сделать это можно без материальных потерь, поскольку в стране существует достаточное количество регионов, помимо центральных, с высокой средней заработной платой и большими кадровыми потребностями. По данным статистики, пятерка регионов с самой высокой зарплатой такова: Ямало-Ненецкий автономный округ (средняя зарплата составляет 69 000 руб.); Чукотский автономный округ (68 000); Ненецкий автономный округ (62 000); Магаданская область (57 000); Москва (55 500). При этом самый большой поток трудовых мигрантов устремляется в столицу – он превышает потоки в северные регионы, Санкт-Петербург и Краснодарский край вместе взятые.
В этой ситуации неполная занятость становится, как отмечено ранее, самым распространенным адаптационным ресурсом на российском рынке труда.
Неполная занятость – это форма занятости, при которой длительность рабочего времени работника меньше, чем установлено работодателем. Необходимо отметить, что российская статистика включает в понятие «неполная занятость» и предоставление отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работника. Данная форма востребована не только при экономической нестабильности, но и во вполне благополучные годы, меняются только количественное выражение и соотношение составляющих ее элементов. По большому счету все побудительные мотивы неполной занятости – сокращение рабочего времени самим работодателем, невозможность в текущий период найти работу на полный день, многочисленные личные причины – сводятся к трем: занятость неполное время по инициативе работодателя, по соглашению между работодателем и работником и по инициативе работника. В кризисной экономической ситуации неполная занятость работника, как правило, является инициативой работодателя. При благоприятном положении в экономике и на рынке труда трудящиеся в большинстве случаев выбирают неполную занятость по своей инициативе или по соглашению с работодателем (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика численности работников, использующих неполную занятость, % [1]
|
Динамика численности по годам |
Работники, использующие неполную занятость |
||
|
по инициативе работодателя |
по соглашению между работодателем и работником |
по предоставлению отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника |
|
|
В 2010 г. к 2009 г. |
31,9 |
48,2 |
70,8 |
|
В 2011 г. к 2010 г. |
35,8 |
48,7 |
96,7 |
|
В 2012 г. к 2011 г. |
76,9 |
94,7 |
106,9 |
|
В 2013 г. к 2012 г. |
179,5 |
641,0 |
370,6 |
В новейшей российской истории неполная занятость прошла несколько этапов развития, которые, как правило, связаны с кризисной ситуацией не только в отечественной экономике, но и в мировой. За весь период наблюдения исключением является первая ступень, которая целиком связана с неблагоприятным положением на рынке труда. В государственной статистике применение неполной занятости как формы организации производства начинает отслеживаться с 1994 г. Но старт первого периода можно отнести к 1996 г. – времени максимальной экономической нестабильности. Конечно, неполная занятость как вид организации рабочего времени существовала и раньше, но именно с середины 1990-х гг. прошлого века она стала использоваться наиболее активно и именно в качестве адаптивной меры.
Как отмечалось, экономика тогда характеризовалась нестабильностью производственной деятельности, вытекающей из общей неустойчивости рыночной ситуации в стране – становление рыночных отношений только начиналось. Проведение экономических реформ зависело от многих факторов. К сожалению, в России данные факторы были не только экономическими, но в значительной степени политическими. Это неизбежно приводило к деформации устанавливающихся рыночных отношений, поскольку экономическая целесообразность зачастую отходила на второй план. В результате кризис в экономике продолжался достаточно долгое время (положение начало постепенно исправляться с 2000-х гг.) и, естественно, неполная занятость на рынке труда широко использовалась. Во многих отраслях народного хозяйства наблюдался спад производства вплоть до временной его остановки, возникали проблемы со сбытом продукции и т. п. В этих условиях применение неполной занятости отвечало интересам в первую очередь работодателей, но во многом и самих работников. Необходимо отметить, что речь идет о крупных и средних промышленных предприятиях, руководители которых ориентировались на сохранение своих компаний, их кадрового состава и восстановление объемов производства.
С точки зрения работодателя неполная занятость как форма организации рабочего времени позволяла в той или иной степени решить наиболее актуальные проблемы. Во-первых, непосредственно стоящие перед предприятием материальные и финансовые трудности. Во-вторых, вопросы сохранения качественного и количественного кадрового состава. Именно от решения кадровой проблемы в переходный период во многом зависит сохранение компании в целом как производственного и социального организма. С точки зрения работника неполная занятость давала возможность не потерять профессиональный и квалификационный уровни и вернуться со временем к полноценному труду.
Второй период активного применения неполной занятости как формы организации производственной деятельности начался в 2008 г. Количественные и качественные профессиональные потребности на рынке труда в большей степени определялись кризисным положением мировой экономики. В этой ситуации работодатели прибегли к апробированному ранее способу финансовой оптимизации деятельности предприятий и сохранения их кадрового состава – «скрытому сокращению» штатов: работникам предоставлялись внеплановые неоплачиваемые отпуска, часть из них стали трудиться неполное рабочее время. К концу 2008 г. по инициативе работодателя неполное рабочее время использовали 689,9 тыс. человек (1,9 % от среднесписочной численности), во внеплановых неоплачиваемых отпусках находились 944,1 тыс. человек (2,5 % соответственно) [2, с. 298]. В числовом отношении оба периода вполне сопоставимы. В 1996 г. неполную занятость применяли 1800 тыс. трудящихся, в конце 2008 – начале 2009 гг. – 1643 тыс.
Второй кризисный период отличался от первого также продолжительностью. Это объяснялось двумя причинами: во-первых, рыночные отношения в стране укрепились, стали нормой, что обеспечило экономике определенную устойчивость; во-вторых, временные рамки кризисной ситуации в значительной степени зависели от ситуации в мировой экономике. Уже к 2010 г. положение на рынке труда стабилизировалось, и это отразилось в том числе на объеме применения неполной занятости как организации производственной деятельности. В 2010 г. по сравнению с данными на конец 2008 г. она составила 26,8% (по инициативе работодателя).
Началом третьего периода применения неполной занятости можно считать конец 2012 – начало 2013 гг., что также связано с кризисными явлениями в мировой экономике. Становление рынка в стране, его встраивание в мировую систему рыночных отношений сделали нашу экономику в значительной степени зависимой от мировой. Пытаясь защититься от негативных проявлений мирового рынка, российская экономика использует разные виды организации производственной деятельности. Неполная занятость – одна из них. Она отнюдь не уникальна, но у нас используется в наибольшей степени и с максимальным эффектом.
Очень показателен в этом отношении третий этап. Подтверждением этому выводу служит такой показатель, как уровень безработицы. В период кризиса 2008–2009 гг. он вырос с 5,9 % в 2007 г. до 7,1 в 2008 и 8,7 в 2009 г. В кризисной ситуации 2012–2013 гг. он, наоборот, снизился и достаточно значительно – в 1,5 раза по сравнению с данными 2009 г. В 2012 и 2013 гг. уровень безработицы составлял 5,7 % [3]. Зато существенно возросло использование неполной занятости во всех трех ее формах: по инициативе работодателя (179,5 % в 2013 г. относительно 2012); по соглашению между работодателем и работником (641,0); по инициативе трудящегося (370,6) (см. табл. 1).
Как отмечено ранее, использование неполной занятости отвечает интересам и работодателей, и работников. Данная форма позволила избежать массовых сокращений. Особенно это характерно для настоящего периода, когда сокращения для работодателя – в первую очередь избавление от балласта. Работник при таком виде занятости не теряет связи с производствен- ным коллективом, предприятием и рабочим местом. Кроме того, трудящиеся имеют те же социальные и трудовые права, что и работники с полным рабочим днем. Исходя из этого, можно сделать вывод, что неполная занятость является наиболее приемлемой и наименее «травмирующей» адаптационной формой организации производственного процесса в кризисных условиях для работников, работодателей и общества в целом.
К сожалению, в настоящее время использование неполной занятости зачастую определяется перепроизводством специалистов определенного профиля. Как правило, это высококвалифицированные работники, профессия которых практически не востребована на рынке труда, и которые не смогли или не захотели переквалифицироваться: в основном юристы и экономисты широкого профиля. Для них одним из способов трудовой деятельности может быть неполная или временная занятость. Работники с неполным рабочим днем и временные работники имеют те же трудовые права, что и трудящиеся с полным рабочим днем и постоянные работники, только в том случае, если они заключают с работодателем формальный трудовой договор. На российском рынке труда, однако, преобладает другая тенденция: если работник начинает трудовую деятельность с неполной или временной занятости, она, как правило, носит неформальный характер. При этом формальные трудовые контракты уступают место устной договоренности. Такие служащие независимо от уровня их образования или квалификации лишаются всех экономических и социальных гарантий. Кроме того, становится неясным их место в социальной иерархии общества. И, пожалуй, самое главное: трудовая деятельность в коллективе – неотъемлемая часть процесса социализации. Поэтому неполная занятость в данном случае не только не является формой адаптации на рынке труда, но неизбежно приносит профессиональные, квалификационные и социальные потери.
Как и неполная, дополнительная занятость приобрела роль важного адаптационного ресурса в период кризисных изменений в экономике страны, становления рыночных отношений, появления частного сектора на рынке труда. Эта форма занятости получила распространение после снятия разного рода ограничений на дополнительные заработки. Исследования Института социологии РАН в разных регионах страны фиксируют следующее: дополнительную занятость имеют респонденты на всех территориях [4]. Причем по годам в количественном отношении эти группы вполне сопоставимы – различия находятся почти в пределах статистической погрешности. В Тюмени респондентов, имеющих дополнительную работу, – 21,8 %; Новосибирске – 25,1; Краснодаре – 28,0; Башкирии – 24,7. А в официальной статистике учитываются дополнительно отработанные часы в неделю. Цифры здесь в последнее десятилетие также практически одинаковы и составляют 13–14 часов в неделю. Например, в 2013 г. занятое население отработало дополнительно в неделю 14,0 часов, а в 2014 – 14,4.
Необходимо отметить, что дополнительная занятость в первую очередь служит источником дополнительного дохода. Именно приработок был главной побудительной причиной появления этого вида занятости в стране. Бедственное положение работников в условиях экономической нестабильности (спада производства, разрыва хозяйственных связей, невыплат и задержек заработной платы) послужило сильнейшим стимулом к вовлечению населения в сферу дополнительной занятости. При этом потребности динамично развивающейся экономики требовали от трудящегося умения свободно переквалифицироваться в пределах основной профессии или вообще менять профессиональные знания и умения.
Дополнительная занятость развивалась в другом направлении – как и в период ее возникновения главными оставались материальные интересы субъекта, а не профессионально-квалификационные факторы. В результате этого в области использования дополнительной или вторичной занятости сложилась следующая ситуация. Во-первых, если дополнительная занятость не связана с основной профессией, как правило, эта работа менее квалифицированная. Работники, имеющие дополнительную занятость или ищущие ее, обладают высокими мобильностью и активностью. Обычно дополнительную работу они выбирают в частном секторе экономики. Рыночный сектор, безусловно, динамичнее развивается и предоставляет бóльшие материальные возможности. Однако институт частной собственности в России охватывает не все сферы занятости. В самой большой степени он распространен в сфере торговли, услуг и т. п., значительная часть профессий в которых не требует высокой квалификации. Но зачастую именно дополнительный приработок дает основной заработок. То есть с экономической точки зрения дополнительная работа становится основной.
Во-вторых, в рамках профессии чаще всего дополнительная занятость – совместительство внутри основного места работы (предприятия, учреждения, учебного заведения и т. д.). Квалификационный уровень остается прежним, и в профессиональном отношении работник ничего не теряет, но может приобрести новые навыки. Тогда адаптационный ресурс дополнительной работы усиливается, поскольку наряду с материальной выгодой служащий вместе с новыми навыками при- обретает определенную профессиональную мобильность. В условиях кризиса дополнительная занятость для некоторой части работников может стать единственной, но в этом случае они рискуют потерять социальные гарантии, которые им предоставлялись на основной работе.
Картина адаптационных возможностей на рынке труда будет неполной, если не отметить неформальный сектор и неформальную занятость. Неформальный сектор – это совокупность хозяйств, которые производят товары и услуги для реализации на рынке и не являются самостоятельными юридическими единицами. Именно данный институт существенно влияет на гибкость российского рынка труда. В частности, занятость в неформальном секторе в 1990-е гг. прошлого века позволила части россиян заработать и тем самым значительно смягчить социальное напряжение в обществе [5].
В этом секторе широко распространен такой вид неформальной занятости, как самозанятость. В группу людей с неформальной занятостью обычно включают фрилансеров, индивидов с неполной или временной занятостью, самозанятых и т. п., объединяющим признаком которых является нестабильность их положения на рынке труда. Как правило, у них нет юридически оформленного договора с работодателем, а следовательно, никаких трудовых, финансовых и социальных гарантий. При этом доходы у неформально занятых могут быть достаточно высокими (например у фрилансеров), но, как отмечено ранее, нестабильными.
Отдельной проблемой индивидов с неформальной занятостью является их социальная идентификация. Особенность российского сектора неформальной занятости заключается в том, что многие занятые в нем имеют высокие уровни образования и дохода. По данным показателям их можно было бы отнести к среднему слою. Однако их юридическая неопределенность, нестабильность положения на рынке труда, высокая вероятность в любой момент остаться без работы этому препятствуют. Вопрос о том, к какой социальной группе можно отнести неформально занятых, достаточно спорный. В последнее время в научной литературе, в том числе в России, появились статьи о возникновении новой стратификационной группы – «прекариата». Стратификационным основанием ее выделения послужила как раз экономическая нестабильность [6]. С такой точки зрения группу неформально занятых можно отнести именно к этому слою. На наш взгляд, адаптационный ресурс группы достаточно высок за счет низких юридических и профессиональных требований к трудоустройству. Однако для общества в целом подобная группа в силу нестабильности ее социального и трудового положения представляет определенную опасность.
Российский рынок труда очень гибок, поэтому адаптационный ресурс работников здесь достаточно высок и отличается разнообразием форм, каждая из которых имеет достоинства и недостатки. Наиболее частое применение нашли неполная и дополнительная занятости. Преимущества первой в том, что она в значительной степени устраивает и работника, и работодателя; позволяет сохранить кадровый и квалификационный потенциал организации и саму компанию как единый организм; оставляет работнику социальные и трудовые гарантии и возможность вернуться к полной занятости. Преимущество второй в основном экономическое, дающее возможность при определенных трудозатратах, но при этом часто и при квалификационных потерях достичь материального благополучия. Необходимо также отметить, что данные виды занятости обычно используются в разных секторах экономики. Неполная занятость охватывает крупные и средние промышленные предприятия с государственной или смешанной формой собственности. Дополнительная занятость чаще всего встречается на небольших частных предприятиях, которые к тому же ограничены сферой занятости: как правило, это торговля, услуги, сельское хозяйство.
Ссылки и примечания:
-
1. Подсчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2009–2014 / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http// www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/lssWWW.exe/Stg/d01/05-28.htm (дата обращения: 16.11.2015).
-
2. Труд и занятость в России. Федеральная служба государственной статистики. М., 2009.
-
3. Российский статистический ежегодник. 2008–2013. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http// www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/lssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm (дата обращения: 20.10.2015).
-
4. «Социально-структурная динамика в регионе», Тюмень, 2001 г.; «Социальная интеграция и дезинтеграция российского общества», Новосибирск, 2004 г.; «Социально-пространственная дифференциация российского общества», Краснодар, 2008 г.; «Социально-структурные процессы в регионе», Башкирия, 2014.
-
5. См., например: Маслова И.С., Бараненкова Т.А., Кубишин Е.С. Неформальная занятость в России. М., 2007.
-
6. О «прекариате» см., например: Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества // Социологическая теория и социальная практика. 2013. № 3. С. 5–15.
Список литературы Альтернативные формы занятости как способ адаптации к изменениям экономической ситуации на российском рынке труда
- Подсчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2009-2014/Федеральная служба государственной статистики . URL: http//www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/lssWWW.exe/Stg/d01/05-28.htm (дата обращения: 16.11.2015).
- Труд и занятость в России. Федеральная служба государственной статистики. М., 2009.
- Российский статистический ежегодник. 2008-2013. Федеральная служба государственной статистики . URL: http//www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/lssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm (дата обращения: 20.10.2015).
- «Социально-структурная динамика в регионе», Тюмень, 2001 г.
- «Социальная интеграция и дезинтеграция российского общества», Новосибирск, 2004 г.
- «Социально-пространственная дифференциация российского общества», Краснодар, 2008 г.
- «Социально-структурные процессы в регионе», Башкирия, 2014.
- Маслова И.С., Бараненкова Т.А., Кубишин Е.С. Неформальная занятость в России. М., 2007.
- Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества//Социологическая теория и социальная практика. 2013. № 3. С. 5-15.