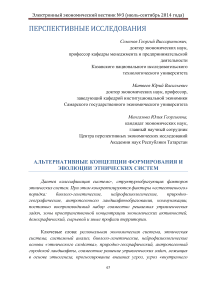Альтернативные концепции формирования и эволюции этнических систем
Автор: Семенов Георгий Виссарионович, Матвеев Юрий Васильевич, Мингазова Юлия Георгиевна
Журнал: Электронный экономический вестник Татарстана @eenrt
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
Дается классификация системо-, структурообразующих факторов этнических систем. При этом конкретизируются факторы «естественного» порядка: биолого-генетические, нейрофизиологические, природно-географические, антропогенного ландшафтообразования, коммуникации, постоянно воспроизводимый набор совместно решаемых управленческих задач, зоны пространственной концентрации экономических активностей, демографический, сырьевой и иные профили территории.
Региональная экономическая система, этническая система, системный анализ, биолого-генетические, нейрофизиологические основы "этнического сходства", природно-географический, антропогенный городской ландшафты, совместное решение управленческих задач лежащих в основе этногенеза, прогнозирование внешних угроз, угроз "внутреннего порядка" демографических, эколого-биологических угроз, угроз бедности, голода, "коллективной" смены места, отставания в военной, экономической областях, науках, знаниях и ремеслах, значимых для этногенеза сферы планирования, проектирования, организации, учета, контроля, осуществления действий, зоны территориальной концентрации экономических активностей
Короткий адрес: https://sciup.org/14322537
IDR: 14322537
Текст научной статьи Альтернативные концепции формирования и эволюции этнических систем
Электронный экономический вестник №3 (июль-сентябрь 2014 года) порядка», демографических, эколого-биологических угроз, угроз бедности, голода, «коллективной» смены места, отставания в военной, экономической областях, науках, знаниях и ремеслах, значимых для этногенеза сферы планирования, проектирования, организации, учета, контроля, осуществления действий, зоны территориальной концентрации экономических активностей.
Осознание значимости системного мышления, как важнейшего когнитивного фактора, при исследовании экономического развития и институтов развития приводит к определению границ такого анализа в конкурирующих между собой и в чем-то дополняющих друг друга терминах «региональная система», «территориальное сообщество», «этническая система» (в понимании Л.Н.Гумилева).
Приведенные понятия не являются простыми и требуют уточнения. Исторически им предшествует более простое понятие «популяция». Под популяцией обычно понимают совокупность особей одного вида, «…живущих в одном ареале».4 Семантически слово «ареал» при этом подразумевает каким-то определенным образом выделяемые район, зону, территориальные «сферу охвата», «поле зрения» исследователя (наблюдателя). Более сложный по содержанию термин «сообщество» применяют «для обозначения животных коллективов… «сообщество» - комбинация нескольких видов животных и растений, взаимосвязанных «цепью питания». 5 Экономико-географическим расширением данного понятия служит понятие «экономическое сообщество». Не вдаваясь в обсуждение содержания понятия «сообщества», заметим, что его эквивалентом в английском языке является слово «association».
В полном объеме требованиям системного анализа и системного мышления из приведенного перечня отвечают только понятия «региональная система» и «этническая система». Причем из них только в понятии «этническая система» содержится системообразующий признак, созидающий экономическое, институциональное и социальное развитие, взлет и падение различных систем, образуемых людьми в совершенно конкретных территориальных и временных рамках. Между тем, традиционная социальноэкономическая характеристика региональных систем, как правило, обычно игнорирует этническую.6
Как известно, этническая система опирается на формирующие системные связи и структурообразующие ее группы этносов. В этом смысл понятие «этнос» не тождественно понятию «этническая система». В свою очередь, любой этнос основывается на возникающих и воспроизводящих себя «первичных коллективах». У Л.Н.Гумилева мы находим, что К.Маркс … их называл Gemeinwesen. Gemein – это общий, а wesen – это «суть», «суть дела», «существо», «основание».7 Именно это позволяет людям, образующим тот или иной этнос, демонстрировать «… единый стереотип поведения и внутреннюю структуру, противопоставляющие себя всем остальным как «мы» и не «мы»».8
Признаками общности, «сходства», по которым образуются первичные коллективы, являются одни и те же родители и прародители, родственники (общность происхождения, общность «по крови»), генетическая составляющая сходства, наследуемая следующими поколениями людей, семья – как объединяющий институт повседневного быта, воспроизводства и развития в рамках семейного образования, воспитания, формирования человеческих ресурсов, личностных характеристик людей, общность самосознания, когнитивное, информационно-коммуникационное (язык и используемые в нем «грамматики»), интеллектуально-духовное сходство. Вместе с тем, это и вмещающие «первичные коллективы» природногеографический ландшафт, территория, структурированные на «ареалы проживания», преобладающие род занятий, профессии, рассматриваемые как «специализированные фабрики по производству смыслов», 9 общность решаемых управленческих задач различного «временного диапазона», стоящих перед «первичными коллективами» (прогнозирования, проектирования и планирования, функциональной, структурной, информационно-коммуникативной, интеллектуальной организации, учета, контроля, осуществления действий), технологические рутины и ожидаемые образцы поведения, ценности, традиции, иные институты, унаследованные от предков, артефакты.
Как видим, «этнические признаки» даже на уровне «первичного коллектива» образуют сложную динамичную систему, не «сводящуюся» к языку, национальности и национальной культуре, хотя эти признаки, по-прежнему, относятся к важнейшим системообразующим. Традиционными примерами «первичных коллективов» являются семья, род, племя
Электронный экономический вестник №3 (июль-сентябрь 2014 года) («микроэтнос»), артели, связывающие людей общими сельскохозяйственными угодьями, ареалами морского рыболовного промысла, охоты, местами пересечения караванных путей, товарно-торговых потоков; воинские дружины («сотни», «тумены»), купеческие гильдии, «ремесленные цеха»; сельские, небольшие городские поселения, микрорайоны крупных городов – как «месторазвитие» и место извлечения трудового и иного дохода, «землячества», учебные группы, классы, религиозные общины, крестьянские общины, колонии поселенцев, др. Обращает на себя внимание, что каждый такой «первичный коллектив» представляет собой некое «корпоративное образование» со своим формируемым его участниками кодексом поведения (слово «corpus» в английском языке переводится на русский как «кодекс»).
На другом, более высоком уровне рассмотрения и исследования этнических систем мы уже говорим о конфедерациях, союзах племен («микроэтносов»), народах, конфедерациях и союзах народов. Таким образом, подсистемы, сформировавшиеся по «этническому основанию» образуют этническую систему. В связи с этим можно говорить о «вложенности» систем друг в друга при их построении по «этническому признаку» (а точнее, - группе признаков). И все это этнические системы. При укрупнении этнических систем, соответственно, возникает вопрос: «Где заканчиваются границы одной этнической системы и начинаются – другой?» Здесь, по-нашему мнению, следовало было бы вести речь о сложно устроенных, содержащих «свои полутона», постоянно изменяющихся во времени «пограничных системах», разделяющих и одновременно связывающих различные этнические системы. Причем эти «пограничные системы» возникают на каждом из выделяемых нами уровнях этнических систем, их подсистем и элементов («первичного коллектива» и выше, в том числе, - и на уровне региональных этнических систем внутри государства). Такого рода «пограничные системы», по сути, содержат в себе «зоны» взаимного влияния и конкурентного «противостояния» этнических систем, обеспечивают их структурно-функциональную и информационно-коммуникационную гибкость. Важно понимать, что «границы» между этническими системами, в том числе, - региональными, - представляет собой не некую детерминированную административно-территориальную «демаркационную линию», а достаточно сложно устроенную структуру – системную, тектологическую. Все это делает поиск одного емкого обобщающего универсального определения понятия этнической системы более чем проблематичным и требует ее системного рассмотрения в многообразии всех ее связей, образующих целостность.
Более того, по мере все большего роста открытости региональных этнических систем в процессе глобализации и развития системного мышления вопрос о «превращении» их во многом размытых «границ» в строгие, наподобие административно-территориальных, по-видимому, и не должен ставиться. Вместе с тем, устройство и динамика такого рода «пограничных систем» на различных фазах этногенеза (скрытого и явного подъема, акматической фазе, надлома и инерционной фазе, обскурации, регенерации реликта или мемориальной фазе, - в классификации Л.Н.Гумилева) во многом будут разными.
Исходя из сформулированных представлений, исследуя экономическое развитие и институты развития этнических систем, целесообразно выделять следующие группы системо- и структурообразующих факторов:
-
А) факторы «естественного порядка»;
-
В) зоны территориальной (пространственной) концентрации экономической, организационно-институциональной, социокультурной деятельности людей, их расселения;
-
С) развитие человеческих ресурсов и знаний, технологий и способов передачи знаний, человеческого, интеллектуального капиталов в этнической системе;
Д) виды экономической и институциональной, в том числе управленческой, деятельности, макроэкономические генерации, являющиеся основой, фундаментом в развитии этнической системы, эволюция создаваемого и потребляемого ею общественного продукта, как сложной системы;
-
Е) культура – как институциональный феномен и как фактор этнической социальной и духовной интеграции;
-
F) институционально-экономическая организация этнических систем;
-
G) идеологические, правовые институты.
На их основе следует разрабатывать и строить систематизирующие таблицы и «объясняющие структуры» при исследовании воспроизводственных процессов в этнических системах (в том числе, региональных). А уже с их помощью выделять и систематизировать институты экономического развития, как на национальном, так и региональном уровнях.
В составе группы факторов «естественного порядка», в первую очередь, выделим биолого-генетические и нейрофизиологические основы «этнического сходства». О биолого-генетических различиях и некоторой общности территориально удаленных друг от друга народов и образующих их этнических групп достаточно много написано. Добавим здесь только, что задача сохранения генетически здоровой нации всегда воспринималась представителями «этноса» как одна из важнейших, а результаты ее успешного решения, - как социально-интегрированное благо, обладающее высокой общественной ценностью. Еще одним дополнением о роли биологогенетических факторов, определяющих этнические «сходство» и «разнообразие», является то, что генетически (и соответственно, анатомически) запрограммированных зон в головном мозге человека приблизительно 10-20%.10 Остальные зоны формируются и пространственно перестраиваются в процессе жизни человека и восприятии им окружающего мира.
Как отмечает Бехтерева Н.П., - «в процессе онтогенеза внешняя и внутренняя среда человека, его социальная и личная жизнь, его обучение, беды и радости заполняют первоначально преимущественно еще «белую карту» (серую кору) мозга. Иногда при необходимости они перестраивают ее, даже переносят центры какой-то определенной деятельности из одного полушария в другое. Строят системы из жестких, постоянных или почти постоянных, и гибких, переменных звеньев». 11 В данной связи, крайне интересно указание Л.Н.Гумилева на «этническое подсознание», которое «неявно структурирует» людей в рамках селекции составляющих этнической системы и достижения большей ее однородности при решении общих или схожих для людей разнообразных управленческих задач. В основе же подсознания, - по мнению нейрофизиологов, - лежит «своеобразная «матрица долгосрочной памяти». По мнению Бехтеревой Н.П. «матрица долгосрочной памяти закладывается в детстве и затем определяет всю жизнь человека».12 Все это происходит в условиях явной и латентной полифункциональности «микрозон» головного мозга человека.
В долгосрочной памяти человека хранится «базис стереотипов» (регулирующий также деятельность человека по существу близкую к стереотипной) и соответствующие ему «ожидаемые образцы» поведения («отношенческие рутины Р.Нельсону, П.Уинтеру»). Напомним, что, по мнению Л.Н.Гумелева, именно единый или близкие стереотипы поведения являются важнейшим признаком выделения из многочисленных групп людей этноса.
Вместе с тем, в деятельности головного мозга человека в постоянном поиске устойчивых, стабильных состояний важнейшую роль играют механизмы воспитания и тренинга эмоционального баланса, а также контроля с помощью «детектора ошибок» при рассогласовании деятельности с ее планом, «образцами». Достижение эмоционального баланса обеспечивает выравнивание интенсивности взаимообусловленных («реципрокных») «…сдвигов сверхмедленных нейрофизиологических процессов…», 13 тесно связанных с матрицей долгосрочной памяти человека. Нарушение стереотипов, «образцов поведения», особенно, если оно происходит достаточно часто, подрывает эмоциональный баланс, приводит к соответствующим дисбалансам, нелинейному росту энтропийных характеристик поступающей в мозг информации. Защищаясь (точнее защищая свой мозг, его целостность), человек минимизируют повседневные «социальные контакты» с такими индивидуумами – нарушителями, параллельно расширяя их с людьми, придерживающихся в поведении схожих стереотипов и в значительной мере соответствующих ожиданиям. Результатом становится восстановление эмоционального баланса.
Как пишет Бехтерва Н.П., - с появлением в 1987г. в США, в 1988г. в Японии позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) были выделены, несмотря на определенную их полифункциональность, зоны (области) мозга человека, имеющие большое значение для обеспечения речи, счета, опознания слов и речевой памяти с помощью встроенной системы «детекции ошибок», контроля восприятия, речевого ответа, семантики, зрительно предъявляемого связанного текста, положительных, отрицательных эмоций, эмоций, вызванных внутренними, внешними факторами, др. В каждой такой зоне при реализации ею своей функции «…всегда имеется определенный уровень медленно меняющейся базовой активности, небольшой потенциал [электромагнитный, - примечание авторов], называемый постоянным. Сверхмедленные физиологические процессы представляют собой комплекс, состоящий из этого постоянного, устойчивого потенциала, а также медленных физиологических колебаний разной длительности… для этого постоянного потенциала существует определенный оптимальный диапазон, различный для разных участков мозга… Было многократно показано, когда постоянный потенциал какой-либо зоны мозга становится слишком высоким или слишком низким, выходит за пределы своего оптимального диапазона, зона мозга оказывается не в состоянии действовать или ее способность действовать резко уменьшается. Богатство возможностей мозга теряется»…14 Таким образом, эмоциональный баланс и его разнообразные нарушения определяют информационную емкость мозга. Когда эмоции поглощают человека, завладевая все большим и большим числом зон (областей) его мозга, -продолжает ученый, - «в первую очередь, при этом теряется способность мозга мыслить, особенно, творчески»…15
Этот фундаментальный вывод позволяет говорить о нейрофизиологических основах, условиях развития «этнических систем», как национальных, так и региональных. Нарушения этнической идентичности, основывающиеся на авторитарном сознании, административный стресс-менеджмент, развитие механизмов агрессивной координации во многом тормозят развитие «этнических систем», а «… творчество генетически наиболее способных к нему людей идет уже вопреки возникшей ситуации».16 И здесь крайне важно использовать способность головного мозга человека «запоминать устойчивое состояние и возвращаться к нему».
Вместе с тем, пространственно-временное кодирование мыслительных процессов при формировании матрицы долгосрочной памяти, а также под воздействием ежедневных текущих событий неразрывно связаны в головном мозге с системой детекции ошибок («детектором ошибок»). Речь идет об особой популяции нейронов, которая приходит в состояние сильного нейрофизиологического возбуждения, когда привычные «грамматики» восприятия информации нарушены. В такой ситуации «…система детекции ошибок либо корригирует деятельность на бессознательном уровне, либо создает у человека состояние, выражающееся смутным чувством чего-то невыполненного или выполненного неверно. Человек задумывается и часто решает задачу». 17 В этом смысле, то что «правильно» в одном первичном коллективе (семье, племени, общине, артеле, цехе, др.) и более крупных этнических группах, часто может быть «неправильным» в других первичных коллективах и этнических группах. Такое разграничение на «правильное» и «неправильное» вследствие действия естественных нейрофизиологических факторов специфицирует и в определенной части блокирует процессы экономического развития в соответствующих коллективах, группах и в целом в этнической системе.
Важнейшим естественными системо- и структурообразующими факторами «этнической системы» являются также природно-географический ландшафт и связанные с ним природно-климатические условия формирования племен, народов, этносов и соответствующих институтов. Как отмечал еще в 1922г. Л.С.Берг: «Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, заставляя, все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. – все это накладывает особы й отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть».18 При этом под ландшафтом в теории этногенеза предлагается понимать окаймленный естественными границами участок земной поверхности, «…представляющий целостную и взаимообусловленную совокупность предметов и явлений, которая типически выражена на значительном пространстве и неразрывно связана во всех отношениях с ландшафтной оболочкой». 19 Экономико-географическим «продолжением» природно-географического ландшафта с развитием процессов урбанизации, особенно в последние 150 лет, становятся города, крупные города-мегаполисы, городские промышленные и постиндустриальные агломерации.
Формирование и развитие «первичных коллективов», этнических групп, этносов, этнических систем и сопровождающие эти процессы инновации всегда имеют свое “месторазвитие». 20 Решение управленческих задач прогнозирования порождаемых спецификой географического ландшафта природно-климатических угроз (засухи, наводнений, разрушительных ураганов, суховеев, пылевых и песчаных, морских бурь, цунами, землетрясений, извержения вулканов, морозов, пожаров, аномальной жары и похолоданий), последующее с помощью защитных и адаптивных механизмов противостояние таким угрозам всегда собой представляло “основу» (экономическую институциональную и социальную) объединения людей, образуемых ими «первичных коллективов», этнических групп, племен и народов. Выяснение «динамики климатических процессов ландшафтообразования» ставило перед ними новые задачи.
При этом в соответствии с теорией этногенеза подлинными «месторазвитиями», главным образом, являлись территории сочетания двух и более ландшафтов. 21 Именно там с учетом выделения и исключения
Электронный экономический вестник №3 (июль-сентябрь 2014 года) неблагоприятных для расселения локальных, «геопатогенных зон» предпочитали жить и развивать себя люди. Именно там возникали поселения и города. Все более значимым становился «антропогенный фактор ландшафтообразования». Урбанистическим ландшафтам, пусть во многом и не таким, какие мы имеем сегодня, - несколько тысяч лет. По мнению Л.Н.Гумилева «…громадные города можно рассматривать как самостоятельные ландшафтные регионы… на границах города и деревни всегда возникали субэтносы … с оригинальными, неповторимыми стереотипами поведения, обязательными для их членов».22
Городской ландшафт, представляющий собой целостность или субцелостность различных антропогенных зон, представляет собой «рукотворную основу» формирования и развития в его границах разнообразных первичных, в том числе этнически смешанных первичных коллективов, их различного рода ассоциаций (сообществ), городских «этнических диаспор», профессиональных объединений, союзов и «каст», определенного набора культурно-образовательных когнитивных и институционально-интегрирующих систем. Такая единая основа предполагает необходимость постоянного решения членами городской «этнической системы» возникающих, стоящих перед ними объединяющих общих управленческих задач. И если в рамках первых, ранних поселений состав этих управленческих задач был ориентирован на создание условий более или менее стабильных для жизни и ее продолжения в будущих поколениях общин (родовых, сельских), племен и народов путем эксплуатации и некоторого расширения возможностей, предоставляемых «вмещающим их» природногеографическим ландшафтом, то с развитием городов состав, структура и содержание управленческих задач усложняются, приобретают их современную «зрелую» форму. Более того они становятся задачами формирования нового городского ландшафта с учетом режимов эксплуатации и воспроизводства эколого-биологических ресурсов.
С появлением и развитием городов совершенно иначе, чем в ранние периоды развития человечества, решается задача прогнозирования сокращения запасов в «пищевой цепочке». Существенно усиливаются угрозы инфекционных заболеваний от, как их раньше называли, городских «миазмов». Что требует от людей постоянного мониторинга, прогнозирования усиления такого вида угроз и организации соответствующего противодействия. Город также существенно усиливает угрозы генетических мутаций человека, растений, животных, их потомства. Наконец, в рамках
Электронный экономический вестник №3 (июль-сентябрь 2014 года) городского ландшафта существует угроза «массового проявления» недовольства решением тех или иных проблем людей.
Городской ландшафт иначе структурирует и внешние угрозы, которые могут исходить и исходят от ближайших и более отдаленных «соседей». На ранних этапах развития человечества «объединяющее» прогнозирование угроз (возможных и действительных) со стороны «соседей» осуществлялись в рамках совместной эксплуатации природных ареалов, распространенной агрессивной практики вооруженных набегов, войн с целью приобретения природных ареалов «соседей», контроля над ними, захвата людей, имущества (включая лошадей, скот, запасы продовольствия, богатства (редких предметов, металлов, обладающих высокой ценностью, жемчуга, драгоценных камней, оружия). В средние века от внешних угроз со стороны «соседей» городское сообщество защищали крепостные стены и другие фортификационные сооружения. На уровне «первичных коллективов» в самом городе существующие угрозы со стороны «соседей» все более ограничивались развитием соответствующих институтов гражданского общества. Так, традиционные задачи прогнозирования дополнялись и постепенно вытеснялись управленческими задачами институционального проектирования, планирования гражданской жизни в условиях развивающегося городского ландшафта.
Современные города не имеют крепостных стен в прямом и переносном смысле этого слова. Внешние угрозы со стороны ближайших и отдаленных «соседей» осознаются представителями городского сообщества, городской этнической системы, главным образом, как экономические и связываются преимущественно с более быстрым успешным индустриальным, экономическим развитием городов-соседей, ростом цен, снижением занятости и относительных номинальных и реальных доходов. Что касается оценки угроз со стороны ближайших и отдаленных соседей на уровне «первичных коллективов» внутри самого быстро эволюционирующего городского ландшафта, то с усложнением этнического состава городской этнической системы, роста разнообразия объединяющих различные такие «первичные коллективы» решаемых экономических и управленческих задач здесь существенно расширяется «спектр рисков» и увеличиваются энтропийные характеристики.
Справиться в процессе управления городскими этническими системами с растущей энтропией в этих условиях можно только, вырабатывая «единый язык» когнитивных моделей, схожие стереотипы поведения при решении по сути одних и тех же управленческих, экономических и социальных задач жителями города, запуская процессы институциональной, структурной конвергенции при сохранении этнической идентичности, формируя, развивая и сближая «отношенческие рутины». Разумеется, данный процесс – достаточно сложный, и далеко не все представители различных этнических, профессиональных, социальных групп будут «выстраивать» свою деятельность в соответствии с вырабатываемыми унифицирующими институциональными стандартами. Между тем, в результате та часть городских жителей и «первичных коллективов», которая более адаптивна, открыта, конформна и готова к «институциональным компромиссам» на уже сформировавшейся и имеющейся у них первичной этнической основе, вырабатывает «новый слой» институциональных структур, объединяющих их в единую городскую этническую систему. Последующее закрепление, «кристаллизация» этого «нового слоя», накладывающего в процессе развития городского ландшафта и городской этнической системы «слоем» за «слой» один на другой позволяет говорить об институциональной инфраструктуре городской этнической системы.
В свою очередь, та часть городских жителей и «первичных коллективов», которая в тот или иной период времени демонстрирует свою неготовность к «институциональному компромиссу» при решении объединяющих общих управленческих, экономических и социальных задач, оказывается достаточно консервативной в своей первичной «этнической самобытности», образует дополняющее городскую этническую систему городское сообщество относительно самостоятельных этнических групп, функционирующих во многом независимо от «интегрирующих сил» постоянно развивающейся городской этнической системы.
Более значительными по сравнению с внешними в современных городах для стабильности, эффективности, инновационности городских этнических систем являются угрозы «внутреннего порядка». К первой группе такого рода угроз относятся возникающие стратегические дисбалансы в процессе развития городской этнической системы. Их примерами, в частности, являются стратегические дисбалансы в соотношениях коренного населения и значительных потоков мигрантов мужчин и женщин, молодежи и пожилого, в значительных и все более усиливающихся различиях в уровнях жизни различных семей, «первичных коллективов», естественных и искусственно привнесенных составляющих, языковых различий и различий в «грамматиках» в когнитивных моделях в восприятии событий, происходящих изменений и их интерпретации. Возникновение второй группы угроз «внутреннего порядка» тесно связано с усилением глубины и расширением
Электронный экономический вестник №3 (июль-сентябрь 2014 года) сфер распространения среди индивидуальных членов и «первичных коллективов» городской этнической системы различных моделей оппортунистического поведения. При реализации перечисленных угроз происходит дезинтеграция, а затем и разрушение городских этнических систем вследствие накопившейся ее внутренней неустойчивости, их превращение в городские сообщества «застойного типа». «Застойное состояние», в свою очередь, усиливает дезинтеграционные процессы вследствие неэффективности функциональной, структурно-морфологической, информационно-коммуникационной организации городской жизни и городского хозяйства.
Вместе с тем, угрозы «внутреннего порядка» для городской этнической системы могут возникать в обратной ситуации сверх быстрого ее структурного изменения, развития и вызываемых этим неконтролируемым ростом энтропийных характеристик развивающейся системы.
Рассматривая объединяющие управленческие задачи прогнозирования и вытекающую из их решения необходимость действий в рамках природногеографического, а также «рукотворного» антропогенного городского ландшафтов, мы выделили и структурировали только первый базовый уровень возникающих угроз: природных, внешних со стороны ближайших и отдаленных «соседей», «внутреннего порядка». Вместе с тем, при формировании и исследовании любой «этнической системы» следует по аналогии конкретизировать и изучить объединяющий характер решаемых в рамках задач прогнозирования угроз второго и третьего уровней.
Второй уровень при выделении его как «сущности второго порядка», на наш взгляд, в себя включает демографические угрозы (низкой рождаемости и высокой смертности, стратегического дисбаланса городского и сельского населения, высокой детской смертности и смертности от инфекционных болезней, заметного снижения средней продолжительности жизни, др.), эколого-биологические угрозы (сведение лесов, превращение цветущих плодородных полей в безжизненные пустыни, загрязнение рек, других водоемов, сокращение запасов чистой питьевой воды, ускоряющееся исчезновение биологических видов, дефицит ресурсов чистого воздуха, др.), а также угроз «коллективной» смены места, индивидуального или коллективного переселения (в этом случае при прогнозировании дается оценка положительных и отрицательных последствий перемещения в те или иные новые места).
В свою очередь, третий уровень при выделении его как «сущности третьего порядка» при формировании этносов, этнической системы содержит построение прогнозов угроз бедности, нищеты, голода, отставания в военной, экономической областях, в знаниях, науках и ремеслах.
Объединяющая «управленческая основа» формирования этнических систем и в рамках природно-географического, и в рамках антропогенного городского ландшафтов состоит, в то же время не только в решении задач прогнозирования внешних, внутренних и иных угроз, но и общих задач организации, планирования, проектирования. При этом в процессе инновационно-модернизационного и в целом социально-экономического развития постоянно воспроизводится в чем-то системное и в чем-то фрагментарное соответствующее «когнитивное поле» решения соответствующих управленческих задач. Указанное поле структурирует и отдельно выделяет задачи функциональной, структурно-морфологической (включая административно управленческие иерархии, системы «условного владения») организации и организации информационных коммуникаций этнических систем.
Вместе с тем значительную роль в объединении, интеграции людей в «первичные коллективы», этнические группы, единые этнос и этнические системы играют следующие виды планирования и проектирования: а) инженерно-технического; б) институционально-организационного и управленческого; в) информационно-коммуникационного; г) научнообразовательных структур и в целом процесса обучения; д) элементов и подсистем инновационной инфраструктуры; е) маркетинговое; ж) финансовое; з) социальной защиты детей, многодетных семей, инвалидов, бывших военных, др.; и) «созидающих» культурных ценностей («артефактов»). Все эти виды реализуют те или иные базовые представления, ту или иную концепцию «конкурентного развития», «встраивания» «первичных коллективов», этнических групп, этнических (в том числе и региональных) систем.
В рамках инженерно-технического проектирования, в первую очередь, осуществляется проектирование жилищ, защитных сооружений и в целом поселений, новых видов оружия, ирригационных и иных гидро-сооружений, водопроводов, газопроводов, энергетических, канализационных городских сетей, мостов, судов, «водяных мельниц», других двигателей, машин и оборудования, индустриальных и постиндустриальных технологий потребительских продуктов и услуг (в том числе, архитектурных, землеустройства, строительных, транспортных, хранения), а также создание технических проектов предприятий, других организаций. Являясь «естественным продолжением» инженерно-технического проектирования, институционально-организационное и институционально-управленческое проектирование направлено на изменение и развитие организационно -экономических и организационно-управленческих отношений. 23 Организационно-экономические отношения опосредуют взаимодействие структурной базы технологических укладов и образующих эти уклады макроэкономических генераций с социально-экономическими отношениями. Организационно-управленческие отношения, как «особый слой», связывают социально-экономические отношения с постоянно воздействующими на них политико-правовыми и идеологическими механизмами «властно -силового поля».
В контексте эволюции и развития «первичных коллективов», этнических групп и в целом «этнических систем» институционально -организационное проектирование в себя включает разработку проектов территориального размещения в тесном единстве с организационными формами развития производительных сил (разделением труда и кооперацией, кооперированием, специализацией и комбинированием, созданием разнообразных территориально-интегрированных комплексов и кластеров, др.), а также проектирование организации гражданской жизни и соответствующих «технологических рутин». В свою очередь, в рамках институционально-управленческого проектирования осуществляется проектирование организационных структур управления на уровнях “первичных коллективов», этнических групп и системы в целом. Также институционально-управленческое проектирование в себя включает проектирование и выстраивание отношений с соседями, организационноправовое, организационно-политическое и идеологическое проектирование.
Планирование и проектирование предполагают параллельное развитие и решение на всех выделяемых уровнях этнических системы управленческих задач учета и контроля. Сегодня хорошо известны бухгалтерский, финансовый, управленческий учет. Между тем, с первых шагов человечества все более широкое распространение на всех уровнях этнической системы получал учет материальных ценностей (запасов продовольствия, сырья, товаров, земли, зданий, сооружений, лесных угодий, орудий труда, другого имущества), воинский учет (воинов различных категорий, оружия, боеприпасов, иного военного имущества), учет населения, работников, крестьянских дворов, ремесленных производств, промышленных и иных предприятий, дани, налогов, обязательств по платежам, текущих доходов в номинальном и реальном выражении, богатства), потерь от стихийных бедствий, войн, набегов «соседей». Информационная картина, получаемая с помощью учета и контроля, становилась всеобщим достоянием и объединяла людей в «первичных коллективах», этнических группах и в целом в этнической системе. Напротив, незнание или плохое знание этой картины способствовало дезинтеграции людей, их целых групп из единого «этнического пространства».
Хорошая организация разнообразных систем учета позволяла постоянно сопоставлять в рамках «первичного коллектива», этнических групп, этнической системы фактическое текущее во времени состояние с желаемым запланированным, выявлять причины имеющих место отклонений и осуществлять действия по исправлению ситуации (как за счет создания более эффективных адаптивных механизмов, так и за счет периодически осуществляемой корректировки плана). К различным видам такого управленческого контроля мы могли бы отнести:1) выполнение запланированных работ и проектов (особенно, масштабных) в заданные сроки; 2) текущий контроль администраторов, менеджеров различного уровня; 3) контроль соответствующих «территорий» этнической системы; 4) календарный контроль поступления в требуемых объемах налогов, рентных доходов; 5) контроль товарных и финансовых потоков в этнической системе по методикам составления материальных межотраслевых балансов; 6) стратегический контроль изменения «критических» и стратегически значимых для этнической системы параметров.
Хотелось бы подчеркнуть, что плохо организованные, неэффективные учет и контроль, напротив, способствуют дезинтеграции и «расползанию» этнической системы.
Завершает перечень задач «управленческой основы» интеграции на уровнях «первичных коллективов», этнических групп, этнической системы задачи оперативного управления или осуществления действий. Ничто так не сближает людей, как осуществляемые совместные действия, в рамках общих или согласованных целей. В результате такой реализации, наряду с общими, вырабатываются и получают развитие институты, отличающие один «первичный коллектив» от другого, одну этническую группу от другой этнической группы, одну этническую систему от другой.
Вместе с тем, рассмотрение системо-, структурообразующих факторов «естественного порядка» формирования и эволюции этнических систем было бы неполным без зон территориальной концентрации деятельности человека
(экономической, организационно-институциональной, социокультурной) и его расселения. Именно в зонах с растущим уровнем пространственной концентрации экономических активностей чаще всего происходит «всплеск инноваций», развитие высокоэффективных комбинаций традиционных и новых видов экономической деятельности. При этом на структуру региональных этнических систем, активно влияют сложившиеся и эволюционирующие в них демографический профиль расселения (городского, сельского, типы городского расселения, соотношение динамики естественного и механического приростов), сырьевой профиль, энергетический каркас промышленно-городского развития, промышленный, инфраструктурный каркасы (включая транспортный и логистический), определяющие развитие территории и представляющие собой накопленные промышленные капитальные ресурсы территориальной зоны, институты инновационной инфраструктуры и их «плотность», инновационный инфраструктурный профиль территории.
На основе всего вышеизложенного, с учетом всех факторов «естественного порядка» затем решается одна из самых сложнейших проблем определения территориальных экономических и институциональнополитических границ этнической системы.