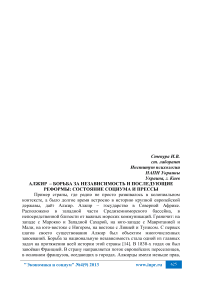Алжир - борьба за независимость и последующие реформы: состояние социума и прессы
Автор: Степура И.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140106208
IDR: 140106208
Текст статьи Алжир - борьба за независимость и последующие реформы: состояние социума и прессы
Пример страны, где радио не просто развивалось в колониальном контексте, а было долгое время встроено в историю крупной европейской державы, даёт Алжир. Алжир – государство в Северной Африке. Расположено в западной части Средиземноморского бассейна, в непосредственной близости от важных морских коммуникаций. Граничит: на западе с Марокко и Западной Сахарой, на юго-западе с Мавританией и Мали, на юго-востоке с Нигером, на востоке с Ливией и Тунисом. С первых шагов своего существования Алжир был объектом многочисленных завоеваний. Борьба за национальную независимость стала одной из главных задач на протяжении всей истории этой страны [14]. В 1830-х годах он был завоёван Францией. В страну направляется поток европейских переселенцев, в основном французов, оседающих в городах. Алжирцы имели меньше прав, чем европейские колонисты. В 1883 г. вышла первая алжирская газета на французском языке. В 1913–1914 гг. художник Омар Расим издавал еженедельник «Зу-ль-Факар», его газета была социалистической и реформисткой, также умеренно исламской.
В конце 1918 г. внук национального героя Алжира эмира Абд-аль-Кадира (борец за свободу XIX века) – эмир Халид, возглавляет антиколониальную борьбу, и на волне тектонических изменений после окончания Первой мировой войны, попытался консолидировать местную интеллигенцию и нарождающуюся национальную буржуазию. Движение Халида называлось «Алжирское братство». Впоследствии Халид окажется в изгнании, в Египте, после в Сирии, где и умрёт. Пока же он как депутат местных муниципалитетов, и главный редактор газеты «Икрам», выступает против колониализма и за гражданские свободы коренного населения. В 1924 г. Халид пишет письмо премьер-министру Франции о введении среди коренного населения всеобщего обучения, равноправия с французами в прохождении военной службы, применения французского рабочего и социального законодательства, а также свободы печати [9, c.213].
Преемником движения Халида становится осторожно-консервативное движение Федерация туземных избранников (ФТИ). Руководят Б. Бентами и М. Бен Джалул. ФТИ стояла на позицях асимиляционизма, но при равных правах французов и алжирцев.
Под эгидой французской компартии – ФКП в марте 1926 г. алжирскими эмигрантами в Париже была создана рабочая ассоциация «Североафриканская Звезда» (САЗ), объявившая своей целью «защиту материальных, духовных и социальных интересов североафриканских мусульман» [17]. Её почётным председателем стал эмир Халид, но практически возглавил её член ЦК ФКП алжирский инженер Абд аль-Кадир Хадж Али [6, c.58].
В феврале 1927 г. генеральный секретарь САЗ Ахмед Мессали Хадж, выступая на учредительном Конгрессе Антиимпериалистической (Мировой) Лиги, изложил знаменитые «алжирские требования», сводившиеся к следующему: независимость Алжира; вывод французских войск и создание своей армии; конфискация крупных земельных наделов и передача её крестьянам, вернуть природные богатства Алжиру, амнистия, свобода прессы и собраний, создание арабского образования, уравнивание прав французов и алжирцев и пр. [18].
Часть местного предпринимательства и мусульманской интеллигенции встали на позиции патриотизма, отвергая соглашательскую позицию ассимиляционистов. Так поступила основанная в 1931 г. Ассоциация алжирских мусульманских ученых-богословов – улемов, борющихся за национальную арабскую школу.
В определенной степени эта программа была обусловлена характером и особенностям личности Ахмеда Мессали Хаджа, председателя САЗ:
«Способный, но малообразованный, волевой, импульсивный и упрямый, незаурядный оратор, склонный к импровизации, одарённый организатор и конспиратор, этот сын сапожника из Тлемсена, выходец из семьи турецкого происхождения, был фанатиком алжирского национализма. Хотя он и был до 1930 г. членом Французской компартии, среди его идейных наставников преобладали троцкисты (например, один из лидеров САЗ Джилани), а также Жак Дорио, проделавший путь от члена ЦК ФКП, ведавшего колониальными вопросами, до основателя профашистской ППФ (Партии французского народа). Явно от Дорио Мессали позаимствовал склонность к насилию, демагогии, авантюризму и экстремизму в подходе к решению любой проблемы» [6, c.66].
САЗ создаёт свою прессу, главная газета «Аль-Умма» (Нация) вырос с 12 тыс. в 1932 г. до 44 тыс. в 1934 г. В 1931 г. САЗ отделяется от компартии, а в 1934 г. Союз запрещают. Мессали Хаджа арестовывают, но в июне 1935 г. освобождается по амнистии, едет в Швейцарию, где сошёлся в Женеве с Шакибом Арсланом, проповедовавшим идеи панарабизма.
У ФТИ также была своя пресса: в 1930-е годы издавалось около 60 алжирских газет и журналов на французском и арабском языках. Большинство их выходило 2–4 года, а тираж не превышал 1–3 тыс. экземпляров.
В июне 1936 г. алжирские коммунисты вместе с национальными организациями образовали Мусульманский Конгресс, стоявший на платформе Народного фронта Франции. Победа Народного фронта на выборах привела к предоставлению алжирцам демократических свобод, в частности – права организовываться в собственные политические партии и объединения [6, c.69].
Когда в 1936 г. Хадж возвратился в Алжир, его взгляды меняются. Он резко расходится с ФКП и начинает дрейф в сторону правых движений – к сторонникам Дорио [6, c.71].
В 1937 г. была создана Партия алжирского народа (ППА), выступавшая как идейная правопреемница САЗ под руководством Ахмеда Мессали. Вскоре её лидеры вновь будут арестованы [9, c.216].
Колониальная и французская пресса и радио представляли ППА как ответвление Французской компартии (ФКП), её детище. Пока Мессали был в Швейцарии, САЗ и коммунисты вновь возвращаются к совместным акциям протеста. Но национальный вопрос идейно разводил ФКП и САЗ, так как первые настаивали на примате классовой борьбы. Тем не менее, коммунисты и революционные националисты испытывали взаимное тяготение – нередки были демонстрации с пением «Интернационала» и под зеленым исламским знаменем [6, c.68].
О социальной базе САЗ историк и писатель Анри Аллег писал так «Эти сельские пролетарии, покинувшие родину жители колонии, учились политическому ремеслу во Франции и в послевоенном мире, потрясённом русской Октябрьской революцией... Под воздействием их опыта они одновременно открывали для себя и национальное, и классовое сознание. Весьма логично, что среди них гораздо быстрее и сильнее, чем в самом Алжире, проявилось и утвердилось требование независимости» [15].
Неудача Народного фронта во Франции и Мусульманского конгресса в Алжире оказала негативное влияние на дальнейшее развитие антиколониального движения в стране и особенно на психологию алжирской патриотически настроенной молодежи. Как пишет Омар Карлье, молодые люди «становились маккиавелистами, убедившись, что демократия – это жульническая игра, в которой их противник заранее получает инициативу и выбор оружия». Поэтому в их сознании «демократическая модель потерпела фиаско, убитая ... арестами, предательством, разочарованием». Карлье считает, что вследствие всего этого молодежь решила, что «демократия – это блеф, ложь, иллюзия, разделяемая и поддерживаемая теми, кто учился за рубежом и чья политическая культура чужда алжирской реальности. С 1938 г. лозунгом стал возврат к секретности, к малой группе, к тайному сборищу». (цит. по [6, c.72–73] ), [19]
Во время начала Второй мировой войны, радиостанции в Бари (Италия) и Тетуане (испанская зона Марокко) повели пронацистскую пропаганду на Алжир, рассчитанную прежде всего на испанцев Орании и итальянцев, живших на северо-востоке страны. Работала и служба на арабском языке, направленная на коренных алжирцев. Итальянское международное радио изображало противников государств Антикоминтерновского пакта «безбожниками» и «врагами аллаха» [6, c.69– 72], разыгрывая мусульманскую карту. Муссолини, Франко и даже Гитлер (несмотря на антиарабские выпады в его книге «Моя борьба») объявили себя «покровителями ислама». Эти идеи настойчиво проводились в передачах радиостанций стран «оси».
Однако, пропаганда на коренное население, первое время, особого успеха не имела, так в декабре 1938 г. газета «Аль-Умма» ППА и само руководство ППА в ответ на претензии фашистов призвало «не отдавать ни пяди земли Северной Африки».
Больших успехов в пропаганде немцы и итальянцы добились в среде алжирцев европейского происхождения. ППФ Дорио, поддерживавшая связи с Франко и Муссолини, вела в Алжире яростную антисоветскую и антикоммунистическую кампанию. Активисты ППФ организовывали убийства, избиения, провокации, пользуясь круговой порукой среди сочувствующих колониальных чиновников. Крайне правые их ФТИ позволили впоследствии завербовать в ряды крайне правых и несколько тысяч мусульман [4, c.267].
На съезде ППФ в Алжире в 1938 г. Дорио выступил за создание антибольшевистского «Фронта средиземноморских стран» в составе Франции, Северной Африки, фашистской Италии и франкистской Испании
[6, c.75]. Дорио считал, что интересы Германии простираются на восток, поэтому сотрудничество в Средиземноморским регионом должно всем пойти на пользу.
После капитуляции Франции перед гитлеровской Германией и установления режима Виши, 19 июня 1940 г. решивший продолжать борьбу генерал Шарль де Голль обратился из Лондона по радио «к французам Северной Африки, оставшейся нетронутой оккупацией» [20, p. 62, 67]. Но французский командующий в Алжире Ногес колебался, тщетно пытаясь убедить капитулировавшее центральное руководство в материковой Франции продолжать «борьбу за спасение чести и сохранение Северной Африки за Францией», ибо «нельзя править при всеобщем презрении» [20, p.40–41]. Но не получив из Виши внятных ответов, и Ногес, и буржуазная верхушка смирились с капитуляцией Франции.
В Алжире сторонников Виши также хватает. Местные капиталисты готовятся к интенсивной торговле с Германией и Италией, получая выгодные подряды. По свидетельству Ф. Аббаса, «французы Алжира на 80% примкнули к режиму Виши и стали лучшими пропагандистами нового порядка» [13, p.138]. Алжир становится источником сырья и продовольствия для Германии и Италии. Помогали они провиантом и «Африканскому корпусу» Эрвина Роммеля. Пропаганда, по радио нацеленная на итало-франко-испанское население, очевидно, достигла цели. Аббас написал письмо Петтэну с предложениям дать равные права французам и алжирцам, но тот его не понял. У Аббаса были провишисткие иллюзии, но холодный приём новых властей полностью их развеял. Он переходит на сторону де Голля и даже становится комментатором ВВC. В 1941–1942 гг. его можно слушать по радио в рамках спецпередач подготовленных движением «Свободная Франция». Впрочем, де Голь стоял на тех же позициях по алжирскому вопросу, что и Петтэн.
Петтэновская администрация запретила ППА и коммунистов, ссылаясь на военное время – Мессали и ещё 30 активистов ППА были арестованы 4 ноября 1939г. и преданы суду военного трибунала, заключив их в лагерь Дженьен-Бу-Резг (март 1941). С приходом к власти режима Виши активизировались и местная профашистская ППФ и другие близкие организации вроде «Национально-народного объединения» Марселя Деа.
Отметим также, что Германия активно заигрывала с представителями ППА, обещая им всяческую поддержку в деле отделения от Франции. Более опытные борцы находились в заключении, тогда как их место заняли новые, менее искушенные политически. Во времена оккупации 1940–42 гг. боевых акций было очень мало. На то есть две версии: организация была разгромлена фашистами и обезглавлена или же немцам удалось-таки убедить активистов ППА в своих «добрых» чувствах к алжирцам и сыграть на антифранцузской ноте (т.е. ППА испытывала колебания под влиянием немецких посулов). [6, c. 76–77, 82–83].
В целях пропаганды немцы отпустили на родину 10 000 пленных магрибинцев – солдат французской армии, вели непрерывное радиовещание на Алжир, субсидировали в Париже бывшего офицера французской армии алжирца Ахмеда аль-Маади, начавшего издавать газету «Ар-Рашид», провозгласившую идею отделения Алжира от Франции. Некоторые члены ППА во Франции сотрудничали в этой газете. Среди части далеких от европейской политики простых алжирцев наблюдалось «восхищение блестящей победой германской армии» [6, c.82–83]. Активисты же ФТИ вообще нередко стояли на позициях соглашательства с вишистами.
Заметим, что ППА никак не была связана с антинацистским «Движением сопротивления». Эти и другие факты позволили Франции обвинить ППА в коллаборационизме с гитлеровцами.
В ноябре 1942 г. в Алжире был высажен англо-американский десант. В наступлении на Тунис на стороне союзников принимают участие и французские войска, в значительной степени укомплектованные алжирцами, марокканцами и жителями других французских колоний в Африке. Алжир сдался практически без боя.
-
7 ноября 1942 г. американский консул Роберт Мерфи радировал из Лондона : “Allo Robert, Franklin arrivé” это был тайный сигнал о начале операции.
После освобождения Алжира от нацистов местные умеренные представители ФТИ и буржуазии (Ф.Аббас, А.Буменджель, М.Кессус) и части национальной интеллигенции снова выступили с лозунгами национального освобождения и расширения прав местного населения. Надо отметить, что чиновники, бизнесмены, интеллигенция пользовались широкими гражданскими правами, а вот широкие массы алжирцев – нет. Французы ответили твёрдым «нет» требованиям Аббаса, и те вернулись на позиции соглашательства и ассимиляционизма, свойственные легальному движению и ранее в межвоенный период [9, c.213].
Однако, молодые активисты составлявшие костяк ППА в этот период, наоборот, радикализовались и решили переходить к революционным методам борьбы. Но лидер партии – Мессали был в заключении, на тот момент был выведен из алжирской политической жизни. Между сторонниками Аббаса исповедовавшими легальный путь соглашательства с Францией и сторонниками ППА, получавшими всё большую поддержку в Алжире намечалось взаимопонимание. Тем не менее, спецслужбы Франции раскрыли замыслы ППА и ФТИ о совместном курсе на независимость и использовали эти сведения как против Аббаса, так и против ППА. [9, c.219]
Вышедшая из подполья Алжирская компартия АКП, отделение французской компартии, стала издавать с июня 1943 г. газету «Либертэ», тираж которой за полтора года вырос с 60 тыс. до 121 тыс. экземпляров [6, c.91]
Газета ППА «Л'Аксьон алжерьен» писала в сентябре 1944 г.: «Арабский Алжир во французской федерации – нет! В арабской федерации – да!» [6, c.95].
-
4 июня 1943 г. де Голль с алжирских радиостанций обращался от имени своего правительства к населению материковой Франции.
-
1 мая 1945 г. в Алжире начинаются манифестации о предоставлении независимости, но их разгоняет полиция с применением оружия. Одновременно из колонистов формируют вооруженные отряды самообороны – «гражданскую гвардию». В результате начавшегося стихийного восстания алжирцев начинаются погромы и другие беспорядки. Выступления подавляются жестоко – в ходе столкновений и в результате расстрелов погибает по официальным данным 40 тыс. человек [9, c.220], [2].
Во время войны вовлеченность Алжира в международные конфликты и противоречия, участие его в событиях, далеко вышедших за привычные рамки Магриба, Средиземноморья и даже Франции (алжирцы участвовали в боевых действиях в Тропической Африке, Ливии, Тунисе, Италии, Франции, Германии, Австрии), в огромной мере способствовала расширению политического кругозора, обогащению социального опыта, росту чувства национального самосознания и национального достоинства алжирцев. Это дало существенные политические результаты. Война уже «застала Алжир в состоянии полного кризиса: колонисты все более ориентировались на фашизм, алжирцы – на радикальный национализм» [6, c.76].
Война становится катализатором борьбы за независимость. Если в 1945 г. начались демонстрации и пикеты, то с 1947 г. – уже партизанская война. Главную роль в ней играла группа молодых алжирцев, создавших в 1954 г. Революционный комитет единства и действий (РКЕД). В его составе 9 активных членов подпольной полувоенной «Организации безопасности». РКЕД создал сеть боевых групп, имевших свои базы в шести зонах (вилайях), на которые была разделена территория страны. В октябре 1956 г. деятельность РКЕД активизируется и его переименовывают во Фронт национального спасения ФНО. К ФНО примыкает компартия, но без поглощения её структур Фронтом. Партизанские отряды и мелкие боевые группы, объединенные в РКЕД, переименовали в Армию национального освобождения Алжира (АНО). В начале выступлений (1954) численность партизан была в пределах 600–3000 партизан, а к 1958 г. 120 тыс. человек. Бойцы АНО назвали себя муджахидами [8] [12] [2].
Французам не удалось достичь желаемого успеха. Группы АНО не вели больших сражений и обычно действовали отрядами в 6–7 человек, иногда группами в 100– 150 бойцов. Не создавались стабильные освобожденные районы, чтобы на них не был обрушен концентрированный удар противника. Численность АНО росла из-за формирований непостоянного состава – крестьян, которые принимали участие или помогали основным войскам лишь в случае ведения боевых действий в их районе (их называли
«мусебили» – попутчики). В 1955 г. численность муджахидов достигла 15 тыс. человек, однако основная масса французов и симпатизирующих им гибнет от террора, а не от прямых боестолкновений [2].
ФНО и его подпольщики «фидаи» проводили массовые теракты. 30 апреля 1956 г. была взорвана бомба в молочном баре, расположенном в европейском квартале столицы Алжира. Через несколько месяцев последовали новые террористические акции. 26 января 1957 г. сработали взрывные устройства в кафетерии и ресторане «Копарди». Три человека были убиты и несколько десятков ранены[5] .
Вспоминает Ж. Руа: «В городах страдают не от войны, а от террора и от репрессий, которые они вызывают. ФНО убивает без разбора всех мусульман, предавших народное дело и вступивших в сговор с Францией, бросает гранаты в кафе, подкладывает бомбы в общественных местах и обстреливает из пулемета машины на дорогах. Чтобы вскрыть нити террористических заговоров, ДОП (французская спецслужба –прим.наше) хватает людей и подвергает их пыткам. ФНО поступает так же со своими соотечественниками, если они не платят ему налогов или отказываются выполнять его указания» [11].
Французские колонисты организовывают ответный террор против лиц, поддерживающих ФНО буквально по всей Европе. Капитан Моррис перевозивший грузы для ФНО морем был взорван в собственной машине во Франкфурте-на-Майне. 5 ноября 1958 г. в Бонне, недалеко от тунисского посольства, был расстрелян в своей машине адвокат Амедиан Аит Ахсене – представитель Алжира в Бонне [7].
23 марта и 13 апреля 1955 года были убиты два мусульманских сторожа, 16 апреля зарезан отец 7 детей, 24 мая убит французский гражданин, 10 июня – два старика, 17 июня – французский полковник и его сын, 2 июля – две пожилые женщины, в августе, в Константине – 71 европеец и 21 мусульманин. 20 августа группа «алжирских патриотов», ворвавшись к французской семье, «убивает топором парализованного старика, разрывает на клочки 11-летнюю девочку и пятидневного ребенка…» [5].
2 января 1956 к власти во Франции приходит социалистическое правительство Ги де Моле, который выступал за определённые послабления алжирцам. Приехав в Алжир, он под давлением колонистов выступая на местном радио объявил, что «Франция будет сражаться за то, чтобы остаться в Алжире и она здесь останется». После этого он назначил министром-резидентом в Алжире проколониалистски настроенного социалиста Робера Лакоста.
С конца 1957 г. АНО уже располагала собственной артиллерией, противотанковыми средствами (базуками и минами), радиослужбой, позволяющей поддерживать связь между вилайями, а также с зарубежными базами.
Психологическая война, широко развёрнутая Францией с применением традиционных и электронных СМИ – радио, ТВ, традиционной прессы, большого эффекта не дала. Кратковременный эффект давали распространяемые листовки, фальшивые номера газет и журналов ФНО (кампании проходили в 1957–1958 гг.). ФНО пользовался также 23 радиостанциями арабских стран, особенно Туниса и Марокко, практически доводя до всех алжирцев свои лозунги, директивы и установки [6, c. 120, 123, 135],[10]
К 1959 г. французам удаётся подавить основные силы ФНО и АНО, вытеснив их за границы страны.
19 сентября 1958 г. было создано Временное правительство Алжирской республики (ВПАР) во главе с Ф. Аббасом. Де Голль признает за Алжиром право на самоопределение. Обманутые в своих ожиданиях сторонники колониального Алжира в январе 1960 г. подняли мятеж («неделю баррикад»), но потерпели поражение.
За время войны в частях АНО находилось 337 советских военных советников и специалистов. Они способствовали организационно-кадровому укреплению алжирской армии, планированию операций против французских войск [3].
В марте 1961 г. правительство Франции объявило о начале переговоров с ВПАР. Попытки созданной в 1961 ушедшей в подполье военно-фашистской организации ОАС (фр. Organisation armee secrete) сорвать выполнение соглашений путём массового террора в городах успеха не имели.
ОАС пыталась помешать правительству де Голля изыскивать пути к мирному исходу затянувшегося франко-алжирского конфликта. ОАС развернула в марте-апреле 1961 г. террор в Алжире и во Франции. Её возглавили лидеры апрельского путча генералы Салан и Жуо.
Переговорный процесс между Францией и Алжиром завершился подписанием 18 марта 1962 соглашений: о прекращении огня и самоопределении Алжира путём референдума (Эвианские соглашения).
На ход переговоров в Эвиане несомненно повлияла резкая активизация деятельности ОАС в конце 1961 г. – начале 1962 г. Во Франции оасовцы в основном подбрасывали взрывчатку и пластиковые бомбы в дома и автомобили видных политических деятелей, журналистов, профсоюзных активистов и просто известных сторонников прекращения алжирской войны. Но в Алжире ОАС организовала подлинно массовый террор. Систематически совершались убийства присланных из Франции офицеров, чиновников, судей и комиссаров полиции, что должно было продемонстрировать бессилие власти де Голля в колонии. Развернутая же оасовцами «охота на арабов» преследовала целью запугать коренное население и заставить его покинуть населённую европейцами прибрежную зону.
Во время референдума 1 июля 1962 г. подавляющее большинство алжирцев высказалось за независимость, которая была немедленно признана правительством Франции. Свыше миллиона европейцев и их сторонники из числа местных жителей в спешном порядке покинули страну. По итогам кровопролитной войны против французских колониальных войск в 1962 году Алжир становится независимым государством.
Первое правительство независимого Алжира возглавляет лидер ФНО Ахмед Бен Белла. В 1965 г. состоялся военный переворот, к власти приходит Хуари Бумедьен, министр обороны и бывший соратник Бен Беллы, провозгласивший курс на строительство социализма. В стране устанавливается однопартийная система. Связи с СССР и другим государствами соцлагеря расширились. Следующие 25 лет становятся для Алжира периодом относительной стабильности. В 1975–1976 гг. обсуждается и принимается Национальная Хартия – программный документ о путях дальнейшего развития страны. Кроме обсуждения в среде ФНО, общественных организаций, к диалогу подключались журналисты, пресса, ТВ и радио. После смерти Бумедьена развернулась борьба между фракциями в правящей партии, и в итоге страну и партию возглавил компромиссный кандидат–– Шадли Бенджедид. Бенджедид отличался грамотной работой со СМИ. Пришедший к власти в 50 лет, он на телеэкране сочетал в себе рассудительность и подтянутость. Будучи человеком набожным он дважды совершал хадж в Мекку.
«Телекамеры сопровождали его всюду – на различные церемонии и приемы, на заводы и фермы, на совещания генштаба ННА, заседания правительства и Политбюро ФНО, сессии парламента и руководства массовых организаций, на стройки, торжественные закладки первого камня, открытие памятников, выставок, фестивалей, съездов, при посещении рынков, мастерских, станций обслуживания и т. п. Ни один из его предшественников не появлялся так часто на телеэкране, не заботился так регулярно о рекламе собственного имиджа, как можно более привлекательного в глазах народа» [6, c.193] .
В репортажах телевидения активно освещалась и международная деятельность алжирского лидера. Прежде всего, примирение Ирана и Ирака, защита интересов палестинцев, сближение с Марокко, Тунисом и Ливией и т.д.
В 1982 г. футбольная команда выигрывает турнир у сборной ФРГ, этот успех также грамотно подаёт ТВ и радио [6, c.191–192].
Бенджедид выпускает из тюрьмы первого президента Ахмед Бен Белла, который уезжает в Европу, и откуда руководит оппозицией, в том числе и вооружёнными группами своих сторонников. В стране также нарастает движение исламистов. Через несколько лет правления Бенджедида обнаруживается, что телеобраз счастливой страны – фальшивый, очарование которое в первые годы оказывал на население президент прошло [6, c.192,194].
Страну охватывает экономический кризис. Вследствие этого в 1986 и 1988 годах имели место массовые беспорядки. После этого произошёл идеологический поворот в религиозной области, алжирское руководство в поисках источников экономической помощи взяло курс на сотрудничество с консервативными мусульманскими странами преимущественно Персидского залива.
-
10 октября 1988 г. в вечернем выступлении по ТВ Бенджадид предложил изменения в конституции страны, призвал к экономическим реформам и многопартийности. Отметил, что страна на пороге гражданской войны, осудил беспорядки [6, c.206]. Усиливается фундаменталистское крыло в элите и руководстве страны. 10 марта 1989 г. в мечети Ибн Бадис в Кубе (район г.Алжир) был создан Исламский фронт спасения (ИФС). Он требовал объединить всех мусульман и «полного осуществления глобальной исламской альтернативы всем импортированным политическим, экономическим и социальным идеологиям». Среди учредителей ИФС вместе с религиозными деятелем профессором университета Аббаси Мадани, проповедником Али Бенхаджем, имамом столичной мечети Беназзуз Зебда, был и радиожурналист Осман Амокран [6, c.207].
В условиях нарастающего экономического и политического кризиса исламисты заявили претензии на власть с целью построения теократического государства полностью на основе шариата. На 1991 г. были назначены первые многопартийные выборы, но когда стало ясно, что верх берут исламисты, военные взяли власть в свои руки. Шадли Бенджедид ушёл в отставку. Власть перешла к Высшему государственному совету (ВГС) во главе с 72-летним Мухаммедом Будиафом, одним из основателей ФНО. На это исламисты отреагировали уходом в подполье и террором. Тактика экстремистов строилась как на ударах по военно-полицейским силам и представителям элиты, так и на запугивании населения. Каждую среду и субботу в эфире можно было слышать подпольную исламскую радиостанцию «Аль-Вафа» («Верность»).
-
10 февраля 1992 г. Будиаф в выступлении по телевидению обвинил Шадли Бенджедида, в разрешении им деятельности ИФС, несмотря на запрещение конституцией 1989 г. образования партий на религиозной основе. Это было важным аргументом, оправдывавшим отстранение президента [6, c.219].
Будиаф следовал правилам демократии, не препятствуя деятельности примерно 60 политических партий, уважая свободу печати и слова.
С.Э.Бабкиным и Е.И.Миронова заметили: «Многопартийный режим и деятельность многочисленных средств массовой информации создали в Алжире Будиафа такой демократический фон, которого нет и не было во многих арабских странах» [1].
Когда 29 июня 1992 г. Будиаф выступал на открытии культурного центра города Аннаба в него выстрелил офицер его же службы охраны. Будиаф мешал буквально всем – и оппозиции, и армии, и коррумпированным чиновникам. После него к власти приходит Али Кяфи [6, c.233–225].
В период его правления наблюдались теракты и бои между сторонниками исламизации и светской организацией общества. Исламисты убивали представителей интеллигенции сочувствовавших французской культуре и «коллаборантов военного режима». Особенно много погибло журналистов – с января 1992 г. по июнь 1997 г. ими были убиты 78 журналистов, включая главных редакторов ведущих газет «Эль-Муджахид» и «Матэн» – Мухаммеда Абдаррахмани и Сайда Мекбеля. Был убит тележурналист Рабах Зенати даже бывший директор телевидения Мустафа Абада. Из страны массово началась эмиграция в Европу, в частности во Францию [6, c.231].
Активная фаза гражданской войны продлилась почти десятилетие, отголоски были «слышны» буквально до сегодняшнего времени. Погибло 100 тыс. человек. В 1995 г. на выборах побеждает Лиамин Зеруаль, кадровый военный, министр обороны, противник исламского экстремизма Военное положение отменят только в 2010 г. во время «Арабской весны».
Причины столь незатихающего насилия, как писал Омар Карлье, в «мифологии смерти, изгнания и крови», укоренившейся в сознании патриотов Алжира после кровавой драмы в мае 1945 г., в которой, по последним данным, погибло уже не 40 тыс., а 65–85 тыс. чел. «Эта мифология, питаемая вековым сопротивлением колониальному режиму, наложилась на противостояние тому, что называлось «партией Франции» и что включало в себя не только колониализм с его репрессиями, эксплуатацией и угнетением, но и всех алжирцев, причастных к французской культуре и политической жизни, хотя таковыми были также и многие националисты. Воспитанный в подполье «идеал действия» и «культ силы» в 1954–1962 гг. превратили политическое насилие в «революционную законность», что облегчило внедрение культуры священной войны (джихада) и в политическую практику независимого Алжира, особенно армии и религиозных вождей. Поэтому на всех крутых поворотах – при провозглашении независимости 1962 г., перевороте 1965 г., даже при мирной «тройственной революции» (аграрной, промышленной, культурной) 1972 г., арабизации 1980–1982 гг., «политической весне» 1988–1989 гг. – активным участникам событий всегда «грезились разрыв, очищение, искоренение» и прочие радикальные действия. И каждый раз возникали вопросы: «Что делать с офранцуженными..., с кабилами..., с неверующими?» [16].
Выводы. Алжир долгое время был включён в европейские и околоевропейские исторические контексты. Модель вещания была подобной европейской, после этапа независимости шёл поступательный рост опыта вещания и PR–технологий. История Алжира имела этапы либерализма в области регулирования СМИ. Развитию демократических процессов, и прессы в особенности, вредят рецидивы радикализма, последние десятилетия принимающие характер проявлений радикального ислама. Эти проблемы остро стоят и в других странах Северной Африки. Пример Алжира учит непродуктивности пути провоцирования разделяющего гражданского конфликта, внутренней неустойчивости модели «радикального действия», могущей привести к войне и сворачиванию гражданских свобод.