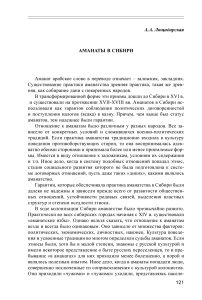Аманаты в Сибири
Автор: Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521266
IDR: 14521266
Текст статьи Аманаты в Сибири
Аманат арабское слово в переводе означает – заложник, закладник. Существование практики аманатства древняя практика, такая же древняя, как собирание дани с покоренных народов.
В трансформированной форме эти приемы дошли до Сибири в XVI в. и существовали на протяжении XVII-XVIII вв. Аманатов в Сибири использовали как гарантов соблюдения политических договоренностей и поступления налогов (ясака) в казну. Причем, чем выше был статус аманатов, тем надежнее были гарантии.
Отношение к аманатам было различным у разных народов. Все зависело от конкретных условий и сложившихся военно-политических традиций. Если практика аманатства традиционно входила в культуру поведения противоборствующих сторон, то она воспринималась адекватно обеими сторонами и принимала более или менее приемлемые формы. Имеется в виду отношение к заложникам, условиям их содержания и т.п. Иное дело, когда в систему подобных отношений попадал этнос, стадия социального развития которого не была подготовлена к системе договорных отношений, пусть даже таких «диких», какими являлось аманатство.
Гарантии, которые обеспечивала практика аманатства в Сибири были далеко не надежны и зависели прежде всего от развито сти общественных отношений, устойчивости родовых связей, выделения властных структур и степени оседлости этноса.
В ходе колонизации Сибири аманатство было чрезвычайно развито. Практически во всех сибирских городах начиная с XIV в. существовали «аманатские избы». Однако нельзя сказать, что отношение к аманатам везде и всегда было одинаковым. Оно зависело от множества факторов: политических, экономических, личностных, наконец. Культура поведения и усвоенные традиции во многом определяли судьбы аманатов. Если этносы были, хотя бы в малой степени, знакомы с русской культурой и имели некоторое представление о быте русских переселенцев, то и пребывание «в аманатах» для них проходило менее болезненно, а порой и являлось полезным опытом. Иное дело, когда в аманаты попадали люди, совершенно исключенные из соприкосновения с культурой колонистов. Они приходили «чужими» и «чужими» уходили, представляясь населе- нию русских острогов «непонятыми язычниками». Поэтому, исследуя проблему аманатства в Сибири, необходимо рассматривать каждый эпизод к отдельности применительно к контексту местных условий.
Не стоит забывать при этом, что Сибирь долгое время являлась территорией ссылки на самых разных уровнях. Сюда, в качестве воевод, отправляли неугодных в метрополии политиков. Наряду с политической ссылкой действовала и уголовная. В связи с освоением западных сибирских территорий, с ростом крупных городов, таких как Тобольск, Тюмень или Томск ссылка стала приобретать иной характер, уже из Западной Сибири ссылали в отдаленные восточные регионы. По сути, большинство населения городов и острогов, включая и администрацию восточных сибирских провинций, состояло из ссыльных, в том числе и по уголовным мотивам. Поэтому, говорить об адекватно действующих властях в отдаленных, отрогах, крайне проблематично. Сложившееся положение накладывало специфический отпечаток в установление русско-аборигенных отношений, особенно если дело касалось этносов, стоящих на ранних стадиях общественного развития. С этой точки зрения, думается, следует подходить к такому явлению как практика «сибирского аманатства».
Содержание аманатов зависело от их статуса. Имеющиеся аманатские избы, мало отличались от тюремных помещений. Наиболее знатных и значимых аманатов держали «за приставом», т.е. во дворе служилого человека, который был обязан обеспечить аманату особый режим и был ответственен за его содержание. В этом случае положение аманата мало отличалось от пребывания «за приставом» ссыльных из метрополии, имевших определенный статус. Но это, конечно же, касалось далеко не всех. Содержание рядовых аманатов в небольших, отдаленных острожках иногда приводило к плачевным результатам и смерти заложников. Сохранилась любопытная отписка, относящаяся к 1640-м гг., из которой следует, что «из Енисейского острога с аманатского двора» бежали в Красноярск ясачные люди [РГА-ДА. СП. Стлб.136. с.133]. Возможно побег был связан именно с условиями содержания, в противном случае не совсем понятно, зачем менять один аманатский двор на другой?
При кочевом образе жизни большинства коренных народов Сибири, договор шерть (как принято было называть договорные отношения с аборигенами) не обеспечивал прекращения вооруженных столкновений и своевременную уплату ясака. Та или иная этническая группа кочевников «дав шерть» могла поменять свое географическое место положение. Что бы добиться хоть каких-то устойчивых гарантий, русской администрации приходилось прибегать к практике взятия в заложники представителей «лучших людей» из числа этнического объединения. Русская администрация была заинтересована в том, чтобы аманат принадлежал к знатной, уважаемой семье и имел влиятельных в своей среде родичей. В 1665 г. воевода А. Сумароков не принял от тубинцев аманата потому, что тот был «худого рода».
Чем более организованным в социальном плане было этническое сообщество, тем проще было установить практику выдачи аманатов. Енисейские кыргызы, например, находили такое положение привычным, поскольку монгольские правители издавна забирали у них в заложники жен и детей.
Как уже упоминалось выше, аманаты содержались в специально отведенном месте. В дальних острогах это могла быть тесная аманатская изба, в значимых же городах содержанию заложников отводилось больше внимания. В 1620-е гг. в Красноярске была куплена изба за 6 рублей «для за-кладников, где аманатов держать».
В дальнейшем условиям содержания заложников в Красноярске уделяли больше внимания. В 1636 г. воеводской администрацией был поставлен «аманатский двор», который включал в себя крытую драницей избу, постройка которой обошлась казне в 20 рублей (приблизительная стоимость добротного двора), а также особое караульное помещение, стоимостью в 4 рубля. Площадь тюрьмы и аманатского двора были огорожены общим тыном. Скорее всего на аманатском дворе располагались и вспомогательные хозяйственные постройки: сараи, клети, погреба и т.п. Пространство, предназначенное для содержания аманатов могло иметь и другие варианты построек. Чем крупнее и значительнее был город, тем более приемлемые условия существования получали заложники.
Так, воевода Федор Мякинин аринских аманатов вместе с их женами отпускал с аманатского двора на день «за острог в юрты», требуя обязательного возвращения к ночи. Наиболее знатным или значимым на данный момент аманатам представлялись особые условия содержания. В 1648 г. братского князца Оилана, оставленного в качестве заложника в Красноярске, поместили на казачьем дворе, определив к нему двух приставов служилых людей и четырех караульщиков. Посадить князца в «аманатский двор» воевода не решился, исходя из того, что « он, князец Оилан, человек дикой и незнающий, что б сидючи в аманатском дворе над собой которого дурна не учинил» [Бахрушин. Т.IV.С. 48-49].
Аманатам полагалось выделять из казны содержание на пищу и прочие бытовые нужды. В первые десятилетия XVII в. Сибирь испытывала потребность в продовольствии, поэтому возникали сложности обеспечения аманатов. В 1635 г. красноярские служилые люди сетовали, что «…те де аманаты кормятся, ходя по них же, служилых людей». Из этого текста следует, что аманаты в Красноярске беспрепятственно пердвигались по городу и просили милостыню и, судя по всему, получали ее. Таким образом, происходило непосредственное общение аборигенного населения с горожанами-колонистами и в этих конкретных обстоятельствах отчасти снималось противопоставление на «своих» и «чужих».
Официально утвержденный рацион красноярских аманатов при воеводе М.Дурново состоял из 3-9 фунтов мяса (в зависимости от статуса и потребностей заложников), хлеба, муки на кашу, ковша вина и ведра браги. [Бахрушин, Т.IV. С.45-59, 159]. В режим питания «закладчиков» повсемес- тно входили, в той или иной степени крепости, спиртные напитки. Конечно, в определенной мере алкоголь снимал стресс и помогал заложникам примириться с тюремными условиями существования. Однако народы у которых организм генетически был не приспособлен к усвоению и расщеплению спирта очень быстро теряли здоровье.
Кроме пищи, аманаты могли получать казенную одежду и предметы бытового обихода. В Красноярске за казенный счет им шили помимо одежды и сетки от комаров. При отправке на родину аманатам выдавались небольшие суммы денег.
Наличие аманатов далеко не всегда гарантировало уплату ясака и прекращение военных действий. Кыргизы говорили послу из Томска: «Да хотя де и закладники будут, а кто захочет воровать и закладники не уймут» [Бахрушин, Т.IV, С.49].
Наличие аманатов во многих случаях не мешало нарушать зыбкие договорные отношения. Что бы склонить разрозненные отдельные группы этносов к выплатам ясака и выдаче аманатов сибирские воеводы прибегали подчас к самым разным приемам: от неоправданной жестокости до откровенного подкупа родоплеменной верхушки. Не существовало общих правил для всей Сибири, каждый регион имел свои особенности. Затянувшиеся подчинение аборигенов крайнего Северо-Востока Сибири, например, происходило жестокими методами при полном непонимании культурных традиций обеими противоборствующими сторонами. Поэтому в этом регионе взятие заложников не приносило предсказуемых результатов [Зуев, 2002. С.99–166]. Практика аманатства существовала вплоть до окончательного включения сибирских этносов в систему русской государственности.