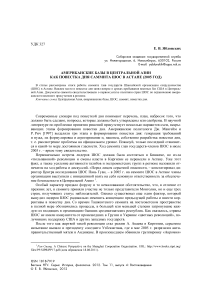Американские базы в Центральной Азии как повестка дня саммита ШОС в Астане (2005 год)
Автор: Яблонских Елена Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены итоги работы саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Важное место в повестке дня занял вопрос о сроках пребывания военных баз США в Центральной Азии. Документы саммита свидетельствовали о первом успехе политики стран ШОС по ограничению американского военного присутствия в регионе.
Центральная азия, американские базы, шос, саммит, повестка дня
Короткий адрес: https://sciup.org/14737791
IDR: 14737791 | УДК: 327
Текст научной статьи Американские базы в Центральной Азии как повестка дня саммита ШОС в Астане (2005 год)
Современные словари под повесткой дня понимают перечень, план, набросок того, что должно быть сделано, вопросы, которые должны быть утверждены или одобрены. В научной литературе по проблемам принятия решений присутствует несколько вариантов схем, вскрывающих этапы формирования повестки дня. Американские политологи Дж. Мангейм и Р. Рич [1997] выделяли три этапа в формировании повестки дня: генерация требований и нужд, их формулировка и агрегирование и, наконец, собственно разработка повестки дня, т. е. рассмотрение проблемы на официальном уровне. Пожалуй, только последний становится в какой-то мере достоянием гласности. Ход саммита глав государств-членов ШОС в июле 2005 г. – яркое тому свидетельство.
Первоначально встреча лидеров ШОС должна была состояться в Бишкеке, но из-за «тюльпановой» революции и смены власти в Киргизии ее перенесли в Астану. Уже этот факт, а также усиление активности талибов и экстремистских групп в регионе наложили отпечаток на ход работы и дискуссий. «Перед лицом серьезной опасности, – констатировал директор Центра исследования ШОС Пань Гуан, – в 2005 г. на саммите ШОС в Астане члены организации выступили с инициативой взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности в Центральной Азии» 1.
Особый характер придало форуму и то немаловажное обстоятельство, что, в отличие от прежних лет, в саммите приняли участие не только представители Монголии, но и еще трех стран, получивших статус наблюдателей. Однако существовал еще один фактор, который вынудил лидеров ШОС радикально изменить концепцию предыдущей работы и внести коррективы в повестку дня. Со времен Ташкентского саммита на постсоветском пространстве в полной мере обозначились процессы, в большей или меньшей степени затронувшие каждую из входящих в организацию бывших среднеазиатских республик. Как оказалось, страны ШОС не имели иммунитета от происшедших в Грузии и Украине «цветных революций», получивших поддержку США и других западных государств.
После того как жертвой такой революции стал режим А. Акаева в Киргизии, серьезное испытание выпало и президенту соседнего Узбекистана, где в мае 2005 г. разразился антиправительственный мятеж в Андижане. В произошедшем обвинили группировку «Акромия»
и исламистскую партию «Хизб-ут-Тахрир». «Попытками некоторых стран насаждать демократию в Центральной Азии, – заявил И. Каримов, – может воспользоваться третья сила. Этой силой является радикальный ислам» (см.: [Николаева, Кашин, 2005]). Накануне саммита он побывал в Москве и Пекине, где заручился поддержкой в оценках андижанских событий.
Российский министр иностранных дел назвал события в Андижане провокационной акцией преступной группы типа «Талибан». Китай, в свою очередь, проявлял твердую решимость начать процесс выдавливания американцев из региона, высказавших свою озабоченность вспышками насилия. В отличие от газет других партнеров по ШОС, орган ЦК КПК «Жэньминь жибао» прямо указала на американский след и действия США, направленных на ликвидацию существовавших в Центральной Азии режимов. Послание от руководителей ШОС в адрес Вашингтона являлось делом запрограммированным, ибо оставалось только согласовать детали. И сделали это общими усилиями В. В. Путин и Ху Цзиньтао в ходе визита председателя КНР в Москву, состоявшегося накануне саммита. Пекин, как всегда, предпочел остаться в тени, а поручение озвучить соответствующую мысль, по предложению российской стороны, возложили на нового киргизского коллегу, заинтересованного в поддержке перед выборами [Верлин, 2005].
Перед руководством Казахстана и Таджикистана также стояла задача по обеспечению стабильности своих режимов. «События в Киргизии и Узбекистане, – писала 8 июля 2005 г. «Казахстанская правда», – стали лейтмотивом почти всех выступлений. Лидеры ситуацию, судя по всему, осмыслили и теперь обращались не только к Каримову и Бакиеву, а еще к кому-то третьему. Адресата не называли, но и так все было ясно». Негативная реакция Запада на андижанские события показала, что смена режимов для республик Закавказья и Центральной Азии действительно поставлена США на повестку дня [Мигранян, 2005. С. 25].
Поскольку в руководстве стран-членов ШОС образовался устойчивый консенсус по поводу того, что дестабилизирующие силы либо пытались действовать извне, либо пользовались активной внешней поддержкой, то противодействие «цветным революциям» в рамках ШОС приобрело характер коллективных действий. «После цветных революций, – давал свое видение событий Дж. Сорос [2010. С. 134], – Путин и авторитарные правители среднеазиатских государств договорились о взаимной поддержке в борьбе с общественными волнениями».
Главный инструмент достижения поставленной цели виделся в осуществлении концепции совместной борьбы против трех главных зол (терроризма, экстремизма и сепаратизма), принятие которой стало ключевым событием саммита в Астане. Этот документ фактически создал идеологическую основу для дальнейших конкретных действий. В разработанной к саммиту концепции отсутствовали сами определения этих «трех зол», поскольку считалось, что смысл указанных терминов расшифрован в Шанхайской концепции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом еще в июне 2001 г. Подписавшие документ страны получили возможность самостоятельно решать, какое из внутриполитических событий впредь может быть зачислено в разряд проявлений одного из трех зол. При всей внешней привлекательности, это могло привести к трениям между сторонами. Так, запланированное обсуждение на встрече единого для стран-членов ШОС списка террористических организаций обещало быть непростым. У некоторых руководителей существовал соблазн зачислить в данный черный список своих политических противников, нашедших убежище в соседней стране.
Стремясь сделать упор на единство, авторы декларации включили в нее тезисы о неотвратимости наказаний для лиц, виновных в террористических, сепаратистских и экстремистских деяниях, а также об обязательстве членов ШОС не предоставлять убежище лицам, обвиняемым или подозреваемым в совершении таких деяний. Другое положение было призвано исключить возможность привлечения западных посредников для урегулирования возникающих в странах ШОС кризисов, став своего рода профилактической мерой против того, что произошло в Грузии и Украине. Государства-члены ШОС исходили из того, что борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС своими собственными силами имеет для них приоритетное значение. Принципиальным моментом в декларации выглядел тезис о том, что конкретные модели общественного развития не могут быть предметом экспорта, и должно быть обеспечено право каждого народа на собственный путь развития [Декларация…, 2005].
Россия в лице В. В. Путина проявляла в Астане особую озабоченность проблемой выработки коллективных механизмов противостояния внешним угрозам и вызовам на постсоветском пространстве. Примечательно, что он прибыл в казахстанскую столицу после общения с председателем КНР. «Мы, – заявлял он для прессы, касаясь российско-китайских переговоров, – будем продолжать наше сотрудничество и в двухстороннем плане и на многосторонней основе. В ближайшее время продолжим наши консультации на форуме ШОС в Астане» [Заявление.., 2005]. Таким образом, перед саммитом российский президент использовал возможность апробировать свою позицию на переговорах с руководителем страны, вместе с Россией являвшейся лидером ШОС, и понять, насколько она приемлема для китайцев, а значит, жизнеспособна для организации в целом. Совпадение российско-китайских интересов в Центральной Азии способствовало, по оценкам французских авторов М. Ламель и С. Пейруса, оформлению между государствами стратегического партнерства в 2005 г. «Этот союз, – отмечали они, – основан в значительной степени на готовности обеих стран противостоять гегемонии Соединенных Штатов и защищать многополярный мир, бросающий вызов превосходству западных ценностей» 2.
Одной из российских инициатив, призванных противодействовать попыткам смены режимов в странах ШОС, должно было стать создание в ее рамках механизма взаимопомощи. «Надо не затягивая, – конкретизировал В. В. Путин, – определить, каким образом и в каких форматах следует объединить наши возможности. Полагая, что современные средства массовой коммуникации позволяют находить нестандартные и экономичные варианты» (см.: [Колесников, 2005]). Речь могла идти о получении Москвой под эгидой ШОС и при согласии Пекина возможности проведения спецопераций на территории других республик по согласованию и по запросам их руководства. В случае одобрения этой инициативы такие действия уже не рассматривались как вмешательство, поскольку легитимизировались решениями ШОС.
Еще одной инициативой Москвы на саммите в Астане стал предложенный ею и одобренный другими формат работы, который прошел вначале в виде закрытой встречи, а затем в рамках пленарного заседания в расширенном варианте. Утверждалось, что, выступая в узком кругу, В. В. Путин обратил внимание коллег на опасность попыток расшатать ШОС путем создания альтернативной региональной организации. Возможно, речь шла о проекте США по созданию «Большой Центральной Азии» с подключением туда Афганистана, Индии и Турции. При этом основных соперников в лице России и Китая планировалось отсечь от региональных процессов, поскольку они якобы не отвечали критериям демократических государств и не могли создать условия для безопасного развития [Малышева, 2006. С. 69]. Российская сторона предлагала противопоставить право каждой стране давать адекватный отпор любым неправовым силовым акциям и самостоятельно выбирать свой путь развития.
Заседание саммита в узком составе прошло довольно оживленно. В тексте совместной декларации появились два новых абзаца. «Мы, – говорилось в нем, – поддерживаем и будем впредь поддерживать усилия международной коалиции, проводящей антитеррористическую операцию в Афганистане. Сегодня мы отмечаем позитивную динамику, стабилизацию внутриполитической ситуации в Афганистане. Ряд стран ШОС представил свою наземную инфраструктуру для временного размещения военных контингентов государств-участников коалиции, а также свою территорию и воздушное пространство для военного транзита в интересах антитеррористической операции.
Учитывая завершение активной военной фазы антитеррористической операции в Афганистане, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества считают необходимым, чтобы соответствующие участники антитеррористической коалиции определились с конеч- ными сроками временного использования упомянутых объектов инфраструктуры и пребывания военных контингентов на территории стран-членов ШОС» [Декларация…, 2005].
На этих формулировках настаивал и. о. президента Киргизии К. Бакиев, которого с энтузиазмом поддержал И. Каримов. Другие не стали возражать. В результате члены антитерро-ристической коалиции получили своеобразный ультиматум. Им было предложено ответить, в какой срок они уйдут с территории центральноазиатских республик. Это заявление продемонстрировало странам НАТО растущее значение ШОС в защите национального суверенитета ее участников и неприятие западных стандартов политической жизни. Для некоторых лидеров это стало новым подтверждением того, что члены организации, особенно Россия и Китай, являются более надежными партнерами в сфере региональной безопасности, чем западные государства 3.
Таким образом, обсуждение борьбы с террористической и экстремистской угрозой на саммите ШОС в Астане завершилась конкретной инициативой. В. В. Путин и его коллеги намекнули, что антитеррористической коалиции желательно определиться со сроками вывода своих военных баз. По сути, была предпринята попытка изменить расстановку сил, возникшую в Центрально-Азиатском регионе после событий 11 сентября 2001 г. Странам анти-террористической коалиции в Афганистане, лидером которой являлись США, предложили подумать об окончании пребывания их воинских контингентов в Киргизии и Узбекистане. Причем Москва искусно дистанцировалась от авторства одобренной в Астане инициативы [Меликова, 2005].
Этот призыв не вызвал позитивного отклика в США. До саммита в Астане большинство вашингтонских политиков считало, что разногласия между Россией и Китаем сделают политику ШОС неэффективной. Теперь их настроение изменилось. Они сочли, что организация стала действенным инструментом в руках этих двух стран, создавая угрозу интересам США в регионе [Лю Цян, 2011. С. 68]. Официальный представитель госдепартамента США Ш. Маккормак заявил, что при обсуждении вопроса о базах в Астане отсутствовала самая заинтересованная сторона, т. е. Афганистан. Кроме того, вопросы использования баз определялись двусторонними соглашениями между США и властями Узбекистана и Киргизии. В целом, такой подход не являлся чем-то новым для Вашингтона. Как замечал по аналогичному поводу известный российский дипломат и синолог С. Н. Гончаров, США традиционно «высокопарно обосновывает свои акции заботой о развитии демократии и процветании народов, скрывая за этим своекорыстные расчеты» [2006. С. 210].
В итоге призыв остался письменным пунктом, спрятанным вглубь многостраничной декларации. Ни повторять его вслух, ни тем более комментировать публично никто из лидеров не захотел. Аналитики отмечали, что за исключением Узбекистана другие члены ШОС в принципе не были прямо заинтересованы в немедленном устранении американских баз и тактике «наступать на пятки» США в Центральной Азии, но рассчитывали использовать угрозу потенциального аннулирования прав на базы в качестве козыря в двухсторонних отношениях с Вашингтоном 4. Источник в российской делегации комментировал, что «мы не ставим под вопрос транзит и не требуем немедленного вывода воинского контингента – мы просто хотим понять, сколько времени понадобится участникам коалиции с учетом завершения активной фазы военной операции» (см.: [Николаева, Кашин, 2005]).
В официальных заявлениях МИДовских чиновников подчеркивалось, что все решения в рамках ШОС в соответствии с ее уставными документами принимались на основе консенсуса. Позиция России относительно военного присутствия внерегиональных сил в Центральной Азии исходила из того, что они способствуют сохранению там стабильности, насколько это увязывалось с реализацией задач борьбы с террористической угрозой в Афганистане. По мере их решения подобное военное присутствие в регионе должно быть свернуто. «Россия, – делал вывод С. В. Лавров, – активно содействовала Шанхайской организации сотрудничества, которая становится системообразующим фактором на азиатском континенте, да и в мировом контексте» [2011. С. 196].
В политике всегда существует соблазн обойти договоренности или наполнить их более выгодным для себя содержанием в зависимости от обстоятельств. К их числу относятся финансовые обязательства. Как патетически утверждал французский философ М. Сюриа [2001. С. 21], нет такой политики, над которой не возобладали бы деньги, поскольку нет политики, в которой бы деньги не решали все. Состояние дел с американской базой в Киргизии – лучшая тому иллюстрация. Действительно, К. Бакиев после избрания на пост президента заявил, что следует рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания американского контингента на территории республики. И, как это часто бывает в большой политике, все решили деньги. Министр обороны США Д. Рамсфелд пообещал Бишкеку беспроцентный кредит в 200 млн долл., что равнялось примерно 60 % годового бюджета Киргизии. Понятно, что К. Бакиев получил альтернативу, от которой было трудно отмахнуться.
В отличие от киргизского президента, лидер Узбекистана не ограничился декларацией, а вынудил США приступить к свертыванию военно-воздушной базы в Карши-Ханабаде. Относительно Казахстана, который не имел американских баз на своей территории, можно сказать, что его руководитель придерживался сбалансированной политики. «Назарбаев, – образно писал А. Ивасита из Центра стратегических исследований по Северо-Восточной Азии, – заинтересован в сохранении баланса между медведем, драконом и далеким американским орлом» 5. Казахстан, не отказываясь публично от астанинской декларации, в то же время принимал меры против того, что могло бы омрачить отношения с США или НАТО 6.
Свое прочтение принятой в Астане декларации давали китайские обозреватели, подчеркивая, как это сделал вышеупомянутый Пань Гуан, четыре принципа. Во-первых, замечания направлены не конкретно на США, а на членов антитеррористической коалиции, то есть все те страны и организации, которые используют объекты инфраструктуры стран ШОС. Во-вторых, окончательные договоренности должны быть разработаны на основе многосторонних или двухсторонних консультаций между государствами-членами ШОС и соответствующими сторонами. В-третьих, вопросы использования объектов инфраструктуры одним государством-членом ШОС в другом государстве-члене ШОС, например, использование Россией военной базы в Киргизии, могут быть решены путем координации в рамках ШОС или СНГ, на многосторонней или двухсторонней основе. В-четвертых, так как ситуация в Афганистане по-прежнему тяжелая, на данный момент нельзя составить график вывода всех иностранных войск из Центральной Азии. Вместо этого необходимо активизировать борьбу с терроризмом в регионе и укрепить соответствующие связи между ШОС, США, Евросоюзом и другими заинтересованными странами.
В отечественной литературе по принятию политических решений присутствуют ссылки на исследования так называемого «цикла поддержания внимания к вопросу» американского политолога Э. Даунса. Он выделил пять основных стадий в рамках подобного процесса. Прежде всего, это предпроблемная стадия, когда проблема уже имеется в наличии, но пока не привлекает общественного интереса. Ею занимаются лишь отдельные эксперты и заинтересованные группы. Следующий этап – открытие вопроса для публики. Потом идет стадия «цены прогресса», где встает и обсуждается вопрос о затратах для решения проблемы. Далее следует фаза ослабления интереса и, наконец, постпроблемная стадия, когда вопрос оттесняется на задний план другими акциями (см.: [Гришунин и др., 2008. С. 240].
Как представляется, пункт повестки дня об определении конечных сроков пребывания на территории государств-членов ШОС военных контингентов ряда стран-участниц антитерро-ристической операции в Афганистане последовательно прошел все вышеотмеченные стадии и фактически отправился после саммита на задний план дипломатической активности. Ничего в этом удивительного не было, если иметь в виду откровения Дж. Буша-младшего о событиях 2001 г.: «22 сентября я, – вспоминал президент США, – позвонил Путину из Кэмп-Дэвида. Во время долгой беседы в то субботнее утро он согласился открыть российское воздушное пространство для американских самолетов и пустить в ход все свое влияние, чтобы договориться с бывшими советскими республиками о переброске наших войск в Афганистан. Я подозревал, что он будет обеспокоен по поводу окружения России, но его больше заботила проблема соседства с террористами» [Буш, 2011. С. 135].
Еще в мае 2002 г. президенты В. В. Путин и Дж. Буш провозгласили наличие общих интересов в Центральной Азии, а также отказ от модели соперничества между великими державами в регионе. Теперь же, в 2005 г., несмотря на то, что Россия вроде бы потребовала вместе с Китаем вывода американских баз, администрация В. В. Путина старалась действовать осторожно, не ввязываясь в открытый спор по данному вопросу с Вашингтоном. Не случайно генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Н. Н. Бордюжа после саммита в Астане высказался в мягкой манере, что формулировки декларации не являются просьбой о немедленном выводе американских баз.
Тем не менее ШОС достаточно успешно справилась с американской стратегией развертывания американских баз по всей Центральной Азии и поставила перед США определенные рамки и ограничения. Без шума закрылась авиабаза в Узбекистане. Правительство Киргизии после консультаций с партнерами по ШОС отклонила идею развертывания у себя авиационного комплекса радиообнаружения и наблюдения как угрожающего безопасности Китаю и другим странам региона. Вдобавок, Вашингтон вынужденно пошел на уплату аренды, стоимость которой возросла в разы. Это были первые ощутимые успехи политики Шанхайской организации сотрудничества по ограничению американского военного присутствия в Центральной Азии 7.
AMERICAN BASES IN CENTRAL ASIA AS THE AGENDA OF THE SCO SUMMIT IN ASTANA (2005)