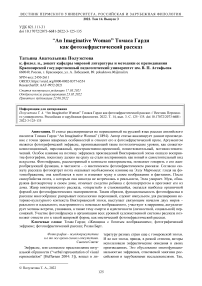“An imaginative woman” Томаса Гарди как фотоэкфрастический рассказ
Автор: Полуэктова Татьяна Анатольевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается не переведенный на русский язык рассказ английского писателя Томаса Гарди “An Imaginative Woman” (1894). Автор статьи анализирует данное произведение с точки зрения жанровых особенностей и относит его к фотоэкфрастической прозе. Аргументом является фотографический экфрасис, пронизывающий такие поэтологические уровни, как сюжетно- композиционный, персонажный, пространственно-временной, повествовательный, мотивно-тематический. Особое влияние на поэтику экфрасиса произведений Викторианской эпохи оказало восприятие фотографии, поскольку далеко не сразу ее стали воспринимать как новый и самостоятельный вид искусства. Фотоэкфрасис, рассмотренный в контексте викторианства, позволяет говорить о его жанрообразующей функции, в частности - о мистическом фотоэкфрастическом рассказе. Согласно сюжету рассказа фотопортрет поэта оказывает необъяснимое влияние на Эллу Марчмилл: глядя на фотоизображение, она влюбляется в него и изменяет мужу в своем воображении и фантазиях. После самоубийства поэта, с которым она никогда не встречалась в реальности, Элла умирает. Муж, обнаружив фотокарточку в своем доме, отмечает сходство ребенка с фотопортретом и прогоняет его из дома. Жанр викторианского рассказа, «открытый» и становящийся, оказался наиболее органичной формой для фотоэкфрастических экспериментов. Таким образом, функциональность фотоэкфрасиса в рассказе многообразна: раскрывает психологию персонажей, служит импульсом для расширения историко-культурного контекста Викторианской эпохи, выступает связующим началом двух миров - реального и идеального, выстроенного с помощью воображаемого, участвует в нарративе, актуализирует мотивы встречи, узнавания, а также тему смерти и идентичности (личностной, социальной) персонажей. Участие фотоэкфрасиса в организации всех уровней художественной системы рассказа позволяет отнести его к такой жанровой форме, как мистический фотоэкфрастический рассказ.
Томас гарди, женщина с богатым воображением, фотографический экфрасис, фотоэкфрастический рассказ, ролан барт
Короткий адрес: https://sciup.org/147238635
IDR: 147238635 | УДК: 821.111-31 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-125-135
Текст научной статьи “An imaginative woman” Томаса Гарди как фотоэкфрастический рассказ
Фотография – псевдоприсутствие и в то же время символ отсутствия. Сьюзен Сонтаг
Экфрасис, или словесное представление визуальной образности (“verbal representation of visual representation” [Heffernan 2004: 3]), вошел в ли- тературу разных стран еще с гомеровской эпохи. И во все эпохи, правда, в разной степени, авторы использовали экфрастические описания в своих произведениях. Это обусловлено многофункциональностью экфрасиса, отмечаемой многими российскими и зарубежными исследователями. Так,
например, московский исследователь М. И. Никола отмечает, что экфрасис определяет «важнейшие содержательно-формальные компоненты текста» [Никола 2010: 11]; пермские исследователи указывают, что «…экфрасис как тип дискурса выполняет в литературном произведении различные функции, в том числе и жанрообразующую» [Бочкарева, Табункина, Загороднева 2012: 18], и потому представляется возможным говорить о жанре «экфрастического романа» [там же: 20]; Джоанна Хартманн ссылается на его многофункциональность: “It has been used as poetic and rhetorical device, genre, and principle of narration” [Hartmann 2015: 113] и др.
В данной статье основное внимание будет уделено фотографическому экфрасису, т. е. описанию фотографий, выполняющих в произведениях документирующую, сюжетоструктурирующую, характорологическую и другие функции, что «расширяет стратегические возможности литературы, позволяет варьировать повествовательные приемы, ставить насущные социальные, философские, этические проблемы» [Судленкова 2018: 339].
В связи с этим можно говорить о жанрообразующей функции фотоэкфрасиса (см. подробнее [Полуэктова 2021]), поэтика которого стала особенно органичной для постмодернистской эстетики: не столько отображение действительности, сколько ее деконструкция и интерпретация (мно-гослойность фотографии), подчас – ее подмена (замена); различного рода манипуляции со снимком др., – предполагающие активное читательское сотворчество.
Однако в середине XIX – начале XX в. эстетика фотографии была иной. Художественные произведения (преимущественно – малая проза) с фотографическим дискурсом (экфрасисом) начали появляться с 1850-х гг., немногим позже 1839 г. – года официального открытия фотографии. Восприятие фотографии как таковой вызвало общественный резонанс и амбивалентное к ней отношение: “Fascination and fear, suspicion and enthusiasm, enchantment and disgust…” [Fjellestad 2015: 195]. Так, например, культурноэстетическую атмосферу того периода описал в небольшом эссе «Бальзак и дагеротип» (1900) французский фотограф Феликс Надар: «Все здесь смущало: колдовство с водой, заклинания, призраки. Столь любимая чародеями ночь безраздельно царствовала в сумрачных глубинах темной комнаты, которая запросто могла бы стать резиденцией Князя Тьмы, а из химикатов запросто можно было бы сварить приворотное зелье. ˂…> К дагеротипу отнеслись с подозрени- ем и суеверным страхом не одни только невежественные или неграмотные <…> Поначалу к восхищению примешивались неуверенность, беспокойство и растерянность. Далеко не сразу Человечество осмелилось приблизиться к Монстру» [Надар 2019: 14].
Двойственное отношение к фотографии коррелировало с литературными процессами середины – конца XIX в. С одной стороны, романтическая риторика, с ее интересом к сверхъестественному и необъяснимому. С другой – набирающая силу (позиции) риторика реалистическая, с ее вниманием к деталям и мелочам, для которой фотография была более «удобным», по сравнению с живописью, и наиболее точным, беспристрастным средством отражения действительности; как документ, доказательство подлинности.
Неудивительно, что c середины XIX в. наиболее репрезентативной формой для фотоэкфрасиса становится жанр английского рассказа1, интенсивное становление которого приходится именно на этот период. Английские писатели этого периода выступали экспериментаторами: «Для художников, начиная с XIX века, жанровые категории словно отступают на второй план перед более весомыми художественными задачами – поисками новых средств художественной изобразительности» [Анцыферова 1998: 12]; они стремились «…выработать новые изобразительные каноны, создать особую выразительную пластику» [Ерем-кина 2010: 295]. Пластичность и подвижность этого жанра позволяли писателям-викторианцам проводить художественные эксперименты различного рода, в том числе и синтез искусств.
Д. Элиот, Ч. Диккенс, Т. Гарди, Г. Джеймс и другие писатели обратили свой художественный интерес на фотографию, которую использовали в разных целях: “They included photographs as illustrations for their works, they incorporated a photographic aesthetic in their writings or they approached photography metaphorically” [Straub 2015: 157].
Всё это в определенной степени позволяет говорить о существовании, по крайней мере, двух фотоэкфрастических стратегий в англоязычной малой прозе того времени: мистической и детективной. К художественным образцам первой стратегии можно отнести, например, такие как: «Легенда Шотландии» (“The Legend of Scotland”, 1858) Л. Кэрролла, «В конце пути» (“At the End of the Passage”, 1890; рус. пер. 1895) Р. Киплинга, “An Imaginative Woman” (1894) Т. Гарди, “The Man with the Roller” (Человек с газонным катком (пер. – Т. П.), 1912) Э. Г. Суэйна и др. Принадлежность этих произведений к жанру мистиче- ского фотоэкфрастического рассказа обусловлена, по крайне мере, двумя факторами: 1) фото-экфрасис определяет содержательно-формальные компоненты; 2) эксплицированы сверхъестественные, необъяснимые, магические свойства фотоизображения.
В данной статье исследуются репрезентативные характеристики фотографии в прозе Томаса Гарди (Thomas Hardy, 1840–1928), чья писательская карьера пришлась на зарождение и развитие фотографического искусства.
Тема фотографии в не переведенном на русский язык рассказе Т. Гарди “An Imaginative Woman” («Женщина с богатым воображением») отражает один из вариантов восприятия фотографического искусства, связанного с его магическим, подчас необъяснимым, влиянием.
Рассказ был написан Т. Гарди в 1893 г., опубликован в ежемесячном британском “Pall Mall Magazine” в 1894 г., в 1896 г. включен в переиздание «Уэссекские рассказы» (“Wessex Tales”, 1888), а в 1912 г. перенесен им в сборник «Маленькие насмешки жизни» (“Life’s Little Ironies”) .
В основе сюжета – классический для европейской литературы любовный треугольник: одна женщина и двое мужчин. Действие происходит в Викторианскую эпоху, в последней четверти XIX в. Респектабельная семья Марчмилл приезжает в летний сезон на морской курорт Солентси и поселяется в съемной квартире известного, но ведущего затворнический образ жизни поэта Роберта Треви, удалившегося временно на соседний остров Уайт. Уильям Марчмилл – довольно-таки заурядный муж, владелец процветающего оружейного дела, его супруга Элла Марчмилл – утонченная и жаждущая впечатлений мать троих детей, начинающая поэтесса. Стихи Эллы, печатавшиеся под мужским псевдонимом «Джон Айви» (John Ivy), уступали сонетам Р. Треви, поэзия которого ее восхищала.
Увидев в доме фотографический портрет Р. Треви, Элла влюбляется в него, но все предпринимаемые ею попытки очной встречи оказываются тщетными. Позже Элла узнает из лондонской газеты о самоубийстве поэта. А вскоре после рождения четвертого ребенка Элла умирает. Через два года Уильям, готовясь к предстоящей свадьбе, случайно находит конверт, содержимое которого становится роковым: прядь волос того, чей фотопортрет лежал здесь же. Долго не рассуждая, обезумевший муж видит сходство маленького сына с фотопортретом и, проклиная, прогоняет его из дома.
В основе динамического сюжета рассказа лежит однонаправленная цепочка действий, а фо- тография выполняет сюжетоструктурирующую функцию. Рассмотрим это более подробно.
Завязка – приезд Марчмиллов в Солентси (Solentsea), в комнаты поэта.
Развитие действия. Элла, не составлявшая компанию мужу на яхтных прогулках, получает приятную возможность находиться среди вещей, принадлежащих Р. Треви, с которым она никогда не встречалась. «Впечатлительная, трепетная» ( impressionable, palpitating ) Элла примеряет на себя одежду (макинтош и шляпу) поэта, мечтая как можно быстрее с ним встретиться, заучивает его стихи наизусть.
Узнав от миссис Хупер, хозяйке дома, о наличии фотографии Треви и предвосхищая встречу, Элла начинает готовиться к ночному свиданию. Обстоятельства как нельзя лучше к этому располагали: муж сообщил, что вернется на следующий день, дети спали.
Кульминация. Перед тем как взглянуть на Треви, Элла “now made her preparations, first getting rid of superfluous garments and putting on her dressing-gown, then arranging a chair in front of the table and reading several pages of Trewe’s tenderest utterances” (960)2. Если до этого момента Элла создавала воображаемый образ Р. Треви с помощью его поэзии, то фотопортрет стал зримым воплощением ее воображения. Поднеся рамку с портретом к свету, Элла воочию видит предмет своего тайного восхищения: “It was a striking countenance to look upon. The poet wore a luxuriant black moustache and imperial, and a slouched hat which shaded the forehead. The large dark eyes … showed an unlimited capacity for misery; they looked out from beneath well-shaped brows as if they were reading the universe in the microcosm of the confronter’s face, and were not altogether overjoyed at what the spectacle portended” (960).
На бессознательном уровне Элла воспринимает запечатленный объект, и уровень внушения его непосредственного присутствия в данном случае высок и длителен. Это один из факторов, позволяющих приписывать фотографии магические свойства.
Определяющим моментом становится поцелуй, которым Элла «одаривает» фотопортрет и который можно расценивать как измену. После она словно возвращается в прежнюю реальность: “She thought how wicked she was, a woman having a husband and three children, to let her mind stray to a stranger in this unconscionable manner” (960). Но фотография вновь овладевает ее мыслями и чувствами, что сродни в данном случае супружеской измене: “She knew his thoughts and feelings as well as she knew her own; they were, in fact, the self- same thoughts and feelings as hers, which her husband distinctly lacked. ˂…> ‘He’s nearer my real self, he’s more intimate with the real me than Will is, after all, even though I’ve never seen him!’” (960).
Английская исследовательница Элисон Фиш Кац (Alison Fisch Katz) указывает на роль экфрасиса (или фотоэкфрасиса – П. Т. ) в этом эпизоде: “In this convergence of icon and logos, Ella secures an ekphrastic moment which cements the relationship between herself and her imaginary lover. ˂…> the narrator lovingly describes this moment as a perfect union of presence and absence” [Katz 2011: 157].
Наслаждаясь обществом воображаемого возлюбленного, она кладет фотографию на край кровати, продолжая рассматривать милый сердцу образ и читать стихи, написанные им на обоях у изголовья кровати: “And now her hair was dragging where his arm had lain when he secured the fugitive fancies; she was sleeping on a poet’s lips, immersed in the very essence of him, permeated by his spirit as by an ether” (961). Кен Айрленд из Открытого университета Великобритании также прочитывает этот эпизод как центральный для всего рассказа: “…its central event, in terms of importance and number of pages, is the scene where Ella, in dressinggown and candle-lit atmosphere, imagines a sexual union with Trewе” [Ireland 2008: 63].
Развитие действия. Далее по сюжету происходит первая случайная «встреча» Уильяма с Р. Треви: фотография оказывается в совместной постели супругов. Но на тот момент муж не воспринял поэта как потенциального любовника своей жены.
По возвращении Марчмиллов домой Элла, располагая временем, продолжила создавать лирические сочинения. Завязавшаяся переписка с Р. Треви (опять же под псевдонимом) и сорвавшаяся без пяти минут очная встреча с ним только усилили влечение Эллы к нему.
Знаковым в сюжете рассказа становится внезапная новость о самоубийстве поэта, потрясшая Эллу: “Oh, if I had only once met him-only once; and put my hand upon his hot forehead-kissed him-let him know how I loved him-that I would have suffered shame and scorn, would have lived and died, for him! Perhaps it would have saved his dear life! ˂…> But no-it was not allowed! God is a jealous God; and that happiness was not for him and me!” (966). Самоубийство поэта равносильно внутреннему умиранию Эллы, потому что с ним она была воображаемым целым. Процесс ее отождествления с Другим начался со взгляда на фотографию, которая понимается Р. Бартом «как явление меня в качестве другого, ловкая диссоциация сознания собственной идентичности» [Барт 2016: 23].
Элла просит миссис Хупер прислать прядь его волос и тот фотопортрет, который был ей очень хорошо знаком. Это и сыграет в дальнейшем роковую роль для респектабельной семьи Марч-миллов.
Элла, родив четвертого ребенка, спустя некоторое время умирает. Уильям, готовясь к новой женитьбе, случайно находит тот роковой конверт. Эта «встреча» Уильяма с фотопортретом Р. Треви ведет к трагической развязке – отец, пораженный сходством поэта и ребенка, прогоняет его из дома.
На основании вышеизложенного сюжета очевидно, что фотоэкфрасис определяет композиционное построение всего рассказа: является двигателем действия на протяжении всего повествования. Этот потенциал становится возможным благодаря двум режимам прочтения фотографий – studium’у и punctum’у, введенным Р. Бартом в своем знаменитом эссе «Camera lucida. Комментарий к фотографии». Первый выступает в качестве культурного кода, предполагающего зрителя, наделенного определенными культурными знаниями, это залог прочтения, восприятия идеи, заложенной в фотографии; «…Studium... никогда не является моим наслаждением или моим страданием» [там же: 41]. Рunctum же, который «колет» и ранит, индивидуален, обращается к чувствам и эмоциям человека. Основываясь на этой терминологии бинарного восприятия фотоизображения, состоявшаяся «встреча» Эллы с Р. Треви стала возможной благодаря т. н. punctum’у («уколу»). Пытаясь проникнуть в глубинную суть фотообраза, Элла наполняет его своими субъективными измышлениями. Примечательно, но эта же фотография не стала залогом «встречи» для миссис Хупер: очевидно, для нее фотоизображение было studium’ом – классическим образом поэта-романтика.
Акт рассматривания персонажами (Эллой и Уильямом) фотоизображения приравнивается к событию встречи (как запланированной (ночное свидание), так и случайной), являющейся роковой в каждом из описанных случаев. Мотив встречи, заложенный в поэтике фотографии, влияет на весь дальнейший ход событий рассказа, становясь опорной точкой его композиции. Мотив случайной встречи Уильяма с Р. Треви на фотопортрете в финале рассказа тесно сопряжен с мотивом узнавания, повлекшим за собой трагическую развязку. Понятия рок, судьба реализуются через фотографию: и Эллу, и Уильяма, встретившихся с Р. Треви, настигают неотвратимые роковые события.
Таким образом, фотография в рассказе – двигатель сюжета, создающий событийность как внешнюю, так и внутреннюю.
Артефакт в рассказе выполняет и ярко выраженную характерологическую функцию . Фотография позволяет раскрыть внутренний мир героини, динамику ее скрытых психологических процессов, обозначить конфликт между ее внешним и внутренним «я», что было первостепенным для Т. Гарди.
В начале рассказа мы видим Эллу как типичную представительницу среднего класса Викторианской эпохи, призванную выполнять материнский долг и быть хранительницей очага. Даже интеллектуально-творческие способности ей приходится скрывать под мужским псевдонимом. Переполняемая чувственными потребностями, Элла создает романтический образ возлюбленного, наделяя его воображаемыми чертами. Унылая жизнь Эллы, ее сублимированная энергия способствуют поиску новых впечатлений и увлечений, и фотография знакомого заочно незнакомца является активным катализатором для высвобождения ее накопившихся эмоций: «Подобно камину в комнате, фотографии ˂…> располагают к мечтаниям. У тех, для кого чем дальше, тем желаннее, это ощущение недоступности дает толчок эротическому чувству. Фотография возлюбленного, спрятанная в бумажнике замужней женщины, постер с рок-звездой, приколотый над кроватью подростка… – эти отчасти талисманы имеют сентиментальное и неявно магическое значение: они суть попытки установить связь с иной реальностью, предъявить на нее права» [Сонтаг 2013: 29]. В созданной Эллой альтернативной реальности она проживает те эмоции, ту жизнь, которой ей так не хватало в действительности: наличие единомышленника, увлеченного высокими материями, эмоциональность переживаний и т. д.
Драматичность ситуации усугубляется тем, что поэт-романтик Роберт Треви одинок так же, как и замужняя Элла Марчмилл. Подтверждением тому являются последние его стихи, озаглавленные “Lyrics to a Woman Unknown”, а также предсмертное письмо, адресованное другу, о воображаемой женщине: “I have long dreamt of such an unattainable creature, as you know, and she, this undiscoverable, elusive one, inspired my last volume; the imaginary woman alone, for, in spite of what has been said in some quarters, there is no real woman behind the title” (965). Примечательно, что, когда Элла тосковала по Р. Треви, с которым никогда не встречалась, он тосковал по воображаемой, близкой ему по духу женщине. Но их встрече не суждено было состояться: “…should such an encounter take place, the poet would suddenly be accessible to her and there would be no representational boundary to overcome. It is therefore almost predictable that following Trewe’s reported suicide, Ella, with no hope of further communion with him, follows suit, willing her own death in childbirth. Trewe, for his part, gives up on the pursuit of knowledge, claiming deliverance ‘from the inconveniences of seeing, hearing and knowing more of the things around [him].’Hence, his own semiotic other, conceived in the form of an ‘undiscoverable,’ ‘elusive,’ ‘imaginative woman’ remains ‘to the last unrevealed, unmet, unwon’” [Katz 2011: 158]. В рассказе Т. Гарди, написанном в конце XIX в., еще слышны отзвуки романтической эстетики. В первую очередь это прослеживается через фигуры двух персонажей-поэтов – Эллы и Роберта, остро ощущающих одиночество в чуждой им действительности. Непримиримые противоречия не позволяют им принять эту действительность, и они, каждый по-своему, покидают друг за другом этот мир. Романтический принцип двоемирия (как отголосок позднего романтизма) усиливается мотивом смерти двух романтично настроенных натур. Неслучайно интерес к мистическому возрождается именно у романтиков, в эстетике которых «универсальная интуиция двоемирия включает в себя двоемирие метафизическое, мистическое» [Яковлев 2001: 558].
Заглавие рассказа содержит в себе указание на ключевой способ восприятия реальности не только Эллы, как это может показаться изначально, но и Уильяма. Если в начале рассказа фотография стимулирует воображение и фанта-зии3 Эллы, то в финале она становится триггером для Уильяма – «спусковым крючком», запускающим сильную эмоциональную реакцию. Она вызывает у него воспоминания о предыдущей случайной «встрече» с фотопортретом Р. Треви в супружеской постели и несдерживаемых эмоциях Эллы на могиле поэта.
Эта последняя роковая «встреча» сопровождается ревностью, гневом и злостью Уильяма, оттого представляется возможным говорить о фототриггере, запускающем механизм переживаний прошлого и влияющем на последующие события («открытый» финал), которые апеллируют к читательской рефлексии: “By recognising the complexity of human experience and its complex sources, Hardy is offering an alternative to thinking about the constrictions of his society, an escape from the tragic lives his characters lived (thinking that their circumstances are fated on them), encouraging his readers to explore the boundless variations of human existence, highlighting the power of choice” [Al-Ajmi 2018: 161].
Если в начале рассказа Уильям выступает спокойным и практичным человеком, то в финале фотопортрет заставляет его подчиниться своим неоправданным эмоциям: «скудность информации на фотографии в отдельных случаях оборачивается богатством придуманного нами содержания» [Лапин 2004: 75]. Артефакт и в том, и в другом случае репрезентирует мертвое как живое, способное влиять на события: «Кадр стирает разницу между живым и умершим, давая понять, что с точки зрения снимка живое и мертвое равны» [Васильева 2014: 73]. В последнем эпизоде рассказа очевидна решающая роль воображения по отношению к Уильяму, которое становится роковым и для Роберта Треви.
Габриэла Тукан (Gabriela Tucan) (West University of Timişoara), рассуждая о природе рассказа как такового, обращает внимание на поэтику его финала: “…short story writers focus on the final part of the story with the view of stirring surprise and raising unexpected questions. ˂…> the whole weight of the text is concentrated here” [Tucan 2014: 3]. «Открытый», диалогичный финал рассказа, являющийся характерной чертой романов Т. Гарди и противоречащий сюжетно-композиционной завершенности английской литературы XIX в., коррелирует с поэтикой фотографии, открытой для «вчитывания» и различного рода интерпретаций, в том числе и мистической. А жанр рассказа, подвижный и открытый, “…strives towards something unstated yet hinted at in the text, which accounts for its intensity. One could say it has a liminal quality, constantly attempting to dissolve the boundary between the known and the unknown, the visible and the invisible, the surface and the inner secret of things” [Patea 2012: 16].
О мистической доминанте в жанровой структуре данного рассказа позволяет говорить сама природа восприятия фотографии в Викторианскую эпоху. Так, в рассказе очевидно необъяснимое, таинственное и роковое влияние фотоизображения на персонажей и их судьбу. Относительно проблематики рассказа нельзя не связать мистический аспект с психологическим, с особым психофизическим состоянием, проявляющимся в так называемом мистическом опыте, – «это измененное состояние сознания, связанное с ощущением единства или соединения с Вселенной, подавляющим экстазом и чувствами любви, понимания и иногда ощущаемое присутствие личного Бога» [Сурков 2012: 132]. Психологическая составляющая рассказа напрямую связана с воображением (imagination), фантазией, к которым склонны персонажи Т. Гарди. В обоих случаях «встречи» с фото становятся мистически роковыми: 1) оно воздействует на воображение Эллы магическим образом, подменяя отсутствующего Р. Треви его мнимым присутствием; 2) точно так же фотография влияет и на воображение Уильяма Марчмилла, увидевшего сходство ребенка с псевдоприсутствовавшим в их семейных отношениях Р. Треви. Кейт Флинт (Kate Flint), профессор Южнокалифорнийского университета, обращает внимание на магическое свойство фотографии в рассказе Т. Гарди и связывает его с фольклорным мотивом: “…woman who experiences a strong shock may end up imprinting its record onto her foetus” [Flint 2016: 7].
В начале рассказа персонажи созданы в традиционной для Т. Гарди концепции: мужское начало ассоциируется с разумом, женское – с миром чувств. Однако «разумность» мужского начала в финале иронично обыгрывается писателем. Но за этой иронией стоит трагизм. В реалиях викторианства мужчина был олицетворением высшего разума. Ему полагалось быть спокойным, самодисциплинированным, выдержанным не только внешне, но и внутренне: даже образ мыслей был строго регламентирован. Т. Гарди, «поздний» викторианец, без идеализации, с определенной долей иронии изображает в финале «идеального» джентльмена Уильяма Марч-милла, охваченного эмоциями. Его всевластие над женой оборачивается собственным бессилием против охвативших его эмоций. Ироничность трансформации образа английского джентльмена отчасти подчеркивается и самим заглавием сборника – «Маленькие насмешки жизни».
Столкновение разума и чувства в творчестве Т. Гарди неизменно ведет к «трагедии неосуществленных замыслов», обречено на провал. Писатель показывает, что трагична не смерть, а жизнь, изменить которую в существующей историко-культурной ситуации не представляется возможным.
Противопоставление внутреннего мира персонажа миру реальному – основная тема творчества Т. Гарди. В связи с этим нельзя не отметить, что фотография выполняет в рассказе и хроно-топическую функцию. Во-первых, служит для Эллы точкой пересечения двух миров – реального, в котором она вынуждена играть требуемую от нее роль, и идеального, мира ее грез и фантазий. Во-вторых, влияет на настоящее и, обладая ретроспективной функциональностью (воспоми- нания), влияет на будущее персонажей. При этом датировка на оборотной стороне фотопортрета отсылает к тому периоду. Таким образом, фотография обращает в настоящем время вспять и влияет на будущее.
В рассказе можно проследить пространственные «перемещения» фотографии, соответствующие основным сюжетным доминантам рассказа: первая очная «встреча» в спальне, случайная находка-«встреча» с Уильямом Марчмиллом в спальне и, наконец, роковая случайная находка в финале.
Хронотопическая функция фотографии в рассказе проявляется и в ее способности репрезентировать многие социальные детерминанты Викторианской эпохи. Так, фотография позволяет раскрыть социокультурный контекст, в первую очередь – положение женщин в обществе. Элла призвана контролировать свои эмоции, находиться в полной подчиненности и зависимости от мужа: “Indeed, the necessity of getting life-leased at all cost, a cardinal virtue which all good mothers teach, kept her from thinking of it at all till she had closed with William, had passed the honeymoon, and reached the reflecting stage. Then, like a person who has stumbled upon some object in the dark, she wondered what she had got; mentally walked round it, estimated it; whether it were rare or common; contained gold, silver, or lead; were a clog or a pedestal, everything to her or nothing. She came to some vague conclusions, and since then had kept her heart alive by pitying her proprietor’s obtuseness and want of refinement, pitying herself, and letting off her delicate and ethereal emotions in imaginative occupations, day-dreams, and night-sighs, which perhaps would not much have disturbed William if he had known of them” (952–953).
Тема любви, несчастливого брака в рассказе созвучна написанным в тот же период романам Т. Гарди («Тэсс из рода д’Эрбервиллей», «Джуд Незаметный» и др.), в которых он «не просто затрагивает табуированные викторианской нравственностью вопросы отношения полов, а с беспощадной правдивостью раскрывает трагическое противоречие между видимостью и сущностью брачных, семейных отношений в английском обществе» [Абилова 2020: 182].
Положение женщин-писательниц в XIX в. было незавидным: чтобы быть опубликованными или стать замеченными, приходилось использовать мужской псевдоним (достаточно вспомнить сестер Бронте, Дж. Элиот и др.). Примечательно, что в XX и начале XXI в. эта тенденция отчасти сохранилась (Дж. Роулинг, М. Фрай и др.). Невозможность собственной идентификации в творчестве граничит в рассказе Т. Гарди с жесткой поведенческой нормативностью в семье. Причиной, по которой Элла увлеклась поэтическим творчеством, стало желание “…to find a congenial channel in which to let flow her painfully embayed emotions, whose former limpidity and sparkle seemed departing in the stagnation caused by the routine of a practical household and the gloom of bearing children to a commonplace father” (954). Творчество стало для Эллы возможностью для самореализации, пусть и под мужским псевдонимом. Двойная игра викторианской леди в творчестве перешла в двойную игру в семье: прежние чувства Эллы к супругу угасли, да и дети в какой-то момент становятся чужими для нее. «Женский вопрос», рассматриваемый Т. Гарди в рассказе, получает трагическое разрешение, свойственное литературе рубежа веков: «Женщина в романах поздних викторианцев воплощена, за редким исключением, в трагическом и глубоко психологическом образе доведенной до отчаяния и не имеющей ни малейшей надежды на спасение жертвы общества, в котором все права принадлежат мужчине» [Скороходько 2018: 138].
Повествование в рассказе Т. Гарди ведется от нарратора, выступающего «как сверхчеловеческая всеведущая и вездесущая инстанция, живущая в разные эпохи и проникающая в самые утаенные уголки сознания персонажей» [Шмид 2008: 65]. Выстраивая повествовательную историю, он при этом дает право голоса Элле Марч-милл (внутренняя фокализация) в наивысшие моменты ее эмоционального переживания, совмещая тем самым две точки зрения – повествователя и персонажа. Нулевую фокализацию в рассказе, доминирующую, следует определить как дань писателя английской реалистической традиции XIX в., внутреннюю – как признак усложнения нарративной структуры текста рубежа веков. Эта переходность сказалась и на другом гардиевском эксперименте в этой же области. Отталкиваясь от известного бартовского тезиса о том, что фотография – это сообщение, есть все основания утверждать, что в рассказе наличествует еще одна нарративная инстанция – собственно фотопортрет поэта. При этом повествовательный потенциал фотографии получает свое разрешение исключительно благодаря «взгляду» Эллы. Под его воздействием статика изображения сменяется живым, полнокровным образом. Этот эффект усиливается и тем обстоятельством, что фотография поэта коррелирует с поэтическим текстом: стихи поэта, начертанные на обоях, являются своего рода вербальным комментарием к фотоизображению и тем самым усилива- ют романтическую наполненность запечатленного образа (исключительно с точки зрения Эллы).
Безусловно, фотоэкфрасис в рассказе Т. Гарди обладает повествовательно-коммуникативными функциями. Отметим, что в данной статье лишь намечены особенности нарративной стратегии рассказа Т. Гарди, представляющей собой самостоятельный аспект исследования и требующей более глубокого рассмотрения. Рассказ Т. Гарди “An Imaginative Woman” является репрезентативным с точки зрения поэтики фотографического, а именно – фотоэкфрасиса, определяющего поэтику всего произведения: на сюжетном, характерологическом, хронотопическом, повествовательном, мотивно-тематическом уровнях. Вышеизложенное позволяет определить жанровую форму произведения Т. Гарди “An Imaginative Woman” как мистический фотоэкфрастический рассказ.
Взаимодействие художественной литературы с другими видами искусств прослеживается на всех этапах развития культуры. Фотографический экфрасис представлен в художественном процессе начиная с середины XIX в. и обширно представлен в современной литературе, преимущественно в романном жанре (например, «Мастер Джорджи» Б. Бейнбридж, «Фотография» П. Лайвли, «Пока не выпал дождь» Д. Коу и др.). Фотоэкфрастические эксперименты открывают для писателей палитру возможностей: от фото-экфрасиса как приема до его жанрообразующей функции.
Примечания
-
1 Исключением, в данном случае, пожалуй, является роман Н. Готорна «Дом о семи фронтонах» (1851), Г. Смарта “At Fault” (1883) и Э. Д. Леви “The Romance of a Shop” (1888).
-
2 Здесь и далее в круглых скобках приводится ссылка из списка источников с указанием номера страницы.
-
3 Е. В. Халтрин-Халтурина отмечает особенность известной дихотомии английского пред-романтизма и романтизма “fancy” / “imagination”: «…в Англии до кон. XVIII в. воображение (imagination) и фантазия (fancy / fantasy) были практически взаимозаменямыми понятиями, так или иначе противопоставлявшимися «хладному» рассудку» [Халтрин-Халтурина 2005: 129]. В заглавии своего рассказа Т. Гарди употребляет слово “imaginative”, понимаемое и употребляемое в к. XIX в., согласно словарю Дж. Мюррея, как “Charactirized by, or resulting from, the productive imagination; bearing evidence of high poetic or creative fancy” [Imaginative 1901: 54].
Список литературы “An imaginative woman” Томаса Гарди как фотоэкфрастический рассказ
- Абилова Ф. А. Роман-трагедия в жанровой истории английской литературы: философия трагического Томаса Гарди // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 6. С. 176-185. https://doi.org/10. 5281/zenodo.394465
- Анцыферова О. Ю. Повести и рассказы Генри Джеймса: от истоков к свершениям. Иваново, 1998. 210 c.
- Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / пер. с фр. М. Рыклина. М.: Ад Марги-нем Пресс, 2016. 192 с.
- Бочкарева Н. С., Табункина И. А., Загородне-ва К. В. Мировая литература и другие виды искусства: экфрастическая поэзия / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. 90 с.
- Васильева Е. В. Фотография и феномен времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2014. Серия 15. Вып. 1. С. 64-79.
- Еремкина Н. И. Английский рассказ XIX века: становление и развитие // Теория и практика общественного развития. 2010. № 4. С. 293-297.
- Лапин А. В. Фотография как... . М., 2004. 324 с.
- Надар Ф. Бальзак и дагеротип / Когда я был фотографом; пер. с фр. СПб.: Клаудберри, 2019. 416 с.
- Никола М. И. Экфрасис: актуализация приема и понятия // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2010. № 1(2). С. 8-12.
- Полуэктова Т. А. Фототекстуальность как категория поэтики английского романа: жанровая репрезентативность // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2021. Т. 13. Вып. 4. С. 100-110. doi 10.17072/20736681-2021-4-100-110
- Скороходько Ю. С. Неовикторианский роман младшего поколения: Поэтика и жанровые разновидности: монография. М.: Флинта: Наука, 2018. 376 с.
- Сонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. 272 с.
- Судленкова О. А. «Каждая фотография - это рассказ»: фотографический экфрасис в современной британской литературе // Теория и история экфрасиса: Итоги и перспективы изучения. Седльце, 2018. С. 326-339.
- Сурков Д. В. Различие понятий «Мистика», «Мистицизм» и «Мистический опыт» // Омский научный вестник. 2012. № 5(112). С. 131-134.
- Халтрин-Халтурина Е. В. Эпохальный для английского романтизма переход Уильяма Вордсворта через Альпы: от фантазии к воображению // Романтизм: вечное странствие / отв. ред. Н. А. Вишневская, Е. Ю. Сапрыкина. М.: Наука, 2005.С. 120-141.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. 312 с.
- Яковлев М. В. Мистическое // Литературный словарь терминов и понятий / гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: НПК Интелвак, 2001. С. 555-560.
- Al-Ajmi N. Choice and Fate in 'Fellow-Townsmen' and 'An Imaginative Woman' // International Journal of Language and Literature. December. 2018. Vol. 6. No. 2. P. 157-162. doi 10.15640/ijll.v6n2a18
- Fjellestad D. Nesting - Braiding - Weaving: Photographic Interventions in Three Contemporary American Novels / Handbook of Intermediality / ed. by G. Rippl. GmbH; Berlin; Boston: De Gruyter, 2015. Р.193-218.
- Flint K. Literature and Photography / Late Victorian into Modern / ed. by L. Marcus, M. Mendelssohn and K. E. Shepherd-Barr. United Kingdom: Oxford University Press, 2016. Р. 1-17.
- Hartmann J. Ekphrasis in the Age of Digital Reproduction // Handbook of Intermediality / ed. by G. Rippl. GmbH; Berlin; Boston: De Gruyter, 2015. Р.113-125.
- Heffernan J. A. W. Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago, London: University of Chicago Press, 2004. 249 p.
- Imaginative // A New English Dictionary on Historical Principles / ed. by J. A. H. Murray. Oxford, 1901. Vol. V. P. 54.
- Ireland K. Trewe Love at Solentsea? Stylistics Vs Narratology in Thomas Hardy // The State of Stylistics / ed. by Greg Watson. Amsterdam; New York, 2008. Р. 61-73.
- Katz A. Violent Wisdom: Thomas Hardy and ek-phrastic discord // Word & Image. 2011. Vol. 27. No. 2. Р. 148-158.
- Patea V. The Short Story: An Overview of the History and Evolution of the Genre // Short Story Theories: A Twenty-first-Century Perspective / ed. by Patea V. Amsterdam and New York: Rodopi, 2012. P.1-24.
- Straub J. Nineteenth-century Literature and Photography // Handbook of Intermediality: Literature -Image - Sound - Music / ed. by G. Rippl. Berlin; Boston: De Gruyter, 2015. (Handbooks of English and American Studies; vol. 1). P. 156-172.
- Tucan G. What Is A Short Story Besides Short? Questioning Minds in Search of Understanding Short Fiction // Romanian Journal of English Studies. 2014. Vol. 11, No. 1. Р. 1-8.