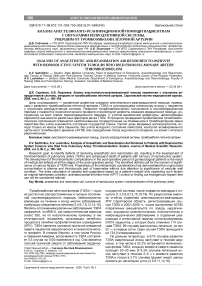Анализ анестезиолого-реанимационной помощи пациенткам с опухолями репродуктивной системы, умершим от тромбоэмболии лёгочной артерии
Автор: Садчиков Дмитрий Владимирович, Лушников Александр Владимирович
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Анестезиология и реаниматология
Статья в выпуске: 2 т.5, 2009 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - выявление дефектов оказания анестезиолого-реанимационной помощи, приведшим к развитию тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) и последующему летальному исходу у пациенток с опухолями репродуктивной системы. Развитию тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде у пациенток гинекологического профиля способствуют дефекты оказания медицинской помощи, допущенные на всех этапах периоперационного периода. С учётом выявленной дефектуры, целесообразен пересмотр значимости различных факторов риска ТЭЛА. В процессе проведения профилактики тромбоэмболических осложнений отмечается необоснованное сосредоточение на плазменном и тромбоцитарном звене гемостаза без учёта значимости состояния сосудистой стенки. Расчёт дозы вводимых антикоагулянтов, исходя только из массы тела пациента, без учёта исходного состояния гемостаза, контроля активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) или определения титра эндогенного гепарина, не может считаться рациональным.
Анестезиолого-реанимационная помощь, опухоли репродуктивной системы, тромбоэмболия лёгочной артерии
Короткий адрес: https://sciup.org/14916880
IDR: 14916880
Текст научной статьи Анализ анестезиолого-реанимационной помощи пациенткам с опухолями репродуктивной системы, умершим от тромбоэмболии лёгочной артерии
сосудистой системы после инфаркта миокарда и инсульта [1,2,5,6,9,12,15,18,19]. По результатам анализа отчётов отделений анестезиологии-реанимации ЛПУ Саратовской области, регистрировавших случаи ТЭЛА в 2002–2006 гг., после выполнения 83780 оперативных вмешательств по поводу хирургических, акушерско-гинекологических, онкологических и нейрохирургических заболеваний, в отделения реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 24075 пациентов, у которых было отмечено 114 случаев ТЭЛА. 89 случаев закончились летально, из них 52 — в первые сутки. Один случай ТЭЛА приходился на 734,9 оперированных.
По данным литературы, в 87% случаев развития ТЭЛА смертельный исход наступает в течение двух часов, в том числе в 52,3% встречается молниеносная форма ТЭЛА, когда до момента смерти пациента проходит 20–30 мин. В 9,3% случаев летальный исход наступает в течение 2–5 ч с момента развития ТЭЛА и только в 3,7% случаев пациент имеет шансы прожить до нескольких суток [3,5,6,11,12,16].
Основной причиной ТЭЛА является тромбоз глубоких вен нижних конечностей и малого таза, встречающийся в послеоперационном периоде у пациенток гинекологического профиля в 16% случаев [21]. Опасность этого состояния в том, что «тромбоз глубоких вен вообще может протекать бессимптомно, иногда первым и единственным проявлением... является массивная тромбоэмболия легочной артерии» [12]. По данным зарубежных статистических исследований [14,17], на каждые 2000 пациенток гинекологического профиля регистрируется 4–5 случаев ТЭЛА.
Материалы и методы. В ЛПУ г. Саратова, оказывающих гинекологическую помощь пациенткам с опухолями репродуктивной системы, в последние 5 лет, госпитализируется, в среднем, 2485 + 50 пациенток с добро- и злокачественными опухолями матки и придатков, по поводу которых ежегодно выполняется 1219 + 51 операций. За 2005–2006 гг., были отмечены семь случаев ТЭЛА со смертельным исходом, подвергшихся клинико-экспертному анализу. Во всех случаях диагноз «ТЭЛА» был подтверждён патологоанатомическим исследованием.
Молниеносная форма ТЭЛА имела место в одном случае, в течение ближайших двух часов умерли трое пациенток, у одной пациентки летальный исход наступил в течение 3 ч 35 мин, и ещё по одной женщине умерли через 20 ч 30 мин и 35 ч 35 мин По три случая развития ТЭЛА приходится на первые и вторые сутки после операции, в одном она развилась на третьи сутки. Всем семи пациенткам выполнены оперативные вмешательства: в одном случае раздельное диагностическое выскабливание по поводу маточного кровотечения, в остальных — лапаротомия с надвлагалищной ампутацией матки или экстирпацией её. В этих случаях, длительность операции составляла от 1 ч 17 мин до 1 ч 50 мин (в среднем, 1 ч 30 мин + 5 мин). Женщины имели возраст от 47 до 66 лет (в среднем 52,7 + 2,6 года). У всех пациенток имела место массивная ТЭЛА (по классификации Европейского кардиологического сообщества, 2000) [20].
Результаты и обсуждение. Анализ профилактики и лечения ТЭЛА в периоперационном периоде подтвердил основные факторы риска развития тромбоэмболических осложнений (ТЭО), конечным итогом которых является венозный стаз с повреждением стенки вены (по Е.П. Панченко, 2002 г., с изменениями):
– варикозная болезнь вен нижних конечностей, малого таза;
-
– ожирение;
-
– приобретённые тромботические заболевания (антифосфолипидный синдром, гепариноиндуцированная тромбоцитопения, тромбоцитоз);
-
– перенесённые ранее ТГВ/ТЭЛА;
-
– патология сердечно-сосудистой системы (активная фаза ревматизма, тромбоз ушка правого предсердия, мерцательная аритмия, артериальная гипертензия);
-
– возраст старше 60 лет;
-
– иммобилизация пациента в постели или наличие иммобилизационной повязки нижней конечности;
-
– травма или хирургическая операция в течение предшествующих 4-х недель;
-
– наличие злокачественной опухоли (в том числе, менее 6 мес. после оперативного лечения, химио-или лучевой терапии) или доброкачественной опухоли малого таза в силу механического сдавления его сосудистых сплетений;
-
– беременность, особенно осложнённая гесто-зом; роды;
-
– применение оральных контрацептивов;
-
– гормональная заместительная терапия у женщин.
-
У всех пациенток, истории болезни которых подверглись клинико-экспертному анализу, было отмечено наличие факторов риска до поступления в стационар (табл. 1).
Наиболее часто встречалось сочетание двух факторов риска (два случая — ожирение и артериальная гипертензия и один — сочетание артериальной гипертензии с патологией вен малого таза). У одной больной отмечена комбинация трёх факторов риска (ожирение, артериальная гипертензия, наличие варикозного расширения вен нижних конечностей). В одном случае имело место наличие четырёх факторов риска ТЭЛА (ожирение, артериальная гипертензия, варикозное расширение вен нижних конечностей и возраст старше 60 л.). Все больные в качестве основного заболевания имели доброкачественные опухоли малого таза, являющиеся фактором риска ТЭЛА. Всё это позволяет отнести пациенток к группе высокого риска послеоперационных венозных ТЭО в гинекологии (риск ІІС — ІІІС по классификации О.Б. Макарова и соавт., 2005) [8]
Наличие известных факторов риска было выявлено на предоперационном этапе и отражено в медицинской документации. Несмотря на это, в пяти случаях из семи имела место недооценка степени тяжести состояния пациенток, т.е. полученные данные не были приняты во внимание и должным образом интерпретированы в плане прогноза возможных осложнений. Только в двух случаях анестезиолог-реаниматолог в предоперационном осмотре отразил риск развития тромбоэмболии. Причинами недооценки тяжести состояния больных как анестезиологами-реаниматологами, так и акушерами-гинекологами могли стать как низкая квалификация медицинского персонала (в трёх случаях из семи больные велись врачами со стажем до 5 лет, не имевшими квалификационной категории), так и отсутствие использования шкал прогноза развития ТЭЛА.
Дефекты диагностики и прогнозирования ТЭЛА сказались на качестве предоперационной подготовки. Медикаментозная профилактика ТЭО не проводилась ни у одной пациентки, более того, в одном
Таблица 1
Факторы риска развития ТЭЛА, выявленные у пациенток с доброкачественными опухолями репродуктивной системы
|
Факторы риска |
М., 53 г. |
С., 48 л. |
К., 52 г. |
Б., 66 л. |
Л., 52 г. |
Б., 51 г. |
Кч., 47 л. |
|
Степень ожирения |
ІІ |
ІV |
ІІ |
ІІІ |
ІІІ |
||
|
Степень артериальной гипертензии |
ІІ |
ІІ |
ІІ |
ІІ |
ІІ |
І |
|
|
Варикозное расширение вен |
Нижних конечностей |
Сплетений малого таза |
Нижних конечностей |
из случаев были назначены средства, повышающие агрегацию тромбоцитов и способствующие тромбо-образованию (этамзилат натрия). При этом протокол профилактики ТЭО при высокой степени риска требует назначения низкомолекулярных гепаринов на предоперационном этапе за 2–4 ч до операции.
Данный факт как нельзя лучше иллюстрирует частое невыполнение имеющихся рекомендаций по профилактике ТЭЛА как лечащими врачами акушерами-гинекологами, так и врачами анестезиологами-реаниматологами, когда предстоящее оперативное вмешательство оценивается только со стороны возможной кровопотери. Приведённые факты показывают сложность интерпретации данных, выявляемых смежными специалистами, синтеза этих фактов в единую концепцию тактики ведения больных. Факторы риска значительно более грозного и менее поддающегося коррекции осложнения, как ТЭЛА, либо не принимаются во внимание, либо не корригируются.
Перейдём к рассмотрению дефектов анестезиологического пособия, проведённого при оперативном вмешательстве. Наиболее частыми дефектами анестезиологических пособий были гипоаналгезия и гипоанестезия, когда доза наркотических аналгетиков (фентанила) и средств для наркоза, введённых в ходе анестезиологического пособия, была менее рассчёт-ной для пациенток с избыточной массой тела. Эти дефекты были отмечены в шести случаях из семи. Во всех указанных случаях суммарная доза фентанила, введённого у пациенток с избыточной массой тела, за время оперативного вмешательства составляла 0,6 мг, что значительно меньше оговорённой в инструкции по применению фентанила. Первая введённая доза фентанила составляла 0,2 мг, далее — по 0,1 мг каждые 20 мин. Подтверждением гипоаналгезии являлись имевшие место у этих пациенток вегетативные сдвиги в виде сохранения тенденции к артериальной гипертензии и тахикардии (т.е. гипердинамического режима кровообращения) в ходе анестезиологического пособия, что было зафиксировано в наркозных картах. Недостаточная блокада болевой импульсации не только способствует гемодинамическим сдвигам во время оперативного вмешательства и ближайшем послеоперационном периоде, но и негативно сказывается на коагуляционном потенциале крови, приводя к повышению последнего. Кроме того, в двух случаях в премедикацию было включено введение фентанила в дозе 0,1 мг, в одном случае — на фоне кровотечения, что не обеспечивает блокады патологической импульсации с рефлексогенных зон блуждающего нерва (для этого необходимо применение адекватной дозы М-холинолитиков). Ещё в двух случаях имела место нерациональная комбинация средств для наркоза — в одном случае, комбинация тиопентала натрия и пропофола, в другом — тиопентала натрия и кетамина. Последняя комбинация является оправданной в ряде клинических ситуаций, когда, у пациентов с выраженной артериальной гипертензией при индукции в наркоз используются барбитураты, а базис-анестезия осуществляется кетамином, однако в представленном случае, на этапе поддержания наркоза применялись оба препарата, причём без учёта периода полувыведения из организма каждого из них. У трёх пациенток были обнаружены по три дефекта, допущенных в ходе анестезиологического пособия, у трёх имело место сочетание двух дефектов, в одном случае выявлен один дефект.
Однако наибольшее значение для развития ТЭЛА сыграли дефекты антикоагулянтной терапии, проводимой в послеоперационном периоде. В двух случаях из семи антикоагулянтная терапия пациенткам вообще не назначалась, более того, несмотря на наличие у каждой из них двух факторов риска ТЭЛА, в назначениях присутствовал этамзилат натрия. В четырёх случаях, при наличии у пациенток ожирения ІІ–ІІІ степеней, доза назначенного гепарина составляла 10000 единиц в сутки — по 2500 ед. каждые 6 часов, тогда как при проведении профилактики ТЭО при высокой степени риска протоколами рекомендуется доза гепарина 5000–7500 ед п/к 3–4 раза в сутки. Лишь в одном случае в послеоперационном периоде была назначена адекватная доза гепарина. Назначение в послеоперационном периоде салицилатов (в одном из случаев был назначен аспирин по 0,25 2 раза в сутки), в рассчёте на их антиагрегантный эффект, который является дозозависимым и, в указанной дозировке, не влияет на коагуляционный потенциал крови, не может являться методом профилактики ТЭЛА в послеоперационном периоде, что привело к исключению салицилатов из всех протоколов профилактики ТЭО в послеоперационном периоде [5]. Существенно повлиять на коагуляционный потенциал крови может доза аспирина 1,5–2 г/сут, но такая дозировка существенно увеличивает риск развития осложнений со стороны слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, особенно при наличии исходной патологии ЖКТ.
Кроме того, общим дефектом, обнаруженным во всех подвергшихся экспертному анализу случаях, явились дефекты лабораторного мониторинга. Ни у одной из пациенток не были выполнены развёрнутые исследования системы гемостаза (за исключением ВСК по Ли-Уайту или ПТИ), как на предоперационном этапе, так и в послеоперационном периоде. АЧТВ определялось уже после развития ТЭЛА, на фоне введения антикоагулянтов и других препаратов, вмешивающихся в гемостаз, что не давало возможности достоверной оценки показателей системы свёртывания крови.
Приведённые факты ещё раз подтверждают преобладание устаревшего подхода к интенсивной терапии в послеоперационном периоде, когда на первое место ставится риск развития послеоперационного кровотечения. Необходимо кардинальное изменение клинического мышления врачей хирургических специальностей. Приоритетом в интенсивной терапии послеоперационного периода у пациентов групп риска по развитию ТЭО должно стать поддержание жидкого агрегатного состояния крови при обеспечении надёжного гемостаза в ране хирургическими методами во время операции. Этот же постулат доказывает и само существование равновесия потенциала свёртывающей и противосвёртывающей систем крови, обеспечивающее постоянство жидкостного состава крови, равно как и тромбообразования в области повреждения сосудистой стенки. Приоритет гемостаза в ране должен быть сохранён и у больных в критическом состоянии с острыми язвенными процессами ЖКТ, травматическими повреждениями ротоглотки, тромбоцитопенией и другой патологией системы свёртывания крови (отмеченной в противопоказаниях к применению нефракционированного гепарина). Кроме того, в инструкции по применению гепарина отмечено, что он противопоказан при оперативных вмешательствах и в ближайшем послеоперационном периоде. В этих ситуациях современный уровень развития фармакологии предлагает использовать низкомолекулярные гепарины (особенно над-ропарин кальция), имеющие ряд преимуществ перед нефракционированным гепарином в виде меньшей кратности введения, меньшей потребностью в лабораторном мониторинге состояния системы свёртывания крови, отсутствием аутоиммунной тромбоцитопении, значительно меньшим процентом развития кровотечений в послеоперационном периоде, а также большим удобством применения для пациента и персонала, меньшей реакцией мягких тканей в месте введения препарата и, что немаловажно, большим экономическим эффектом [3,5,6,7,13].
Несмотря на то, что сама по себе ТЭЛА является фатальным осложнением, достаточно много дефектов было выявлено и при оказании медицинской помощи уже после её развития (табл. 2). Приведённые в таблице дефекты являются достаточно типичными. Их можно систематизировать как отсутствие настороженности у лечащих врачей к сущности ТЭЛА как критическому состоянию, дефекты проводимой антикоагулянтной терапии, а также дефекты других направлений интенсивной терапии.
Главной проблемой является отсутствие настороженности у врачей акушеров-гинекологов к сущности ТЭЛА как критическому состоянию, представляющему непосредственную угрозу жизни больной. Это обусловлено сложностью дифференциальной диагностики ТЭЛА, скоротечностью этого критического состояния, недостаточным обследованием больных, неспецифичностью клинической картины. В трёх случаях как важнейший дефект отмечен поздний вызов анестезиолога-реаниматолога при развитии критического состояния. Раньше вызывались терапевт, сосудистый хирург, гемостазиолог, ответственный акушер-гинеколог, а в одном был даже проведён консилиум, анестезиолог-реаниматолог был вызван лишь через
2 ч 25 мин, для проведения реанимационных мероприятий. Резонным следствием этого дефекта явился и поздний перевод на ИВЛ, в условиях прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Во всех указанных случаях он был осуществлён лишь при проведении сердечно-лёгочно-мозговой реанимации. Два из указанных случаев произошли в обычной палате, один — в палате РиИТ (!). Ещё в одном случае задержка перевода на ИВЛ на 40 мин с момента развития ТЭЛА была отмечена при нахождении пациентки в палате РиИТ. Безусловной ошибкой следует признать и проведение тромболизиса у данной пациентки без осуществления респираторной поддержки в условиях прогрессирования артериальной гипотензии. В двух случаях отмечено позднее освоение магистральной вены (только при проведении комплекса реанимационных мероприятий), в одном случае магистральная вена не была освоена.
Отдельной группой стоят дефекты проведения антикоагулянтной терапии. Традиционно проведение антикоагулянтной терапии сосредоточено на применении ингибиторов плазменных или тромбоцитарных факторов гемостаза. Однако, принимая во внимание триаду Р. Вирхова (1890), отмечающую триединство плазменных, тромбоцитарных факторов гемостаза и состояния сосудистой стенки, приходится констатировать, что роль последней в поддержании жидкого агрегатного состояния крови незаслуженно недооценивается. В базовых руководствах по проблемам гемостаза сосудистая стенка не фигурирует вообще, а именно её повреждение, ведущее к обнажению эндотелиальной мембраны, попаданию в кровоток тканевого тромбопластина, нарушению равновесию системы тромбоксан-простациклин и синтеза оксида азота, является основой внутрисосудистого тромбо-образования [1,2,9,10].
Таблица 2
Дефекты реанимационных мероприятий и интенсивной терапии при развитии ТЭЛА
|
Выявленные дефекты |
М., 53 г. |
С., 48 л. |
Кл., 52 г. |
Бл., 66 л. |
Л., 52 г. |
Б., 51 г. |
Кч., 47 л. |
|
Сутки развития ТЭЛА (п/о) |
2-е |
1-е |
1-е |
3-и |
2-е |
2-е |
1-е |
|
Время от развития ТЭЛА до смерти |
35 ч 35 мин |
55 мин |
1 ч 05 мин |
3 ч 35 мин |
35 мин |
20 ч 30 мин |
50 мин |
|
Поздний вызов анестезиолога-реаниматолога |
+ (через 20 мин, после вызова терапевта) |
+ (через 2 ч 25 мин, после проведения консилиума, 2-х осмотров терапевта) |
+ (через 1 ч 10 мин, после осмотров гинеколога, ангиохирурга, гемо-стазиолога, терапевта,) |
||||
|
Доза антикоагулянтов |
10000 ед |
Не введены |
10000 ед |
Не введены |
Доза гепарина достаточна |
10000 ед (2х5000 ед), затем 10000 ед/сут |
10000 ед |
|
Задержка перевода на ИВЛ |
40 мин |
20 мин |
2 ч 25 мин (СЛР) |
19 ч 50 мин (СЛР) |
|||
|
Освоение магистральной вены |
Только при СЛР |
Через 5 ч (13.00) |
Не освоена |
||||
|
Проведение тромболизиса |
Проведён без кардиореспи-раторной поддержки |
Не проводился |
|||||
|
Назначение нитратов |
Через 2 ч 20 мин |
Не вводились |
Через 2 ч 30 мин |
Не вводились |
|||
|
Дефекты медикаментозной терапии |
Назначение полиглюки-на, омнопона |
Назначение полиглюки-на, омнопона |
Назначение реопо-лиглюкина |
||||
Дефекты проведения антикоагулянтной терапии имели место в шести случаях из семи. В двух случаях антикоагулянтная терапия не проводилась вообще, в четырёх случаях применённая доза нефрак-ционированного гепарина у пациенток с ожирением ІІ-ІІІ степени была явно недостаточной (10000 ед. одномоментно, с переходом в одном случае на непрерывное введение гепарина со скоростью 1000 ед./ час, в другом — продолжения подкожного введения 2500 ед. каждые 6 ч). В указанных ситуациях необходимо введение одномоментно не менее 20000 ед. гепарина, с последующим переходом на непрерывное введение. Не менее эффективно при развитии ТЭЛА и применение фраксипарина из расчёта 0,1 мл/10 кг массы тела пациента через каждые 12 ч. В последнем случае риск развития коагулопатических кровотечений значительно меньше, по сравнению с применением нефракционированных гепаринов. Следует отметить, что приводимые в инструкциях по применению всех антикоагулянтов дозировки этих препаратов ориентированы на массу тела, тогда как для их рационального и эффективного назначения необходима ориентация на титр эндогенного гепарина или АЧТВ.
Кроме осуществления респираторной поддержки и антикоагулянтной терапии, к обязательным направлениям интенсивной терапии при ТЭЛА относится разгрузка малого круга кровообращения нитратами на фоне катехоламиновой поддержки кровообращения. Однако, как следует из представленной документации, в двух случаях из семи разгрузка малого круга кровообращения не осуществлялась, ещё в двух была начата с задержкой на 2 ч 20 мин и 2 ч 30 мин. В трёх случаях имело место назначение полиглюкина и реополиглюкина, способствовавших усугублению перегрузки малого круга кровообращения, особенно в сочетании с назначением омнопона, обладающего депримирующим воздействием на функции миокарда (2 случая).
В результате проведённого анализа медицинской документации, в четырёх случаях было отмечено наличие 9 дефектов оказания медицинской помощи на всех этапах лечения пациенток, по одному случаю — 7, 6 и 5 дефектов соответственно. В среднем, в каждом из анализированных случаев имели место 77+07 дефекта.
Заключение. Экспертный анализ семи случаев массивной ТЭЛА выявил:
-
1. Недостаточное обезболивание, отсутствие эффективной профилактики ТЭО на всех этапах перио-перационного периода, отсутствие биохимического мониторинга системы гемостаза.
-
2. Недооценка факторов риска ТЭЛА у больных, низкая чувствительность и специфичность прогностических систем затрудняет проведение эффективной превентивной терапии ТЭЛА.
-
3. Мониторинг и профилактика тромбоэмболических осложнений необоснованно занижают значение состояния сосудистой стенки в системе гемостаза.
Список литературы Анализ анестезиолого-реанимационной помощи пациенткам с опухолями репродуктивной системы, умершим от тромбоэмболии лёгочной артерии
- Баркаган, З.С. Очерки антитромботической фармако-профилактики и терапии./З.С. Баркаган. -М.: Ньюдиамед, 2000.-142 с.
- Баркаган, З.С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза./З.С. Баркаган, А.П. Момот -М.: Ньюдиамед, 2001. -285 с.
- Бернакевич, А.И. Ортопедическая операция как фактор высокого тромбогенного риска/А.И. Бернакевич//Матер, заседания совета экспертов по проблемам гемостаза и антитромботической профилактики и терапии. -М., 2006. -С. 14-19.
- Клинико-экономический анализ профилактики послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений/А.В. Варданян, РБ. Мумладзе, Д.Ю. Белоусов, Е.В. Ройтман//Качественная клиническая практика. -2006. -№ 1. -С. 51-63.
- Замятин, М.Н. Низкомолекулярные гепарины и их место в профилактике тромбозов и тромбоэмболии: существующий опыт и оценка возможностей/М.Н. Замятин//Мат-лы заседания совета экспертов по проблемам гемостаза и антитромботической профилактики и терапии. -М., 2006. -С. 20-26.
- Кириенко, А.И. Насколько адекватно мы оцениваем факторы риска развития тромбоэмболических осложнений в хирургии?/А.И. Кириенко//Мат-лы заседания совета экспертов по проблемам гемостаза и антитромботической профилактики и терапии. -М., 2006. -С. 8-13.
- Маджуга, А.В. Рак и тромбоз: современные методы решения проблемы/А.В. Маджуга, О.В. Сомонова//Мат-лы заседания совета экспертов по проблемам гемостаза и антитромботической профилактики и терапии. -М., 2006. -С. 32-37.
- Макаров, О.Б. Профилактика тромбоэмболических осложнений в гинекологии/О.Б. Макаров, Л.А. Озолиня, ОБ. Керчелаева//Рос. вестник акушера-гинеколога. -2005. -Т. 5. -№ 4. -С. 63-71.
- Макацария, А.Д. Тромбофилии и противотромботиче-ская терапия в акушерстве/А.Д. Макацария, В.О. Бицад-зе. -М., 2003. -904 с.
- Мачабели, М.С. Коагулопатические синдромы/М.С. Мачабели. -М.: Медицина, 1970. -303 с.
- Панченко, Е.П. Венозные тромбозы в терапевтической клинике. Факторы риска и возможности профилактики/Е.П. Панченко//Сердце. -2002. -Т. 1. -№ 4. -С. 177-179.
- Савельев, B.C. Роль хирурга в профилактике и лечении венозного тромбоза и лёгочной эмболии/B.C. Савельев//50 лекций по хирургии. -М.: Медиа Медика, 2003. -С. 92-99.
- Стойко, Ю.М. Низкомолекулярные гепарины в комплексном лечении тромбоза глубоких вен/Ю.М. Стойко//Мат-лы заседания совета экспертов по проблемам гемостаза и антитромботической профилактики и терапии. -М., 2006. -С. 27-31.
- Cyrkowicz, A. Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative administration of low molecular weight heparin. Gynecological ward retrospective analysis/A. Cyrkowicz//Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. -2002. -Vol. 100. -P. 223-226.
- Haentjens, P. Prevention of venous thromboembolism after hospital discharge. Continued pharmacological prophylaxis versus no prophylaxis in patients undergoing total hip replacement/P. Haentjens//Hip International. -2001. -Vol.11. -P. 25-36.
- Koopman, M.M. Treatment of venous thrombosis with intravenous unfractionated heparin administered in the hospital as compared with subcutaneous low-molecular-weight heparin administered at home. The Tasman Study Group/M.M. Koopman, P. Prandoni, P. Piovella//N. Engl. J. Med. -1996. -Vol. 334. -P. 682-687.
- Meta-analysis of low molecular weight heparin in the prevention of venous thromboembolism in general surgery/P. Mismetti, S. Laporte, J.-Y. Darmon, A. Buchmuller, H. Decousus//British journal of Surgery. -2001. -Vol. 88. -P. 913-930.
- Samama, Ch.M. Prevention of venous thromboembolism/Ch.M. Samama, M.M. Samama//Congress of European Society of Anaesthesiology. -Amsterdam, 1999. -P. 39-43.
- Simonneau, G. Nadroparin 0,3 ml versus Enoxaparin 40 mg in the Prevention of Venous Thromboembolism in Abdominal Surgery for Colorectal Cancer: A Randomized Double-Blind Comparative Study. Abstract 552/G. Simonneau//BLOOD. -2005.-Vol. 106(11), November 16th.
- Task Force Report. Gyidlines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism.//Europ. Heart J. -2000. -Vol. 21. -P. 1301 -1336.
- Weiner CD. Diagnosis and management of thromboembolic disease during pregnancy/CD. Weiner//Clin. Obstet. Gynecol. -1985. -Vol. 28. -P. 107-118.