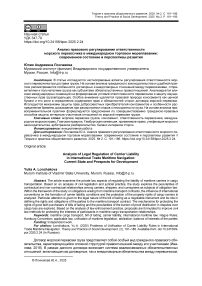Анализ правового регулирования ответственности морского перевозчика в международном торговом мореплавании: современное состояние и перспективы развития
Автор: Лончакова Юлия Андреевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются частноправовые аспекты регулирования ответственности морского перевозчика при доставке грузов. На основе анализа гражданского законодательства и судебной практики рассматриваются особенности договорных и внедоговорных отношений между перевозчиками, отправителями и получателями грузов как субъектами обязательственных правоотношений. Анализируется влияние международных конвенций на формирование условий ответственности перевозчика и защиту имущественных прав грузовладельцев. Особое внимание уделяется правовой природе коносамента как ценной бумаги и его роли в определении содержания прав и обязанностей сторон договора морской перевозки. Исследуются механизмы защиты прав добросовестных приобретателей коносаментов и особенности распределения бремени доказывания при рассмотрении споров о несохранности груза. На основе анализа правоприменительной практики формулируются предложения по совершенствованию гражданско-правовых способов защиты интересов участников отношений по морской перевозке грузов.
Морские перевозки грузов, коносамент, ответственность перевозчика, международное морское право, гаагские правила, гамбургская конвенция, применимое право, унификация морского законодательства, арбитражное разбирательство, баланс интересов сторон
Короткий адрес: https://sciup.org/149147378
IDR: 149147378 | УДК: 347.79 | DOI: 10.24158/tipor.2025.2.24
Текст научной статьи Анализ правового регулирования ответственности морского перевозчика в международном торговом мореплавании: современное состояние и перспективы развития
грузоотправителем и грузополучателем. При этом особое значение приобретает проблема защиты имущественных прав грузовладельцев как экономически более слабой стороны договора1.
Механизм гражданско-правовой ответственности морского перевозчика за нарушение обязательств по сохранной перевозке груза имеет существенную специфику, обусловленную особенностями морской перевозки как предпринимательской деятельности повышенного риска (Иванов, 2021). В этой связи актуальным является исследование оснований и условий наступления ответственности перевозчика, а также особенностей распределения бремени доказывания между сторонами при рассмотрении споров о несохранности груза.
Цель исследования: провести комплексный анализ гражданско-правовых механизмов защиты имущественных прав участников договора морской перевозки груза и разработать концептуальные основы эффективной системы частноправового регулирования ответственности морского перевозчика.
Особого внимания заслуживает исследование правовой природы коносамента как ценной бумаги, удостоверяющей имущественные права его держателя на груз. При этом важно определить особенности реализации прав добросовестного приобретателя коносамента, а также механизмы защиты его интересов при нарушении перевозчиком обязательств по договору морской перевозки.
В российском гражданском праве такой документ характеризуется сочетанием принципа свободы договора с императивными требованиями к содержанию обязательств перевозчика по обеспечению сохранности груза. Это создает необходимость детального исследования вопросов соотношения договорной и внедоговорной ответственности морского перевозчика, а также особенностей применения общих положений обязательственного права к отношениям по морской перевозке грузов (Касаткина, 2016).
Ключевой вопрос касается управления отношениями вне рамок договора между транспортной компанией и легитимным владельцем товаросопроводительного документа. Подобно прибрежным грузоперевозкам, эти отношения определяются содержанием и условиями данного документа. Транспортировщик может распространить положения фрахтового соглашения на взаимодействие с адресатом груза, включив специальную ссылку в товаросопроводительный документ. Важно отметить, что формулировки последнего должны соответствовать актуальным международным соглашениям, фундаментальным юридическим концепциям, признанным развитыми государствами, а также общезначимым постулатам и стандартам транснационального и коллизионного права.
В процессе эволюции морского права XIX в. наблюдалась тенденция к расширению перечня условий, освобождающих владельцев судов от ответственности за сохранность грузов. Изначально такие обстоятельства ограничивались лишь форс-мажорными событиями и актами пиратства, однако со временем их круг был значительно расширен, включая ситуации, в которых вина перевозчика была явной. Перенос данной практики из чартерных соглашений в коносаменты привел к существенному снижению их значимости в качестве коммерческих документов (Нестеров, Скаридов, 2023).
Ситуация усугублялась тем, что грузополучатели, являясь третьей стороной в сделке, зачастую не имели возможности ознакомиться с условиями коносамента до его индоссирования. Это создавало неравные условия для участников торговых отношений, ставя грузополучателей в уязвимое положение. Отсутствие доступа к конфиденциальной информации о чартерных соглашениях между перевозчиком и отправителем еще более усложняло ситуацию для добросовестных получателей.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 17389/10 суд квалифицировал коносамент преимущественно как ценную бумагу, удостоверяющую имущественные права владельца. При этом несоблюдение формальных требований к реквизитам коносамента не лишает его доказательственного значения как документа, подтверждающего наличие договора морской перевозки2.
В российской практике заслуживает внимания Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.03.2022 № Ф10-326/2022 по делу № А14-11773/2020, в котором суд подчеркнул значимость правильного оформления товаросопроводительных документов и ответственности морского агента за предоставление достоверной информации таможенным органам3.
Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о существовании различных подходов к определению правовой природы коносамента и применимого права в спорах из морских перевозок. При этом наблюдается тенденция к конвергенции правовых систем в вопросах регулирования ответственности перевозчика, что подтверждает необходимость дальнейшей унификации международного морского права.
Анализ текущей конъюнктуры в области морского транспорта обнаружил настоятельную потребность в разработке и имплементации международных юридических норм, регламентирующих обязательства транспортных операторов по обеспечению сохранности перевозимых грузов. При этом критически важно достичь оптимального паритета между интересами всех вовлеченных сторон, включая судоходные компании, посреднические структуры, страховые организации и владельцев грузов. Данная стратегия направлена на формирование справедливой и эффективной системы распределения потенциальных рисков и юридической ответственности в контексте трансграничных морских грузоперевозок.
В развитии международного морского права конца XIX – начала XX вв. наблюдается тенденция к усилению защиты интересов грузовладельцев. Ключевым этапом в этом процессе стало принятие Закона Хартера в США в 1893 г.1, который ограничил возможности судовладельцев использовать оговорки, освобождающие их от ответственности даже при наличии вины. Этот закон, основываясь на предшествующих статутах отдельных штатов и Законе об ограниченной ответственности 1851 г., установил примат над любыми противоречащими ему оговорками в коносаменте (Глинщикова, Виноградов, 2021).
Дальнейшее развитие международно-правового регулирования морских перевозок привело к принятию Гаагских правил в 1924 г.2 Данный международный правовой акт, направленный на стандартизацию ряда положений, касающихся коносаментов, стал первым документом в сфере гармонизации обязательств морских транспортных компаний в этом контексте.
Гаагские правила установили минимальные стандарты обязательств и ответственности перевозчика. Многие положения их были заимствованы из Закона Хартера3, включая обязанности перевозчика по обеспечению мореходности судна, выдаче коносамента с определенными реквизитами, презумпцию приема груза согласно описанию в коносаменте, а также условия ограничения или освобождения перевозчика от ответственности.
Особое внимание в Гаагских правилах уделяется концепции «мореходности», которая в английском праве подразделяется на «мореходность по грузу» и «мореходность по плаванию». Конвенция устанавливает обязанность перевозчика проявлять разумную заботливость в обеспечении мореходности судна, что является ключевым аспектом в определении ответственности судовладельца. Эти нормы заложили основу для дальнейшего развития международного морского права и стандартизации практик в сфере морских перевозок.
В развитии международного морского права после принятия Гаагских правил наблюдается тенденция к дальнейшему совершенствованию регулирования морских перевозок. Ключевым отличием Гаагских правил от предшествующего Закона Хартера стало расширение сферы их применения не только на деликтные отношения, но и на обязательства, вытекающие из договора морской перевозки грузов.
Дальнейшее развитие правового регулирования привело к принятию Висбийского протокола в 1968 г.4, который внес существенные изменения в Гаагские правила. Основными нововведениями стали: расширение географической сферы действия правил, увеличение лимита ответственности перевозчика и введение «Гималайской оговорки», распространяющей освобождение от ответственности перевозчика на его служащих и агентов. Протокол 1979 г.5 уточнил пределы ответственности перевозчика, введя понятие «расчетной единицы» в виде специального права заимствования Мирового валютного фонда (МВФ).
Значительным шагом в эволюции морского права стало принятие Гамбургской конвенции 1978 г.1, призванной заменить предыдущие документы. Данный международный правовой акт внес ряд существенных инноваций в регулирование морских перевозок. В частности, он ввел концепцию «фактического транспортного оператора», значительно расширил спектр регулируемых правовых отношений и географический охват применения норм. Документ также уточнил дефиницию коносамента, пролонгировал период осуществления транспортировки и увеличил лимиты ответственности перевозчика.
Анализ присоединения государств к различным версиям правил показывает, что большинство стран (84) являются участниками первоначальных Гаагских правил, в то время как к последующим протоколам и конвенциям присоединилось меньшее число государств. Это свидетельствует о сложности достижения универсального консенсуса в области международного морского права и необходимости дальнейшей работы в этом направлении.
Несмотря на то, что Гамбургская конвенция 1978 г. была призвана унифицировать международное правовое регулирование морских коносаментных перевозок, она не достигла своей основной цели. Вступив в силу лишь в 1992 г., конвенция не получила широкого признания среди ключевых морских держав. Анализ ратификационного статуса данного международного соглашения выявляет примечательную тенденцию: из 34 государств, официально принявших документ, подавляющее большинство не играет существенной роли в глобальной морской логистике. Примечательно, что такие значимые морские державы, как Соединенные Штаты Америки, Королевство Норвегия и Королевство Швеция, лишь парафировали соглашение, воздержавшись от его ратификации (Нестеров, Скаридов, 2023).
В качестве потенциального решения для достижения оптимального паритета между интересами страховых компаний, судовладельцев и грузоотправителей предлагается синтез нормативных положений Гаага-Висбийских правил с принципами, изложенными в Гамбургской конвенции. Это потребует существенной переработки обеих конвенций для устранения противоречий. При этом рекомендуется сохранить некоторые положения Гаага – Висби, широко используемые в стандартных проформах чартеров, а также внести в них дополнительные условия, учитывающие современные реалии, такие как международные санкции.
В парадигме трансграничных морских грузовых транспортировок вопрос определения применимого права при возникновении деликтных обязательств перевозчика в связи с утратой или порчей груза представляет собой комплексную юридическую дилемму. Центральным правовым инструментом в этом контексте выступает коносамент – документ, регламентирующий правоотношения между транспортным оператором и грузополучателем.
В соответствии с нормативно-правовыми актами некоторых юрисдикций коносамент интерпретируется как юридически обязывающее соглашение, детерминирующее взаимоотношения между транспортным оператором и грузополучателем. Примечательно, что данный документ должен включать обязательные элементы, предписанные международными правовыми инструментами, такими как Гаагская и Гамбургская конвенции.
В российском законодательстве коносамент определяется как ценная бумага, удостоверяющая имущественные права владельца. Кодекс торгового мореплавания РФ2 устанавливает обязательные реквизиты коносамента, аналогичные требованиям правил Гаага – Висби. При этом, в отличие от англо-саксонского права, где коносамент рассматривается прежде всего как договор перевозки, в российском праве несоблюдение требований к реквизитам приводит к тому, что документ не признается ценной бумагой, сохраняя при этом доказательственное значение договора морской перевозки.
Для разрешения потенциальных коллизий норм при международных перевозках, в коносамент обычно включается оговорка о применимом праве. Стандартные проформы коносаментов, такие как Congenbill, содержат типовые коллизионные привязки, указывающие на применимость Гаагских правил или иной международной конвенции, действующей в порту отгрузки3.
Таким образом, при возникновении спора о применимом праве в случае ответственности перевозчика за утрату или повреждение груза первостепенное значение имеет содержание коносамента, в частности, наличие в нем оговорки о применимом праве. При отсутствии такой оговорки или в случае ее неоднозначности решение вопроса будет зависеть от правовой системы страны, в которой рассматривается спор, и от толкования коносамента как договора или ценной бумаги в рамках этой системы.
В контексте международных морских перевозок грузов вопрос определения применимого права при возникновении споров между перевозчиком и получателем представляет собой комплексную правовую проблему. Несмотря на наличие в стандартных проформах коносаментов коллизионных привязок, указывающих на применимость определенных международных конвенций (например, правил Гаага – Висби), судебная практика показывает, что такие оговорки могут игнорироваться.
В этой связи более вероятным представляется применение Гамбургских правил, обладающих более широкой сферой действия.
Нормативные положения Конвенции ООН о морской перевозке грузов1, согласно статье 2 данного международного акта, распространяются на трансграничные морские перевозочные контракты при условии, что пункт отправления либо назначения груза локализован в юрисдикции одного из государств – участников соглашения.
В подобных обстоятельствах юридически допустимо прибегнуть к аресту судна перевозчика на основании судебного постановления, причем это возможно даже в государстве регистрации судна по иску зарубежного грузополучателя. Однако в таком случае определение применимого права будет осуществляться согласно принципу lex fori (закон суда), что потенциально может привести к существенным временным и материальным издержкам для грузополучателя.
В российском законодательстве, в отличие от англо-саксонской правовой традиции, коносамент не рассматривается как договор между перевозчиком и грузополучателем. В соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ2 он определяется как ценная бумага, удостоверяющая имущественные права владельца на указанный в ней груз.
При судебном рассмотрении споров, касающихся несохранности груза при международных перевозках, где истцом выступает получатель, применяется нормативное положение, закрепленное в пункте 1 статьи 1219 ГК РФ3. Согласно данной норме, применимым считается право той страны, где имело место действие или обстоятельство, послужившее основанием для требования о компенсации ущерба.
В контексте международных морских перевозок грузов и возникающих из них споров о не-сохранности груза (ex delicto) преимущественно применяется право того иностранного государства, где был причинен вред. Данный подход (Виноградов, 2020) основывается на принципе lex loci delicti commissi и находит отражение в национальных законодательствах многих стран, включая Россию (п. 1 ст. 1219 ГК РФ4).
Международные конвенции в области морских перевозок, такие как Гаагские правила, Правила Гаага – Висби и Гамбургские правила, не содержат императивных норм относительно места проведения арбитражного разбирательства или применимого права. Этот вопрос оставлен на усмотрение сторон, что соответствует принципу «автономии воли сторон» (lex voluntatis), широко применяемому в современном международном частном праве.
Невзирая на вышеизложенное, доктрина автономии воли сторон не находит применения в ситуациях, когда происходит задержание морского судна по требованию. В подобных обстоятельствах юрисдикционная принадлежность определяется локацией ареста судна, а в качестве применимого права выступает правовая система страны судебного разбирательства (принцип lex fori) (Глинщикова, Виноградов, 2021).
В результате исследования установлено, что правовая природа договора морской перевозки груза характеризуется сложной структурой обязательственных отношений, включающей как договорные, так и иные элементы. При этом ключевое значение имеет правовой статус коносамента, который в российском гражданском праве квалифицируется преимущественно как ценная бумага, удостоверяющая имущественные права держателя на груз. Такой подход существенно отличается от англо-саксонской концепции, рассматривающей коносамент как договор перевозки, что создает необходимость дополнительной защиты имущественных прав добросовестных приобретателей коносаментов.
Анализ механизма гражданско-правовой ответственности морского перевозчика позволил выявить особенности распределения бремени доказывания при рассмотрении споров о несо-хранности груза. Установлено, что перевозчик несет повышенную ответственность как профессиональный участник предпринимательской деятельности, при этом основания освобождения от ответственности должны толковаться ограничительно в целях защиты имущественных интересов грузовладельцев как экономически более слабой стороны договора.
Исследование показало, что в современных условиях цифровизации торгового оборота требуется модернизация гражданско-правового регулирования отношений по морской перевозке грузов. В частности, необходимо законодательное закрепление правового статуса электронных коносаментов как цифровых прав, определение особенностей их оборота и защиты прав добросовестных приобретателей. При этом следует сохранить основополагающие принципы обязательственного права, обеспечивающие стабильность гражданского оборота и защиту имущественных прав участников договора морской перевозки.
Список литературы Анализ правового регулирования ответственности морского перевозчика в международном торговом мореплавании: современное состояние и перспективы развития
- Виноградов Д.А. Правовое регулирование международной морской перевозки пассажиров и багажа // Гражданское законодательство РФ: история и современное состояние, тенденции и перспективы. Краснодар, 2020. С. 63-66.
- Глинщикова Т.В., Виноградов Д.А. Развитие международно-правового регулирования ответственности морского перевозчика // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17, № 3. С. 141-145.
- Иванов М.В. К вопросу об определении понятия международной перевозки груза // Державинский форум. 2021. Т. 5, № 18. С. 25-33.
- Иванова Т.А. Международные морские перевозки грузов: правовое регулирование // Международное публичное и частное право. 2018. № 5. С. 14-16.
- Касаткина А.С. Международные морские перевозки грузов: актуальные проблемы правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 171-185.
- Нестеров М.Н., Скаридов А.С. Проблема коллизии международных правил морской перевозки грузов (Гаагские правила, Гаага - Висби, Гамбургские правила) // Океанский менеджмент. 2023. № 4 (22). С. 27-34.