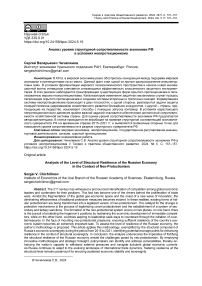Анализ уровня структурной сопротивляемости экономики РФ в условиях неопротекционизма
Автор: Чичилимов С.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В XXI в. в мировой экономике резко обострилась конкуренция между лидерами мировой экономики и претендентами на их место. Данный факт стал одной из причин распространения внешнеторговых войн. В условиях фрагментации мирового геоэкономического пространства и начала новой инновационной волны очевидным становится снижающаяся эффективность классического защитного инструментария. В этих реалиях наблюдается трансформация существующих форм скрытого протекционизма в легализованную версию неопротекционизма. Катализатором изменения защитных механизмов служат процесс легализации скрытого протекционизма и создание системы вторичных и третичных санкций. Формирование системы неопротекционизма происходит в двух плоскостях: с одной стороны, реализуются задачи защиты позиций гегемона сдерживанием хозяйственного развития ближайших конкурентов, с другой - страны, претендующие на лидерство, изыскивают способы с помощью запуска контрмер. В условиях нарастающего непротекционистского давления крайне важной задачей становится обеспечение достаточной сопротивляемости хозяйственной системы страны. Для оценки уровня сопротивляемости экономики РФ предлагается авторская методика. В статье проводится ее апробация на примере структурной составляющей экономического суверенитета РФ на временном отрезке 2015-2021 гг. и выявляются возможные опорные точки для повышения уровня сопротивляемости в разрезе структурного суверенитета РФ.
Мировая экономика, неопротекционизм, государственное регулирование внешнеторговой деятельности, санкции, скрытый протекционизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145460
IDR: 149145460 | УДК: 339.9.01 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.19
Текст научной статьи Анализ уровня структурной сопротивляемости экономики РФ в условиях неопротекционизма
Введение . Распад глобализационной модели развития мировой экономики, обозначившийся к началу третьего десятилетия XXI в., привел к существенному ослаблению позиций экономических лидеров – США и ЕС. Концепция обеспечения взаимного хозяйственного развития в рамках американо-китайских отношений, известная как Кимерика (Chimerica)1, суть которой заключалась в накоплении КНР больших валютных резервов в 1990–2020 гг. и инвестировании их в государственные ценные бумаги США, что поддерживало номинальные и реальные долгосрочные процентные ставки на заниженном уровне в Соединенных Штатах2, сошла на нет3. При этом к началу 2020-х гг., по мнению экспертов, мир оказался в понижательной фазе кондратьевского цикла, когда инвестиции направлялись в улучшающие технологии, а прорывных инноваций, способных кардинально изменить производство, не наблюдалось. В результате капитал из производственной сферы, где его эффективность (return on equity) снижалась, переливался в финансовый сектор, в котором с 2010-х гг. происходил системный перегрев4.
С учетом общего тренда на деиндустриализацию удержать или захватить хозяйственную инициативу в мировой экономике мог бы помочь запуск шестой инновационной волны, однако в условиях снижающейся энергоэффективности сначала требовалось провести процесс накопления ресурсов и факторов производства. Ведущие страны мирового хозяйства столкнулись с необходимостью запустить политику меркантилизма 3.0, сосредоточившись на аккумулировании промышленно-сырьевых, технологических и социальных факторов производства. Однако рикардианская модель мировой экономики, ставшая краеугольным камнем современного экономического порядка (Reinert, 2008: 51), и поддерживающие ее функционирование регулирующие правила ВТО не позволяли использовать протекционистские меры открыто, что привело к трансформации инструментов скрытого протекционизма в открытую легализованную форму неопротекционизма.
Цель данной работы заключается в выявлении новой формы протекционизма, зародившейся на стыке XX–XXI столетий, детерминант ее активизации и форм скрытого протекционизма в мировой практике, а также предложении путей повышения устойчивости российской экономики на основе апробации авторской методики оценки состояния ключевых для контрсанкционного противостояния составляющих суверенитета экономики РФ (на примере структурной составляющей).
Формирование системы неопротекционизма в XXI в . Разговор о неопротекционизме следует предварить краткой характеристикой детерминант его укоренения к третьему десятилетию XXI в. Прежде всего мы выделяем нарастающий антагонизм инноваций в рамках перехода от пятого научно-технологического уклада к шестому, деиндустриализацию стран глобального Севера и одновременную необходимость нео(ре)индустриализации глобального Юга, дробление мировых интеграционных и геополитических блоков вследствие деглобализации. Целесообразно начать разговор о трансформации внешнеторговой деятельности в условиях «новой реальности» с краткой характеристики выделенных детерминант.
Нарастающая конкуренция инноваций связана с глобальной общехозяйственной трансформацией мировой экономики, обусловленной началом повышательной фазы шестого кондратьевского цикла 2018–2050 гг. (Акаев, Коротаев, 2017: 9). Ключевым драйвером экономического роста должны стать инновации шестого научно-технологического уклада: NBIC-технологии5 или, по другой точке зрения, МАНБРИК-технологии6. Однако усиливающаяся «несбалансированность инноваций» (Mensch, Schnopp, 1980: 65) приводит к ситуации острого технологического антагонизма, когда активизируется конкуренция между равными по ценности для конечного потребителя инновациями предыдущего и грядущего научно-технологических укладов. Отсутствие явного технологического превосходства между старыми и новыми технологиями коренным образом отличает ситуацию от прошлых технологических переходов и идет вразрез с одним из принципов проведения успешной промышленной революции, выявленным К. Перес, согласно которому старые технологии служат «топливом и материалом» для более новых (2011: 42). Границы технологического перехода размыты настолько, что некоторые называют грядущую промышленную революцию пятой, а другие четвертой+ (Ozdemir, Hekim, 2018). Если ДВС в начале XX в. обладал бесспорно выигрышными характеристиками по сравнению с двигателями внешнего сгорания, то в XXI в. покупателю сложно отдать объективное предпочтение электродвигателю или ДВС. Другим примером может служить ТЭК. Освоение силы пара имело явные преимущества перед силой воды, а открытие мирного атома – перед неядерными электростанциями. Однако эффективность и ценность современных источников альтернативной и возобновляемой энергетики (при всей их технологичности коэффициент энергетической рентабельности планомерно снижается1) являются спорным вопросом в экспертной среде. Таким образом, глобальные кластеры старых и новых инноваций вступают в новый этап конкурентной борьбы, обнажая задействуемый при этом протекционистский инструментарий.
Ускоренная деиндустриализация 1970-х гг., сервисизация 1980-х гг. и финансиализация 1990-х гг. размыли промышленный фундамент стран Запада. У крупнейших экономик G20 за 1997– 2020 гг. доля сферы услуг расширилась с 47 до 62 %, а вес реальной экономики опустился ниже 35 %2. Например, пик промышленного производства в США последних четырех десятилетий пришелся на 2008 г., после чего начался период стагнации (несмотря на последующие два спада и подъема, выйти к уровню 2008 г. им так и не удалось)3. К 2022 г. ключевые промышленные отрасли США оказались недоинвестированы: добыча и разведка нефти и природного газа, производство оборудования для нефтедобычи, уголь и угольная энергетика, воздушный транспорт показывают отрицательное отношение чистых капитальных затрат к продажам. На грани инвестиционного голода (чистые капиталовложения варьируют от 0 до 5 % продаж) находятся сектора аэрокосмической, химической промышленности, железнодорожного транспорта, производства машин и оборудования, металлургии, горной добычи4. Хорошо иллюстрирует плачевное состояние промышленности страны ситуация с кораблестроением: ни один корабль, обслуживавший внешнюю торговлю США в 2021 г., не был построен в Соединенных Штатах (Дмитриев, 2022), а военно-морской флот находится на грани морального устаревания – до 90 % кораблей ржавеют5.
Одновременно с этим главный претендент на экономическую гегемонию – КНР – импортозависим в секторах высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения – на 50 %, полупроводниковой промышленности – 80 %6 и отстает от США и стран Запада по ключевым метрикам успешности экономики знаний. Так, по итогам 2021 г. в глобальном индексе человеческого капитала КНР находилась на 79-м месте, США – 21-м7, в глобальном инновационном индексе у США – 2-е место, КНР – 11-е8. В итоге по производительности труда на 2021 г. США занимали 6-ю позицию, Китай – 60-ю9. В сложившейся ситуации развитые страны все активнее ставят вопросы о развороте процессов деиндустриализации, а лидеры развивающегося мира – о проведении неоиндустриализации для диверсификации экономики и обеспечения стабильности ее роста, что в обоих случаях требует дополнительной защиты индустриального сектора со стороны государства.
В этих условиях происходит трансформация скрытого протекционизма на рубеже 2010– 2020-х гг. в неопротекционизм 2.0 вследствие одностороннего законодательного оформления на национальном и наднациональном уровнях вторичных и третичных инструментов экономического и внеэкономического давления на хозяйственную систему конкурента. Его ключевые отличия – выход за рамки исключительно экономической сферы, экстерриториальность и обоюдоострость применяемого инструментария. Его активное применение ведет к все большей фрагментации мировой экономики и усиливает глобальную неопределенность – замедление процесса расширения глобальных цепочек создания стоимости, усиление технологического неравенства стран в рамках новой инновационной волны, опережающий рост спекулятивной экономики над реальной.
Состояние структурной составляющей экономического суверенитета Российской Федерации . Проведенный нами анализ обострения глобальных вызовов объясняет причины утверждения в мирохозяйственной практике XXI в. инструментов неопротекционизма. Сочетание экономических и внеэкономических механизмов принуждения, все более активное использование вторичных и третичных форм давления, санкционирование собственных союзников за отход от «генеральной» линии в начале 2020-х гг. достигли беспрецедентных масштабов. В течение 2022 г. 34 страны глобального Севера только против России ввели 10 901 ограничение, или 67 % от всех рестрикций, установленных на тот момент в мире1. Понятно, что выдержать такое давление может только сильная хозяйственная система, обладающая должным уровнем сопротивляемости. Это объясняет практическую значимость разработки методики ее оценки.
Исследование возможностей контрсанкционной политики и направлений повышения уровня сопротивляемости экономики Российской Федерации в условиях неопротекционистского давления реализовано нами в разработанной авторской методике оценки уровня достижения экономического суверенитета РФ. Главная задача методики заключается в определении уровня достижения страной экономического суверенитета в трех основных для контрсанкционного противостояния сферах: промышленно-технологической, структурной, геоэкономической. Повышение сопротивляемости в каждой из них должно обеспечить устойчивый хозяйственный рост и стабильное поступательное развитие хозяйственной системы, под которым мы понимаем возможность национальной экономики максимально быстро и автономно трансформироваться, реагируя на внешние и внутренние вызовы. Для каждого из 30 индикаторов (по 10 для каждой составляющей экономического суверенитета), рассчитываются цепные индексы (на основе данных Росстата и международных статистических индикаторов) относительного базового периода. При положительном тренде на рассматриваемом отрезке индикатору присваивается значение «+», при отрицательном – «–». Значения по каждому блоку суммируются, и в зависимости от итоговой суммы положительных величин делается вывод о текущей фазе сопротивляемости экономики страны к шокам. Итоговая оценка в зависимости от количества положительных или отрицательных значений в каждой их трех групп индикаторов увязана с прохождением трех стадий достижения сопротивляемости: 5–6 положительным значениям соответствует фаза начальной сопротивляемости, 7–8 – неполной, 9–10 – полной сопротивляемости.
Принципы и научная новизна, на которых построена методика, призваны повысить как точность финальной оценки индикаторов, так и ее применимость на практике. Во избежание субъективизации данных для анализа используются только транспарентные материалы Росстата, Всемирного банка, ВТО, других официальных структур. Возможность прикладного использования авторской методики предопределяют адаптивность предлагаемого пакета индикаторов, который – при появлении новых вводных – может соответствующим образом корректироваться; подвижность временнóй шкалы индикаторов, свободно перемещаемой по оси (при условии сохранения логики построения исследуемых периодов); функциональность, позволяющая с помощью рабочего алгоритма применения методики определить позиционирование страны на оси выхода страны на устойчивую траекторию роста.
В данном исследовании мы предлагаем сосредоточиться на более подробном рассмотрении состояния структурной составляющей экономического суверенитета РФ. Задачей этой составляющей выступает обеспечение структурной модернизации экономики, без которой невозможны развитие собственных прорывных индустрий и закрепление на новых внешних рынках. Достижение полной сопротивляемости в рамках структурной составляющей экономического суверенитета РФ сопровождается серьезными капитальными вложениями рыночных игроков, направленными на укрепление внутреннего рынка, закрепление завоеванных ранее позиций на мировом рынке и их возможное приумножение. Кроме того, в вопросе структурной составляющей наиважнейшей задачей в условиях санкционного давления является недопущение формирования экономики институциональной инерции. Отечественные специалисты определяют ее как «продолжение “рolicy as usual” в новой, крайне нестабильной обстановке, примат широко понимаемой стабильности над развитием…» и оценивают вероятность формирования до 2030 г. (вместо иных возможных сценариев) в 45 %2. Поэтому первая подгруппа индикаторов оценивает уровень независимости индустриальной структуры через изменения в производительности труда в экономике РФ и производственно-размещенческой структуре, что позволяет определить динамику формирования собственного базиса обеспечения экономического роста. Вторая – рассматривает готовность фискальных и финансовых институтов к поддержке необходимой в условиях санкций социально-экономической модернизации. Третья – характеризует состояние техникотехнологической базы производства и потенциал ее обновления и восстановления.
Таблица 1 – Индикаторы состояния структурной составляющей экономического суверенитета Российской Федерации1
Table 1 – Indicators of the Russian Federation’s Structural Component of Economic Sovereignty
|
Индикатор |
Период, г. |
||
|
2016–2018 |
2019–2021 |
2015–2021 |
|
|
С1. Изменение динамики производительности труда в экономике РФ в 2015–2021 гг. |
– |
– |
– |
|
С2. Изменение доли обрабатывающей промышленности в ВВП РФ в 2015–2021 гг. |
+ |
– |
+ |
|
С3. Изменение доли пяти ведущих регионов в ВРП РФ в 2015–2021 гг. |
– |
– |
– |
|
С4. Изменение доли оборота предприятий МСП в общем обороте организаций в РФ в 2015–2021 гг. |
+ |
– |
– |
|
С5. Расходы консолидированного бюджета РФ на развитие экономики в контексте изменения средневзвешенной налоговой нагрузки в 2011–2021 гг. |
– |
+ |
– |
|
С6. Изменение доли валового накопления в ВВП РФ в 2015–2021 гг. |
– |
– |
– |
|
С7. Изменение доли собственных средств организаций в общем объеме инвестиций в РФ в 2015–2021 гг. |
– |
– |
– |
|
С8. Изменение доли прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в РФ в 2011–2021 гг. |
– |
– |
– |
|
С9. Изменение доли машин и оборудования в суммарном объеме инвестиций в основной капитал в РФ в 2015–2021 гг. |
+ |
– |
+ |
|
С10. Изменение степени износа основных фондов по отдельным видам экономической деятельности в РФ в 2015–2021 гг. |
– |
– |
– |
Результирующая индикаторов структурной составляющей экономического суверенитета РФ за 2015–2021 гг.: 2+/8– (на 2021 г. фаза начальной сопротивляемости не достигнута)
Индикаторы структурного суверенитета получили наибольшее количество отрицательных значений – 8 против 2 положительных. Наибольшую тревогу вызывает положение с готовностью хозяйственной системы к ускорению модернизации: в 2015–2021 гг. производительность труда возрастала медленнее относительно как оплаты труда, так и стоимости основных фондов, а доля валового накопления в ВВП РФ превзошла базисный уровень 2015 г. только один раз в 2021 г. в рамках статистической погрешности на 0,004 процентных пункта. Оценка инвестиционной активности неоднозначна: удельный вес собственных средств в общем объеме инвестиций стабильно повышался – с 50,22 % в 2015 г. до 55,43 % в 2021 г. – при столь же стабильном снижении доли прибыли в общем обороте организаций – с 31,85 до 27,37 % соответственно, а среднегодовой объем прямых иностранных инвестиций по итогам 2016–2021 гг. составил 61 % от показателя 2011–2015 гг. Отметим, что индикаторы изменения доли обрабатывающей промышленности в ВВП, оборота предприятий МСП в общем обороте организаций, удельного веса машин и оборудования в структуре инвестиций в основной капитал в РФ стали снижаться с 2019 г., тогда как в 2016–2018 гг. стабильно увеличивались. Преобладание к 2021 г. отрицательных значений индикаторов структурного суверенитета косвенно свидетельствовало о возможности попадания экономики России в ловушку институциональной инерции.
Таким образом, в отношении структурного суверенитета реальной выглядела опасность формирования экономики инерционного развития вследствие сдерживания государственных расходов на развитие хозяйственной системы при почти неизменном уровне налогового бремени и безучастности банковской системы к насыщению реального сектора дешевыми кредитами, что тормозило раскручивание внутренней инвестиционной активности – залога устойчивого экономического роста. Тем не менее увеличение доли несырьевого неэнергетического сектора в общем суммарном экспорте РФ и повышение объема инвестиций в машины и оборудование косвенно подтверждали готовность бизнеса к поддержке структурной модернизации, запустить которую полноценно без государственной поддержки и донастройки соответствующих инструментов и институтов не представлялось возможным.
Заключение . Преодоление вызовов выявленной нами агрессивной политики неопротекционизма и последствий санкционного давления возможно через повышение сопротивляемости хозяйственной системы подсанкционной страны. Ключевым условием при этом определено достижение трех составляющих экономического суверенитета в наиболее уязвимых для санкций сферах: промышленно-технологической, структурной и геоэкономической. Апробация авторской методики оценки их состояния показала, что на начало 2022 г. фазы начальной сопротивляемости экономике РФ достичь не удалось. Однако первые итоги 2023 г. указывали на наметившееся закрепление РФ в этой фазе практически по всем трем направлениям.
Подтверждением укрепления промышленно-технологического каркаса выступил рост обрабатывающей промышленности на 7,5 %, ускорившейся структурной перестройки – 10,5 % прироста инвестиций и увеличение доли запасов до 4,8 % ВВП, повышения геоэкономической устойчивости – снижение объема импорта до 19 % ВВП. Укрепление сопротивляемости экономики помогло обеспечить 3,6 %-е повышение ВВП (при этом 90 % прироста обеспечили несырьевые отрасли)1, что позволило экономике РФ выйти на 1-е место в Европе по ППС2. Возможность подтвердить факт закрепления экономики России в фазе начальной сопротивляемости появится с обнародованием итоговых данных официальной статистики за рассматриваемый период.
Список литературы Анализ уровня структурной сопротивляемости экономики РФ в условиях неопротекционизма
- Акаев А.А., Коротаев А.В. К прогнозированию глобальной экономической динамики ближайших лет // Экономическая политика. 2017. Т. 12, № 1. С. 8-39. DOI: 10.18288/1994-5124-2017-1-01 EDN: YGGHKL
- Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальное старение населения, шестой технологический уклад и мировая финансовая система // Кондратьевские волны. 2015. № 4. С. 107-132. EDN: UYFFCX
- Дмитриев С.С. Перезагрузка курса на восстановление промышленного потенциала США // Мировая экономика и международные экономические отношения. 2022. Т. 66, № 8. С. 61-69. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-8-61-69 EDN: KGPOAC
- Казанцев А.К., Киселев В.Н., Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. NBIC-технологии: инновационная цивилизация XXI в. М., 2012. 256 с. EDN: TMIJKL
- Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. М., 2011. 231 с. EDN: QULVFB
- Mensch G., Schnopp R. Stalemate in technology, 1925-1935: The interplay of stagnation and innovation // Historische Konjunkturforschung / ed. by W.H. Schröder, R. Spree. Stuttgart, 1980. Р. 60-74.
- Ozdemir V., Hekim N. Birth of Industry 5.0: Making sense of big data with artificial intelligence, "The Internet of Things" and next-generation technology policy // OMICS: A Journal of Integrative Biology. 2018. Vol. 22, no. 1. DOI: 10.1089/omi.2017.0194
- Reinert E. How rich countries got rich and why poor countries stay poor. L., 2008. 208 p.