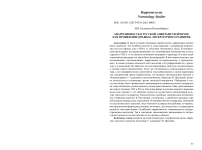Анарративность в русской эмигрантской прозе как проявление правила литературного развития
Автор: Кузнецов Илья Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
В прозе русской эмиграции первой волны нарративное начало было ослаблено. Это особенно заметно в сопоставлении с литературой метрополии того же периода, уже в 1920-е гг. отчетливо тяготевшей к эпосу. В эмигрантской прозе первых послереволюционных лет доминировала публицистика, а после середины 1920-х гг. ее сменили сочинения мемуарного характера. В плане своей текстовой организации эта проза была неоднородной. В ней можно выделить две составляющие: «воспоминания», нарративные по преимуществу, и «размышления», в основе которых находится текст-ментатив с его референцией не к хронотопу, а к мышлению. На практике эти текстовые формы зачастую сосуществовали в составе одного произведения. И все же интенсивность использования ментатива, с его специфическими стратегиями текстообразования, в целом характерна для эмигрантской прозы первой волны. Он является организующим началом в «Комментариях» Г. Адамовича, в воспоминаниях о Брюсове М. Цветаевой, активно используется в сочинениях других писателей-эмигрантов. Обращение к тексту-ментативу было проявлением закономерности развития русской литературы на этапе сближения художественного и внехудожественного слова, приходящемся на вторую половину XIX и XX вв. Текстовая форма ментатива передает движение мысли как таковое, и это свойство сделало ее неуместной в авторитарной культуре советского государства. Типологически подобные эмигрантским сочинения, как «Охранная грамота» Б. Пастернака, столкнулись с давлением цензуры и при публикации подвергались искажениям. В эмигрантской же литературе, свободной от идеологического давления, текст-ментатив оставался востребован, во-первых, как органическая форма рассуждения, во-вторых, как актуальная в литературном развитии текстовая форма. Ослабление нарративности сопровождалось распространением ментатива. Так в эмиграции эволюционная закономерность литературного процесса осуществлялась естественным образом.
Развитие русской литературы, эмигрантская проза, нарратив, ментатив, стратегии ментатива, г. адамович, м. цветаева
Короткий адрес: https://sciup.org/149135842
IDR: 149135842 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00035
Текст научной статьи Анарративность в русской эмигрантской прозе как проявление правила литературного развития
В прозе русской эмиграции первой волны нарративное начало было ослаблено. Это особенно заметно в сопоставлении с литературой метрополии того же периода, уже в 1920-е гг. отчетливо тяготевшей к эпосу. Что касается советской литературы, то ее эпические приоритеты объяснимы, поскольку победившая диктатура в культуре стремилась к созданию собственного «большого стиля». Что же касается эмигрантской прозы первых послереволюционных лет, то в ней доминировала публицистика: это опубликованные с задержкой «Окаянные дни» Ивана Бунина, «Петербургские дневники» Зинаиды Гиппиус, статьи Александра Куприна, Дмитрия Мережковского в зарубежной периодике. Однако после середины 1920-х гг. публицистику сменили сочинения мемуарного характера. «Различные виды мемуаристики <.. .> во многом определили специфику литературного процесса зарубежья» [Леденев 2013, 123]. Множество мемуаров в эти годы возникало и в России, «однако именно в эмиграции количественный рост мемуарной и автобиографической прозы приобрел лавинообразный характер» [Леденев 2013, 123].
В плане своей текстовой организации мемуарная проза была неоднородной. В ней можно выделить две составляющие, удачно обозначаемые как «воспоминания» и «размышления» (именно так, словосочетанием «Воспоминания и размышления», назвал в конце 1960-х гг. свою мемуарную книгу маршал Жуков). «Воспоминания» - это компоненты мемуаров, нарративные по преимуществу. В противоположность им, «размышления» имеют в своей основе текст-ментатив, то есть текст, формулирующий мысль. Теоретическая оппозиция нарратива и ментатива связана, в значительной степени, с их референциальностью: если «в нарративе доминирует референция к протяжённости хронотопа, то в ментативе - к мышлению как таковому и его речевой форме» [Максимова 2005, ПО]. На практике эти текстовые формы обыкновенно сосуществуют в составе одного произведения. Так обстояло дело и в эмигрантской литературе, где «в большинстве текстов между воспоминаниями, с одной стороны, и литературоведческим исследованием или критической работой, философским или политическим эссе, с другой, стерты жанровые границы» [Леденев 2013, 133].
И все же интенсивность использования ментатива в целом характерна для эмигрантской прозы первой волны. Остановимся на одном из показательных произведений этого круга, на книге Георгия Адамовича «Комментарии», составленной из записей почти за пол столетия начиная с середины 1920-х гг. Само ее название указывает на одну из стратегий ментативного текстообразования - стратегию комментирования. Принцип этой стратегии таков: «комментарий, данный к тому или иному элементу “чужого”, косвенно проясняет и весь его смысл» [Максимова 2005, 266]. По этому принципу построен текст книги Адамовича. Она состоит из восьмидесяти трех (в прижизненной редакции) эссеистических фрагментов, открываемых тезисом из интеллектуального обихода или прямой цитатой и продолжаемых повествовательным комментарием, направленным на то, чтобы усилить и прояснить именно исходную мысль. Исходный тезис анаррати-вен, он - «моментальная фотография мысли», как сам Адамович выразился в XLIII фрагменте. Приведем пример, фрагмент XLVII:
По Альберу Камю, мечта каждого подлинного писателя, «усвоив все то, что есть в “Бесах”, написать когда-нибудь “Войну и мир”». Или иначе: «ценой смирения и мастерства найти путь к общечеловеческому искусству».
Замечательно, что Камю упомянул о смирении, о скромности, - «humilite» во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти то же самое: «не достает скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, будто стесняясь признаться, что не любит его, вроде того как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и неприятия мира были, по-видимому, ему не по душе: о чем тут толковать, все и так ясно, «пойдем лучше чай пить», как говорит старый профессор в «Скучной истории» [Адамович 2016, 76].
Здесь в качестве исходного взят чужой тезис - призыв Альбера Камю «ценой смирения и мастерства найти путь к общечеловеческому искусству». В нем раскрывается слово «смирение», помогающее понять смысл целого. Это слово поясняется при помощи повествовательного комментария, однако и в самом этом комментарии повествование передает движение интеллектуального сюжета. Ведь «скромность», «карамазовские бунты», «Чайковский», «Шопен», чеховский «старый профессор» - это не нарративные актанты, а понятия культурного кругозора. И отношения между ними - не хронотопические, как это есть в нарративе, а смысловые, как оно есть в ментативе.
Еще один пример, фрагмент ЕЕ
У молодых есть все преимущества перед старыми. Все, кроме одного: старые знают, что каждое поколение приходит со своей правотой и своими иллюзиями. Молодые видят только свою правоту и склонны счесть её правотой окончательной.
Умный Базаров был бы ещё умнее, если бы догадался, каким тупицей прослывёт он у первых эстетов и декадентов [Адамович 2016, 80].
Адамович, конечно, не знал о стратегиях ментатива, систематизированных только в последние десятилетия. Однако пользовался он именно текстом-ментативом, что и попытался выразить в названии книги. С сегодняшней позиции видно: хотя книга называется «Комментарии», в приведенном фрагменте наглядно действует другая стратегия, «развитие», формула которой - «Тезисч жо„ - Антитезиссво„ - Синтез» [Максимова 2005 231]. В приведенном примере тезис - «У молодых есть все преимущества перед старыми». Антитезис - «у старых шире кругозор». Синтез - «умному Базарову недоставало взгляда из перспективы». Движение мысли начинается общим местом, приращивается собственным соображением относительно него и суммируется конкретным примером (что приближает фрагмент также к стратегии «применение», логико-смысловая формулировка которой - «Если... / то» [Максимова 2005, 179]).
Как видно, в «Комментариях» Георгия Адамовича использован текст-ментатив в ряде разновидностей, с задействованием целого спектра коммуникативных стратегий, специфически свойственных именно этому типу текста. Мы взяли «Комментарии» в качестве наиболее показательного примера, однако можем также использовать воспоминания Марины Цветаевой «Герой труда», написанные в 1925 г. в память о Валерии Брюсове. Пользуясь примененным выше различием, это не столько воспоминания, сколько именно размышления. Вот фрагмент из них:
Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд лестно, на второй -грустно. Творец, это все завтрашние творения, все Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое - неучтимое - в неучти-70
мости своей непобедимое: завтрашний день [Цветаева 2018, 204].
Это текст-ментатив, развивающий стратегию «толкования», формула которой - «Тезис „ означает Тезиссвой, потому что...». Цветаевское толкование, как свойственно этой стратегии, расширяет исходный тезис до мысли о неустранимой потенциальности творца в противовес законченности творения. Этим комментарием исходный тезис проясняется, так что в итоге возникает свой тезис-оценка: «На первый взгляд лестно, на второй - грустно».
Вот другой фрагмент цветаевских воспоминаний:
Знать свои возможности - знать свои невозможности. (Возможность без невозможностей - всемощность.) Пушкин не знал своих возможностей, Брюсов -свои невозможности - знал. Пушкин писал на авось (при наичернейших черновиках - элемент чуда), Брюсов - наверняка (статут, Институт) [Цветаева 2018, 205].
Здесь основная использованная стратегия - «применение», формула которой - «Если верно N е, то верно Мсвое». В качестве исходного, условно чужого, тезиса, берется мысль, что «знать свои возможности значит знать свои невозможности». Из нее выводятся утверждения, что Пушкин писал на авось, а Брюсов - наверняка. Это явное использование текста-ментатива.
Еще один пример, более развернутый и сложный, многочастный:
Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию - покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные - рождение), он им стал. Преодоление невозможного. Kraftsprobe. А избрание самого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии?) - не что иное, как единственный выход силы: самоборство.
И, уточняя: Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия, как поприще для самоборения.
* * *
Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, - человек, волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто.
Вперед, мечта, мой верный вол! [Цветаева 2018, 206]
Здесь на протяжении всего текста доминирует стратегия «переоформление», когда исходный тезис «покушение с негодными средствами» несколько раз формулируется иначе, уточняется, пока, наконец не звучит в форме яркого афоризма: «Поэзия как поприще для самоборения».
Затем этому исходному (условно чужому) тезису противопоставляется свой: «Бр/осов не поэт»,-выраженныйв вопросительной форме. Они синте-зируютсяв суждении: «Поэт,нонеБожъеймилостъю». Это стратегия «развитие», формула которой именно такова: «Тезисчужой~ Антитезиссво„- Синтез». Но это не все: для усиления синтезирующего высказывания вновь используется стратегия «переоформление», варьирующая получившееся суждение, пока не возникает новый афоризм: «Нечто создавший из ничто».
И наконец, приводится цитата из стихотворения самого Брюсова: «Вперед, мечта, мой верный вол!» В сущности, это новый шаг «переоформления», только вместо нового своего афоризма берется чужой, собственно брюсовский, образно и как нельзя лучше раскрывающий суть дела.
Так в этом интеллектуально насыщенном фрагменте на пространстве нескольких строк проявились разные текстообразовательные стратегии ментатива: «переоформление» (трижды) и «развитие». То, что перед нами текст-ментатив, таким образом, вне всяких сомнений.
Продолжая примеры, можно назвать книги «Подстриженными глазами» Алексея Ремизова, и поздний «Курсив мой» Нины Берберовой, и другие эмигрантские мемуары: текст-ментатив составляет в них существенную часть. Такая особенность русской прозы середины XX в. не только не является случайной, но и не связана с одной лишь эмиграцией как социокультурным феноменом. Ее причины - более глубокого свойства.
Обращение к тексту-ментативу было проявлением закономерности развития русской литературы на этапе интерференции, то есть сближения, художественного и внехудожественного слова, приходившемся на вторую половину XIX и XX вв. [Кузнецов 2011]. В продолжение этого этапа литературной эволюции художественная литература испытывала влияния со стороны иных типов речи. В середине XIX в. стало очень заметно возникновение нескольких линий напряженного взаимодействия: коллизия поэзии и фольклора проявилась у Островского и Некрасова, коллизия поэзии и религии - у Достоевского, коллизия поэзии и публицистики - у Салтыкова-Щедрина, коллизия поэзии и философии - в «Войне и мире» графа Толстого [Кузнецов 2020].
В дальнейшем эти коллизии не утратились, так что в продолжение XX в. сближение художественного и иных типов слова набирало силу. В частности, это видно в том, что в художественной прозе XX в. возрастает роль текста-ментатива. Ментатив - это форма не только научной речи, в него облекаются философия, публицистика, эссеистика самого различного характера, вообще всякая речь, передающая состояние мысли как таковое. Это его свойство оказалось очень актуальным в эмигрантской литературе, лишенной непосредственного контакта с естественной языковой средой и потому отличавшейся повышенной рефлективностью, интенсивностью самоуглубления.
Однако именно это существенное свойство ментатива - передавать состояние и движение мысли - быстро сделало его и неуместным в авторитарной культуре советского государства. Дело в том, что типологически схожие с эмигрантскими сочинения мемуарно-рефлексивного харак- тера, основанные на ментативе, в немалом количестве возникали и даже начинали публиковаться и в Советской России в конце 1920-х - начале 1930-х гг. Но их дальнейшая судьба не была благоприятной. Первое сочинение такого характера, «Шум времени» Осипа Мандельштама (1925), еще было встречено критикой более или менее снисходительно. Другое сочинение, «Охранная грамота» Бориса Пастернака (1929-1931), уже столкнулось с сильнейшим давлением цензуры и при публикации подверглось искажениям, при которых из него последовательно устранялись мента-тивные фрагменты, передающие неканонические мыслительные ходы и сопровождающую их образность [Кушнирчук 2015]. Еще была опубликована книга Бенедикта Лифшица «Полутораглазый стрелец», в которой восстанавливались обстоятельства возникновения русского футуризма. Публикацией в начале 1930-х гг. мемуарной трилогии Андрея Белого («На рубеже столетий», «Начало века», «Между двух революций») издание сочинений подобного рода прекратилось.
В эмигрантской же литературе, свободной от идеологического давления, текст-ментатив оставался востребован. Георгий Адамович писал свои «Комментарии» до самых 1960-х гг, то же и Нина Берберова. Ментатив оставался востребован именно как актуальная в литературном развитии текстовая форма. С позиций теоретической истории русской литературы видно, что ослабление нарративности сопровождалось распространением ментатива как органической формы рассуждения, размышления. Так в эмиграции эволюционная закономерность литературного процесса осуществлялась естественным образом.
Список литературы Анарративность в русской эмигрантской прозе как проявление правила литературного развития
- Адамович Г.В. Собрание сочинений: в 18 т. Т. 14. М.: Дмитрий Сечин, 2016.
- Кузнецов И.В. Теоретическая история, диалектика и риторика русской словесности // Вопросы литературы. 2011. № 3. С. 181-224.
- Кузнецов И.В. Русская художественная литература: 1840-1890-е годы. Новосибирск: НГТИ, 2020.
- Кушнирчук Н.П. Б. Пастернак под пером цензуры ("Охранная грамота", 1929-1931) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. № 4. С. 92-96.
- Леденёв А.В. Литература первой волны эмиграции: основные тенденции литературного процесса // Русское зарубежье: История и современность: Сб. ст. Вып. 2. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2013. С. 116-136.
- Максимова Н.В. "Чужая речь" как коммуникативная стратегия. М.: Издательский центр РГГУ, 2005.
- Цветаева М.И. Чужой жизни - нет: автобиографическая проза, воспоминания о современниках, статьи. М.: АСТ, 2019.