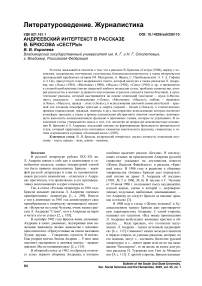Андреевский интертекст в рассказе В. Брюсова "Сестры"
Бесплатный доступ
В статье доказывается гипотеза о том, что в рассказе В. Брюсова «Сестры (1906), наряду с чеховским, пушкинским, тютчевским, толстовским, блоковским интертекстом, а также интертекстом произведений зарубежных авторов (М. Метерлинк, А. Франц, С. Пшибышевский, Э. Т. А. Гофман и Э. По), присутствует пласт андреевского текста, который восходит к таким рассказам Л. Андреева, как «Ложь» (1901), «Молчание» (1900), «Мысль» (1902), «Смех» (1901) и др., и проявляется в сходной проблематике (мотив запретной любви и возмездия за нее, проблема одиночества, которая реализуется в мотивах душевного опустошения и раскола личности (мотив безумия)), в архитектонике рассказа, который выстраивается на основе оппозиций (молчание - звуки («Молчание»), реальность - галлюцинации («Ложь», «Молчание», «Мысль»), любовь - ненависть («Ложь», «Мысль»), правда - ложь («Ложь»), в использовании цветовой символики белый - красный для создания атмосферы трагедии и смерти (черный - белый («Ложь»)), в стилистических приемах (парцелляция, градация, повторы и др.), многократное использование которых нагнетает атмосферу трагедии, а также в приеме одушевления абстрактного понятия «молчание», начинающего выполнять коммуникативную функцию в противовес словам, которые ее утрачивают. В заключение статьи утверждается мысль о том, что, несмотря на непростые межличностные отношения В. Брюсова и Л. Андреева, последний повлиял на формирование брюсовского прозаического стиля, который характеризуется сочетанием элементов мистического реализма, символизма и готики и проявляется в романе «Огненный ангел» (1907).
В. я. брюсов, андреевский интертекст, раскол личности, оппозиции молчание - звуки, правда - ложь, живое - неживое
Короткий адрес: https://sciup.org/147247620
IDR: 147247620 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.14529/ssh250110
Текст научной статьи Андреевский интертекст в рассказе В. Брюсова "Сестры"
В русской литературе рубежа ХIХ–ХХ вв. Л. Андреев заявил о себе как о талантливом и самобытном писателе, однако литературной элитой это было принято неоднозначно. Брюсов – корифей русской литературы и один из основоположников русского символизма – относился к Андрееву критически, что проявлялось в его противоречивых высказываниях в адрес оппонента.
Так, в статье «Русская литература за 1901 год» Брюсов называет рассказы Л. Андреева «ценным приобретением» литературы [1, с. 209]. Вместе с тем в дневниках за 1901 год демонстрирует свое пренебрежение к творчеству начинающего писателя: «Встретил на улице Чулкова, очень хвалил рассказ Л. Андреева “Стена”, но я в Андреева не верю и читать его не стану» [2, с. 105].
В сентябре 1902 года Брюсов вновь упоминает Андреева в своих дневниках, подчеркивая свое нежелание завязывать личное знакомство с начинающим писателем: «Присутствовал на одном заседании Худож. кружка. … Говорились глупости. Я молчал. Еще упорнее молчал Леонид Андреев … У него лицо газетного мастерового и длинные волосы – провинциализм. Мы не познакомились» [2, с. 124].
В обзорной статье за 1902 год Брюсов отмечает успех первого сборника Андреева, в котором особенно выделяет рассказ «Бездна». В последующих отзывах на произведения Андреева русский символист указывает на достоинства повести «Жизнь Василия Фивейского» и рассказа «Красный смех». В 1906 году в рецензии к сборнику товарищества «Знание» Брюсов дает отрицательный отклик на драму Л. Андреева «К звездам» (1905, № 5 и 1906, № 6). В письме к Г. Чулкову от 19 июня 1906 г. он называет пьесу неудавшейся, плохой вещью, сцены в которой «…мертворож-денные, ходульные, шаблонные, доказывающие, … что Андрееву не следует браться за писание драм, как и стихов» [3].
В 1908 году в статье «“Жизнь человека” в Художественном театре» Брюсов дает противоречивую характеристику Андрееву. С одной стороны, называет его талантом: «Все новые произведения Л. Андреева возбуждают внимание критики и общества. ... Надо признать, что это вполне заслуженно: Л. Андреев – талант истинный, выдающийся» [4, с. 113]. Символист хвалит молодого писателя в первую очередь за удачные рассказы, которые, по его мнению, могут «…составить богатство русской литературы» и «…имеют право если не на так называемое “бессмертие”, то на жизнь не менее долгую, чем рассказы И. Тургенева или Гюи де Мопассана» [4, с. 113]. С другой стороны, Брюсов называет
Л. Андреева человеком неумным и необразованным [4, с. 113].
О пьесе «Жизнь человека» Брюсов и вовсе отзывается отрицательно. С этого момента конфликт между писателями обостряется и сопровождается нападками друг на друга. В ответ на критические замечания Брюсова Андреев отказывается публиковать символиста в альманахе «Знание». В этот же период в письме М. Горькому от 21–22 марта 1908 г. Андреев довольно резко отзывается о своем оппоненте: «Брюсов холоден, как рассудительный покойник на двадцатиградусном морозе» [5, с. 112]. Андреев подчеркивает позерство и наигранность в поведении Брюсова, а также шаблонность в поэзии: «Он очень талантлив, но лишь там, где он аппарат для писания стихов, искусный механизм. … Там же, где он должен быть человеком, он просто скотина» [5, с. 112].
Таким образом, Брюсов признает талант Андреева, но не ставит его на один уровень с собой и другими символистами. Тем не менее, популярность Андреева, которая к 1905 году набирает силу, активная полемика вокруг его произведений, а также необычный стиль молодого писателя накладывают отпечаток и на творчество Брюсова, что особенно ярко проявляется в цикле «Земная ось» (1907) [6], в частности, в рассказе «Сестры» (1906).
Важно отметить, что Брюсов не скрывает заимствований, сделанных им во входящих в книгу произведениях, о чем пишет в предисловии к «Земной оси»: «Я сознаю, что в таких рассказах, как “Республика Южного Креста” или “Теперь, когда я проснулся…”, слишком сильно сказывается влияние Эдгара По, … что в “Сестрах” явно повторена манера Ст. Пшибышевского и т. д.» [7, c. 4]. Однако А. Блок в своей рецензии на «Земную ось» Брюсова ставит под сомнение слова автора о повторении в рассказе «Сестры» манеры Ст. Пшибышев-ского: «У Пшибышевского нет такой холодной и пристальной способности к анализу, которой обладает Брюсов» [8, с. 640]. По мнению Блока, отличительной особенностью стиля Брюсова является глубокий анализ душевных переживаний персонажей.
Этот детализированный психологизм, пугающая атмосфера полубезумия в рассказе символиста напоминает манеру Андреева, которую отмечал сам Брюсов: «У Л. Андреева есть свой стиль. Его узнаешь с первых строк без подписи. … У Л. Андреева есть умение изображать, рисовать четко, выпукло и ярко» [4, c. 113–114].
Обзор литературы
Архитектоника рассказа В. Брюсова «Сестры» отличается, по мнению ряда исследователей (Л. А. Дубинина [9], С. П. Ильев [10], С. А. Гул-лакян [11], Н. Я. Абрамович [12], В. В. Королева [13] и др.), соединением автоинтертекстуальных и «чужих» мотивов – А. П. Чехова, А. С. Пушкина,
Ф. И. Тютчева, Л. Н. Толстого, А. А. Блока, М. Метерлинка, А. Франца, С. Пшибышевского, Э. Т. А. Гофмана, Э. По и др.
На наш взгляд, важным пластом «чужого» текста в «Сестрах» В. Брюсова является андреевский текст, который восходит к таким рассказам Л. Андреева, как «Ложь» (1901), «Молчание» (1900), «Мысль» (1902), «Смех» (1901) и др. Следует отметить, что пласт андреевского интертекста завуалирован Брюсовым другими «чужими» текстами, что связано с непростыми отношениями между писателями.
Методы исследования
В статье интертекст Л. Андреева в рассказе В. Брюсова «Сестры» исследуется с помощью сравнительно-сопоставительного, интертекстуального и биографического методов анализа художественных произведений.
Результаты и дискуссия
Андреевский интертекст в рассказе Брюсова «Сестры» проявляется в сходной проблематике, которая воплощается в мотивах запретной любви и возмездии за нее («Мысль», «Бездна»), в проблеме одиночества, реализуемой в мотивах душевного опустошения и раскола личности (мотив безумия («Мысль»)), в архитектонике рассказа, который выстраивается на основе оппозиций, которые создают резкий контраст, усиливая его трагическое звучание: молчание – звуки («Молчание»), реальность – галлюцинации («Мысль»), жизнь – смерть («Ложь», «Молчание», «Мысль»), любовь – ненависть («Ложь», «Мысль»), правда – ложь («Ложь»), в использовании цветовой символики белый – красный для создания атмосферы трагедии и смерти (у Андреева белый – черный («Ложь»)), в стилистических приемах (парцелляция, градация, повторы и др.), многократное повторение которых нагнетает атмосферу трагедии, а также в приеме одушевления абстрактного понятия – молчания (оно оживает, начинает говорить, в то время как слова, которые герои произносят, утрачивают коммуникативную функцию, превращаясь в ничего не значащие звуки («Молчание», «Ложь»)).
Главным мотивом в рассказе Брюсова «Сестры» становится мотив наказания за предательство в любви. В центре повествования – история любви трех сестер к одному молодому человеку. Эта любовь разрушительная, связанная с мотивом запретной любви, а также с возмездием за нее. Брюсов демонстрирует, как любовь может опустошить душу человека. Сестры любят Николая по-разному. Любовь Лидии – покорная, нежная, любовь – жертва, страдание. Любовь Кэт – невинная, всеобъемлющая: «Я хотела любви беспредельной, безграничной» [7, c. 89]. Любовь Мары – любовь-страсть: «наша любовь была влечением тел, ... стихийной тайной» [7, c. 96]. Брюсов демонстрирует, как каждый тип любви переходит от обожания к ненависти.
Оппозиция любовь – ненависть является одной из ключевых у Андреева. Он детально анализирует аномалии человеческих отношений, грань, когда человеческое в душе стирается и побеждает темное и звериное. Например, в рассказе «Бездна» Андреев показывает, как нежное чистое чувство Немовецкого трансформируется в дикое и порочное, а в рассказе «Ложь» страсть и ревность к героине превращают главного героя в убийцу.
В рассказе Брюсова «Сестры» центральное место занимает оппозиция правда – ложь . Героини ревнуют Николая друг к другу, поэтому лгут: «…все это ложь. Он знал, он чувствовал, что она говорит неправду» [7, c. 94]. Отношения между героями, построенные на лжи и ревности, приводят к духовному омертвению. Лидия: « И я, покоряясь, стала как автомат. … Все, что было во мне моего, личного, ты вырвал. Ты опустошил мою душу» [7, c. 93]. Николай, окруженный страстью и ревностью сестер, запутывается сам. Чувствуя, как его личность расщепляется, он пытается бежать от этих порочных связей.
Оппозиция правда – ложь неоднократно возникает и в произведениях Андреева [14]. Например, в рассказе «Ложь» главный герой хочет отомстить героине за ее предательство. Архитектоника рассказа Андреева сконцентрирована на обыгрывании понятий ложь и правда . Главный герой ищет правды, которая для него ассоциируется с добротой и любовью: «Сжимая ее руки, плача, я молил ее о жалости – и о правде» [15, с. 273]. Ложь же для него становится символом одиночества и предательства. Именно нехватка любви и равнодушие окружающих превращают героя в зверя.
Концепт ложь у Брюсова и у Андреева образует сходную лексико-семантическую группу, которая включает в себя следующие элементы: ложь, обман, измена. Недопонимание между героями приводит к конфликту, назревающему годами. Брюсов создает это противостояние, как и Андреев (рассказы «Ложь», «Молчание»), с помощью оппозиции слово – тишина. У Брюсова выстраивается антиномия: слово человека – это ложь, слова говорят, чтобы скрыть правду, молчание – это правда, но оно демонстрирует конфликт между героями и накаляет атмосферу. Сестры находятся в оппозиции друг к другу. Они практически не разговаривают, так как между ними серьезный конфликт: «Сестры медленно и молча вернулись в залу. … Не знали, как заговорить» [7, с. 83], это порождает отчуждение, душевную пустоту. Молчание становится красноречивее слов, оно выражает ненависть, отражает конфликт («Сестры молчали, но им казалось, что они обмениваются незначащими словами» [7, с. 83–84]), подавляет и, пронесенное сквозь призму времени, усиливает противостояние, поэтому любое слово может стать роковым: «И было довольно одной капли, … одного слова, … чтобы эти три женщины вскочили с криком ужаса, упали бы без чувств или бросились друг на друга» [7, с. 84].
Молчание Николая символизирует пропасть и непонимание между героями («Николай все еще не мог произнести ни слова» [7, с. 84]. Молчание опустошает человека, порождает чувство одиночества, сводит его с ума. Например, Лидия чувствует себя «...женщиной, обезумевшей в несказанном для нее» [7, с. 86]. Она мечтает уйти из этой комнаты «…к свету, к голосу, к людям!» [7, с. 92]. Для нее поместье и дом ассоциируются с тюрьмой, с местом заточения души.
Важно отметить, что герои не молчат совсем. Они говорят, но эти слова являются продуманными, формальными, как у Николая («Он спешит проговорить приготовленный, заученный ответ» [7, c. 84]). Такая речь усиливает напряженную атмосферу, демонстрирует невысказанность чувств и страданий, приводит к усилению конфликта, который должен прорваться либо в слове, либо в действии.
На фоне общего молчания предметы неживого мира начинают «говорить» (тишина «звенит»). Внешние звуки не только звучат, но и оживают («Ветер вскрикивал» [7, c. 85], «Вьюга стонала» [7, c. 85]), получают материальное воплощение («Звон колокольчиков обретает свое тело» [7, c. 84]). Говорят и мертвые тела, мимикой выражая то, что не сказали словами: «Лицо Лидии было кротко, и … губы спрашивали: уже? – но … лицо Кэт отвечало убийству: пусть!» [7, c. 95]. Семантика слова в рассказе то сужается, то расширяется, как пространство («…за каждым сказанным словом угадывали всю бесконечность его значения» [7, c. 97]).
Оппозиция молчание – звуки , проявляющаяся в смещении коммуникативного значения со слов на неживые предметы и звуки, – прием, который в разных вариантах разрабатывал Л. Андреев. Например, молчание в одноименном рассказе выполняет двойную функцию. С одной стороны, символизирует отсутствие жизни: отец Игнатий «…садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом» [15, с. 200]). С другой стороны, молчание по контрасту с мертвым окружающим миром одушевляется, оно звучит, душит героя, преследует его и т. д.: «Оно поднимается от зеленых могил; … тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами» [15, с. 205]).
У Андреева так же, как у Брюсова, на фоне молчания героев коммуникативную функцию начинают выполнять предметы, которые выражают эмоции, говорят то, что люди не могут выразить словами, демонстрируют отчаяние, тоску («всхлипнув, лестница гнулась и стонала» [15, с. 196]). Предметы одушевляются (молчащая клетка), они хранят память о живых (ноты Веры).
Такой же прием использует Андреев и в рассказе «Ложь», где мир предстает лишенным зву- ков. Мертвая тишина пытается заглушить последние звуки, которые еще звучат в комнате, – это звук часов, который «…дрожал и плакал» [15, с. 272]. Вместо людей мир вещей начинает разговаривать: «…они [окна] тихо говорили мне своим синим и красным языком» [15, с. 273].
У Брюсова вслед за Андреевым тишина получает семантику смерти, что усиливается описанием комнат (кабинет и гостиная), дома и поместья, которые представляют собой пространство (локус), где время остановилось и царит атмосфера смерти. Не случайно неоднократно подчеркивается удушливая атмосфера внутри дома, сводящая с ума, наполненная мертвой тишиной. Герои пытаются вырваться из этого пространства, но не могут: «…выбегала [Лидия] раздетая на снежный двор и бросалась ничком на крыльцо, наземь» [7, с. 86]. Или: «Маре было душно. Она … вышла на крыльцо» [7, c. 85]. Николай пытается уехать, но возвращается.
Описание зимней природы ассоциируется со смертью, тоской и безнадежностью, ее звучание сравнивается с «чудовищным вальсом». Николай чувствует разрушительную, сводящую его с ума атмосферу комнаты, проникнутую ненавистью, страданиями и смертью: «Страшно … когда они [мысли] приобретают вдруг независимую жизнь, нападают беспощадно» [7, с. 92].
Подобный прием использует Андреев в рассказе «Молчание». Интерьер дома отца Игнатия отражает отчуждение, непонимание в отношениях героев. Например, комната Веры имеет семантику смерти: «Все предметы … издавали непрерывный запах тления» [15, с. 202]). Так же пусто и страшно выглядит гостиная: «…кресла стояли точно мертвецы в саванах» [15, с. 198].
Важное символическое значение для создания атмосферы трагедии и смерти у Брюсова имеют цвета, которые в рассказе выстраиваются на контрасте красное – белое. Красный – символ страсти, любви, белый – символ отчуждения, холода, смерти. Однако в комплексе эти цвета усиливают семантику смерти (красный на белом фоне ассоциируется с кровью на снегу из разбитой головы Лидии).
Цветовые прилагательные – важный символический прием у Андреева. Например, оппозиция черное (темное) – белое в рассказе Андреева «Ложь» создает атмосферу смерти. Мрачное, темное, черное – основной фон произведения. Однако и белый, который присутствует в описании героини (белая шея, белый профиль) и окружающего пространства («белело мертвое поле» [15, с. 272]), имеет семантику смерти.
Как у Андреева герой рассказа «Ложь» от ревности сходит с ума, так и у Брюсова описывается разрушительное воздействие на персонажей чувства ревности, которое переходит в безумие и заканчивается убийством. Вся атмосфера трагической ночи наполнена иллюзорностью, действия происходят на гране галлюцинаций и реальности: «Он шел за ней по темным комнатам, как лунатик, и думал о том, как бред изменяет вид всех предметов» [7, c. 95].
В рассказе «Сестры» проявлением состояния помешательства становится истерический смех: «Она [Лидия] тоже хохотала в страшном ликовании истерического смеха» [7, с. 94]. Этот прием ярко представлен у Андреева, в произведениях которого беспричинный смех, хохот часто демонстрируют безумие (рассказ «Мысль»): «…я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал» [15, с. 587]. Смех главного героя рассказа Андреева «Мысль» пугает его, вводит в состояние ужаса, приводит к осознанию потери контроля над собой и заканчивается настоящим безумием. У Андреева смех становится символом духовной смерти и пустоты, поэтому главный герой рассказа «Ложь», совершив убийство, смеется.
Признаком омертвения души в «Сестрах» Брюсова являются глаза, которые отражают духовную смерть: глаза Мары в начале рассказа выглядят как мертвые («…неподвижные глаза Мары» [7, c. 85]). Подобный прием находим у Андреева в рассказе «Мысль», где глаза отражают духовное падение протагониста. В начале повествования глаза Керженцева («красивые, прямые, – и им верили» [15, с. 576]), в финале – «тусклые, незрячие» и отражают духовную смерть героя: «…он взглянул на публику … из пустых орбит черепа на них взглянула самая равнодушная и немая смерть» [15, с. 626].
Образ мертвых глаз, которые символизируют духовную пустоту, появляется у Андреева и в рассказе «Ложь»: «…в окна молча глядело что-то большое, мертвенно-белое» [15, с. 274]. Главная героиня имеет красивые, но неживые глаза с темным непроницаемым зрачком.
Выводы
Несмотря на непростые отношения между Л. Андреевым и В. Брюсовым андреевский интертекст находит отражение в рассказе «Сестры» русского символиста и проявляется в сходной проблематике: любовь и смерть (мотив запретной любви между Николаем и сестрами и возмездие за нее), проблема одиночества (мотив душевного опустошения), раздвоение, раскол личности (мотив безумия). Рассказ Брюсова имеет характерный для Андреева принцип построения, основанный на оппозициях (молчание – звуки, реальность – галлюцинации, жизнь – смерть, любовь – ненависть, правда – ложь, красный – белый) и концентрации стилистических приемов (одушевление абстрактного понятия, цветовая символика, парцелляция, прием градации, повторы и др.), которые создают атмосферу полубезумия и смерти. Выделение андреевского интертекста в рассказе Брюсова является важным аспектом для понимания истоков и специфики формирования брюсовского прозаического стиля, который характеризуется сочетанием элементов мистического реализ- ма, символизма и готики и найдет яркое воплощение в романе «Огненный ангел» (1907).
Список литературы Андреевский интертекст в рассказе В. Брюсова "Сестры"
- Анчугова, Т. В. Комментарии к статье В. Брюсова «Об отношении к молодым поэтам» / Т. В. Анчугова // Литературное наследство. – 1976. – Т. 85. – С. 205–209.
- Брюсов, В. Я. Дневники 1891–1910 / В. Я. Брюсов ; подг. к печати И. М. Брюсова ; примеч. Н. С. Ашукина. –М.: М. и С. Сабашнико-вы, 1927. – 203 с.
- Брюсов, В. Я. Письма В. Я. Брюсова Г. Чулкову / В. Я. Брюсов. – 1907. – URL: http://az.lib.ru/ b/brjusow_w_j/text_1907_pisma_k_chulkovu.shtml (дата обращения: 15.07.2024).
- Брюсов, В. Я. Собрание сочинений: в 7 т. / В. Я. Брюсов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – Т. 6. Литературно-критические статьи 1893–1924 годов. Из книги «Далекие и близкие». – 601 с.
- Л. Андреев о «литературном распаде» // Литературное наследство. – М.: Институт миро-вой литературы им. A. M. Горького Российской академии наук. – 1932. – Т. 2. – С. 101–116.
- Ларина, Н. А. Миромоделирующие универсалии в малой прозе Леонида Андреева и Валерия Брюсова: автореф. дис.... д-ра филол. наук / Н. А. Ларина. – М., 2018. – 38 с.
- Брюсов, В. Я. Земная ось (Рассказы и драматические сцены) / В. Я. Брюсов. – М.: Скорпи-он, 1907. – 166 c.
- Блок, А. А. Собрание сочинений: в 8 т. / А. А. Блок. – М. ; Л.: Гослитиздат [Ленингр. отде-ление], 1960–1963. – Т. 6. Проза 1918–1921. – 556 с.
- Дубинина, Л. А. Поэтика новеллы В. Брюсова «Сестры (из судебных загадок)» / Л. А. Дубинина // Вестник Омского государственного педаго-гического университета. Гуманитарные исследования. – 2015. – № 3 (7). – С. 37–40.
- Ильев, С. П. Мифопоэтическая основа книги рассказов «Земная ось» Валерия Брюсова / С. П. Ильев // Серебряный век: диалог культур: сборник научных статей по материалам научной конференции, посвященной памяти проф. С. П. Иль-ева. – Одесса: Астропринт, 2007. – С. 15–34.
- Гуллакян, С. А. Предметный мир в сбор-никах В. Я. Брюсова «Земная ось» и «Ночи и дни» / С. А. Гуллакян // Брюсовские чтения 1996 года: сборник статей ; под ред. С. Т. Золян [и др.]. – Ереван: Лингва, 2001. – С. 53–61.
- Абрамович, Н. Я. Валерий Брюсов, «Земная ось». Рассказы и драматические сцены / Н. Я. Абрамович // Современное обозрение. – 1907. – № 2. – URL: http://az.lib.ru/a/abramowich_n_j/text_1907_ brusov_oldorfo.shtml (дата обращения: 15.07.2024).
- Королева, В. В. «Гофмановский комплекс» в цикле рассказов и драматических сцен В. Я. Брюсова «Земная ось» (1901–1907) / В. В. Королева // Вестник Костромского государственного университета. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 113–119.
- Королева, В. В. Гиперконцепт «ложь» в рассказе Л. Андреева «Ложь» / В. В. Королева // Вестник Владимирского государственного университета. Серия: Социальные и гуманитарные науки. – 2021. – № 4 (32). – С. 50–54.
- Андреев, Л. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. Андреев. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 1.