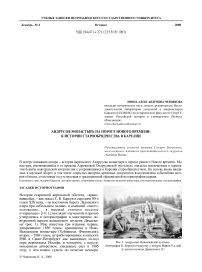Андрусов монастырь на пороге нового времени: к истории старообрядчества в Карелии
Автор: Чернякова Ирина Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
Посвящается светлой памяти Сакари Вуористо, многолетнего издателя просветительского журнала «Karjalan Heimo» В центре внимания автора - история карельского Андрусова монастыря в период раннего Нового времени. Монастырь, именовавшийся в те времена Адреяновой Ондрусовской пустынью, оказался вовлеченным в перипетии борьбы новгородской митрополии с сохранявшимся в Карелии старообрядчеством. На основе вновь вводимых в научный оборот, в том числе открытых автором, архивных документов восстановлена событийная история обители, столетиями отсутствующая в традиционной официальной историографии церкви.
История карелии, история церкви, старообрядчество, андрусов мужской монастырь, источниковедение, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14749483
IDR: 14749483 | УДК: [94(47)
Текст научной статьи Андрусов монастырь на пороге нового времени: к истории старообрядчества в Карелии
ЗАГАДКИ ИСТОРИОГРАФИИ
История старинной карельской обители, «красовавшейся, – как писал Е. В. Барсов в середине 80-х годов XIX века, – на восточном берегу Ладожского озера при небольшом заливе» и имевшей «местоположение… в высшей степени веселое и чарующее» [14; 1], выглядит изученной и прочно утвердилась в историографии в многократно повторенной версии валаамского игумена Дамаски-на1 (рис. 1). Мне известны три издания: первое, датированное 1856 годом, хранящееся в НовоВалаамском монастыре (Хейнавеси, Финляндия); второе – 1884 годом, аттрибутированное в каталоге РНБ в Санкт-Петербурге как вышедшее из-под пера иеромонаха Иосифа; и четвертое, с неустановленным авторством, увидевшее свет в 1905 году, о чем можно судить по пометке цензора

Рис. 1. Андрусово-Николаевская пустынь.
Литография П. Бореля по рисунку с натуры Марии Р.д..вой из книги игумена Дамаскина [11]
иеромонаха Александра [11], [12], [13]. Это, по всей видимости, последнее из дореволюционных переизданий труда о. Дамаскина, с названием «Андрусова-Николаевской пустыни Олонецкой губернии историческо-статистический очерк», как и предыдущие, подверглось объявленным на обложке исправлениям и дополнениям лишь в завершающей части, имеющей заголовок: «Внешний вид, нынешнее состояние и достопримечательности обители». Первая часть, касающаяся истории монастыря до его упразднения в 1764 году, повторялась в одной и той же интерпретации в дореволюционных изданиях и продолжает повторяться в наши дни, спустя еще почти целый век после поворотного для России 1917 года.
Все три издания абсолютно раритетны и практически неизвестны широкой научной общественности, будучи малодо сягаемыми. И если в Ново-Валаамском монастыре, обитающем ныне в одном из бывших крестьянских хуторов в финляндской провинции Хейнавеси, нам не слишком охотно, но все же разрешили сделать фотокопии иллюстраций из древнего сочинения о . Дамаскина, то в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, куда удалось специально с целью ознакомления с одноименной брошюрой попасть на один день, просьба о ксерокопировании вызвала столь негодующую реакцию хранителя, что об этом не могло быть и речи.
Имеющееся же в отделе краеведения Национальной библиотеки РК в Петрозаводске IV издание было обнаружено мною в некотором смысле мистическим образом. Книжка почему-то не была отражена в каталоге и поэтому как бы не существовала. И когда Сакари Вуористо, главный редактор (в 1984–2006 годах) финляндского просветительского альманаха «Karjalan Heimo», с которым нас связывали творческие и дружеские отношения и с которым вместе несколько лет тому назад было решено написать для его журнала серию авторских – его и моих – очерков об этой полузабытой карельской монашеской обители2, сообщил, что наткнулся в Интернете на упоминание среди имеющейся в Петрозаводске дореволюционной краеведческой литературы книжки о монастыре Адриана Ондрусовского, в то время как я прошу его съездить в Хейнавеси и сделать там ее копию, с этим непросто было примириться. Издание в отделе нашли быстро, продемонстрировав незаурядный профессионализм. Но обращаться с просьбой о его разыскании можно было только настаивая на том, что, будучи упомянутым в некогда опубликованном в Интернете перечне редких книг, должно же оно существовать хоть в каком-то виде на полке. Библиотекари не могли поверить в возможность кем-то созданной ситуации, которая в конце концов была исправлена, но так и не нашла объяснения.
Всякий раз история Андрусова монастыря, написанная на Валааме в середине позапрошло- го века, дополнялась сведениями о непосредственно предшествовавшем очередному переизданию (пересказу) книжки периоде жизни и деятельности обители. Относительно недавно, будучи востребованной в рамках большой просветительской работы Петрозаводской епархии, история эта, в которой достоверные исторические события тесно переплетены с безосновательными утверждениями, была изложена снова. Ю. Н. Кожевникова сообщила в дополнение к еще раз повторенной, ставшей уже традиционной, версии, что по известным ей данным к 1904 году «пустынь находилась далеко не в цветущем состоянии», что в 1917 году она была закрыта и что на ее «бывших землях организовали хозяйство имени Володарского» [20]. Эта лапидарная констатация – все, что имеется в историографии о последнем тридцатилетнем периоде истории монастыря, предшествовавшем его упразднению.
Не касаясь здесь целого спектра исследований [15], [27], [21], уделяющих внимание личностям, чьими деяниями творилась история, – самому основателю св. Адриану Ондрусовскому (Андрей Завалишин, владелец «волостки Мики-форовской» [7; 72] - позднее «Микифоровское поместье Завалишина» в Кондушах [9]) и возродившему Андрусову пустынь в первой четверти XIX столетия после периода полного запустения валаамскому игумену Иннокентию (местный уроженец, крестьянский сын Моруев из деревни Рижкалицы Туксинского прихода (см. подробнее: [27; 82–97])), отметим, что в историографии хорошо известны имена целой плеяды настоятелей, активно благоустраивавших монастырь на предпоследнем этапе его существования: Тихона (1817–1820), Кирилла (1820–1822), Иосифа (1826–1835), Феодора (1835–1852), Мефодия (1852–1857), Власия (1857), Гавриила (1857– 1859), снова Мефодия (1859–1875), Арсения, Моисея, Зосимы, Антония, Савватия (1875– 1878) и Геннадия (1878–1883). Некоторые из них были выдающимися строителями и игуменами, о чем и во втором, и в четвертом переизданиях «историческо-статистического очерка» содержится должная информация [12; 16–21], [13; 19–23]. Там же находим описание архитектурноландшафтного облика монастырской усадьбы (более полное – во II и в значительной степени сокращенное – в IV) на начало 1880-х годов, а также перечисление реликвий – древнейших икон, старых книг, памятных подарков и подношений (см.: [13; 26–34]).
Приходится констатировать, что при всем внимании к деталям существования Андрусова монастыря после его возрождения в XIX веке и повторяемым из очерка в очерк полулегендарным подробностям, относящимся ко времени его основания, по крайней мере два периода буквально «выпали» из поля зрения авторов известных нам изданий. Относительно второго – наступившего сразу после игуменства иеромонаха
Геннадия, который управлял одновременно Сян-демской и Андрусовской пустынями в конце 1870 – начале 1880-х годов, можно заметить, что в целом причины исследовательского пренебрежения объяснимы. Но вот что касается первого – включившего в себя особый, выделяющийся в истории всей Европы как «долгий, – по емкому выражению Фернана Броделя, – XVII век» (цит. по: [22; 162]), датируемый примерно пятнадцатью, а то и шестнадцатью десятилетиями (с 1550-х по 1710-е годы), невнимание к нему всех, кому так или иначе приходилось писать об Андрусовском монастыре, ставит вопросы, ответы на которые отнюдь не так очевидны.
Итак, что именно известно о монастыре и его существовании до эпохи Петра Великого? В историографии наличествует целый ряд изложений царских грамот, даровавших обители ежегодное хлебное содержание, освобождавших иноков от взимания пошлин на дорогах при провозе соли и других монастырских запасов, а также отводивших им богатые рыбой тони на Ладожском озере. В целом они подтверждаются опубликованной Е. В. Барсовым копией. Знаком подлинности для историка явилось известие о проведенной игуменом Иннокентием сверке известного ему списка со снятой в 1808 году для новгородского митрополита Амвросия с хранившегося в монастыре оригинала («с привесной печатью красного воска… на шелковом красном шнурке» – согласно описанию документа, данному самим игуменом) копией жалованной грамоты Василия Шуйского (см. приложение к [14; 17–19]). Все цитаты из этих грамот вновь приведены недавно в обстоятельном Ин-тернет-очерке Н. М. Коняева [21]. Не углубляясь еще раз в пересказ известных фактов о крещении дочери царя Ивана Грозного Анны (ошибочно именуемой Анастасией Н. М. Коняевым и Ю. Н. Кожевниковой) преподобным Адрианом (1549), его мученической гибели на обратном пути и предании земле спустя два года обнаруженного монахами тела (1551), о разорении пустыни в ходе Ливонской войны (1579), краем своих баталий захватившей Карелию («выжжен немцами», – сообщает Макарий [23]), и о том, что братия «около 1585 года получала ругу на 15 человек» [23], заметим, что этим традиционно и ограничивается событийная история Андрусова монастыря в наиболее ранний период его существования.
Общепринятое знание о следующем периоде – между только что указанным известием от 1585 года и восстановлением обители усилиями валаамского игумена Иннокентия в 1718 году, то есть с последней четверти XVI до первой четверти XVIII столетия, сводится к трем кратким заключениям, сделанным о. Дамаскиным и в почти дословной передаче «кочующим» из издания в издание. Пусть они прозвучат снова, так как свою задачу я вижу в том, чтобы, опираясь на архивные и опубликованные тексты, наполнить общепринятые и многократно повторенные в историографии констатации действительным историческим содержанием. Как будет показано, простая поверка их информацией широко известных документальных источников ведет к немедленному и убедительному опровержению.
Первое утверждение: «…братство пустыни в первое еще пятидесятилетие ее существования было довольно значительно и управлялось игуменами, но к сожалению ни которого из них имени неизвестно…» (цит. по.: [13; 9]). Второе – «…в несчастные времена междуцарствия и Онд-русов монастырь, несмотря на отдаленное свое положение, испытал на себе лютость врагов нашего отечества: храмы Божии в нем ограблены, иноки частью побиты, частью разогнаны! Место святое запустело…» (цит. по.: [13; 16]). Третье – «…собравшееся братство начало уже сглаживать следы истребления, но нападения шведских и польских ватаг опять разорили его почти до основания. Около 1687 года в Ондрусовских развалинах устроилась девичья уже обитель под управлением строительницы Феклы, которой с сестрами дана была сборная книга для возобновления разрушенной пустыни. Однако ж и это общество божиих тружениц вскоре принуждено было искать убежища в ином месте…» (цит. по.: [13; 16]).
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Размышления относительно первого утверждения начнем с замечания о значительности братии. Оно, несомненно, базируется на информации о руге , рассчитанной на полтора десятка человек. «В 7056 [1546] году, – утверждал о. Дамаскин, – царь Иоанн Васильевич особенною грамотою повелел дьякам Новгородским "с Рождества Христова с году на год ругу вместо милостыни давать: игумну – 5 коробей ржи, 5 коро-бей овса, да 2 пуда соли, да гривну новгородскую денег; на 15 братов – на брата по 2 коробьи ржи, по 2 коробьи овса, да по пуду соли, да по 2 алтына денег; да Пречистой и Николе Чудотворцу – 2 пуда меду на канун, по 2 пуда воска на свечи, да пять коробей пшеницы на просвиры"» (цит. по.: [13; 9]). Монастырь, таким образом, во второй половине XVI века должен был получать существенную поддержку от государства. Всего в Андрусову пустынь, если верить цитате, в пересчете на современные меры ежегодно поступало 30 коробей , то есть не менее 6300 литров, зернового хлеба (5250 – ржи и овса, и еще 1050 – пшеницы); 17 пудов , то есть почти 277 кг, соли; два пуда меда (33 кг) и четыре пуда воска (66 кг), а также без малого две сотни «новгородок» (194 деньги) серебром.
Что же до неизвестности имен управителей Андрусова монастыря, то это не соответствует действительности: они сохранены писцовыми описаниями 1563 и 1582/83 годов. По свидетельству составителей первого из них – писцов
Андрея Лихачева и подьячего Ляпуна Добрынина, в начале 60-х годов XVI века игуменом был Иона, он руководил жизнью и деятельностью обитавших здесь 17 старцев [8; 75]. Спустя двадцать лет, в начале 1580-х годов, в недавно разоренном монастыре, при церкви Николы Чудотворца, уцелевшей, вероятно, только потому, что была редчайшим в Карелии тех времен не деревянным, а каменным храмом, буквально на пепелище сожженной церкви Введения Богородицы и восьми келий жили и трудились, восстанавливая свою обитель, черный поп Сергей и два сумевших пережить трудные времена старца, что было засвидетельствовано писцом Андреем Плещеевым и подьячим Семеном Кузминым [7; 72].
Второе утверждение из процитированных выше и вовсе не отражает реальной ситуации в монастыре во времена междуцарствия. Хотя, по-видимому, он подвергался нападениям бродивших по всему Северо-Западу России бандитских формирований в лице всякого рода авантюристов из шведов, литовцев, казаков, поляков, мечтавших поживиться в разоренном Смутой государстве, но место святое вовсе не запустело. Как позволяют утверждать записи писца Мины Лыкова и подьячего Якова Еуфимьева, сделанные в 1620 году, вскоре после заключения Столбовского мирного договора (1617), положившего конец войне с ближайшим соседом России в карельском приграничье – Швецией, обитель каким-то чудом не слишком по страдала. Лишь была сожжена в 1613/14-м (в год избрания царем Михаила Романова) окружавшая ее деревянная ограда. Обе церкви – стоявший здесь издавна каменный храм Николы Чудотворца и вновь возведенная на месте сожженной в 1579 году шведами деревянная церковь Введения Богородицы – на этот раз уцелели. Не были разрушены ни трапезная, ни коровницкий, ни конюшенный дворы. Внимательные наблюдатели, посланные из центра с целью отследить состояние всех православных церквей и монастырей в карельском приграничье после только что минувшего лихолетья – составить дозорную книгу, записали, что Андрусов монастырь обитаем, в нем семь келий, в которых черный священник Левкей и «пять братов да четыре человеки слуг» [2; 48].
Наконец, третье из приведенных выше некогда сформулированных и утвердившихся в историографии заблуждений заслуживает особенно пристального внимания, так как исключает из истории монастыря сразу целый век. Недавно оно повторено вновь, в еще более упрощающей ход событий интерпретации: «Едва только начала во сстанавливаться Ондрусова пустынь, как пришло Смутное время. И снова жгли храмы обители, снова убивали иноков… И снова пытались во сстановить пустынь при царе Михаиле Федоровиче, но снова пришло военное разорение… В 1667 году на развали- нах Ондрусовской пустыни попытались устроить девичью обитель…» [21]. (Все отточия в цитате соответствуют авторскому тексту Н. М. Коняева. – И. Ч.)
Однако, как только что показано с опорой на свидетельства современников, к началу XVII столетия Андрусов монастырь был восстановлен и в драматичные времена лжедмитриев уцелел. И уж совершенно нелепой в свете исторического материала, дошедшего до наших дней из тех времен, выглядит применительно к его состоянию в 1687 году (у Н. М. Коняева – ошибочно 1667-й) характеристика «Ондрусовские развалины». Впрочем, действительно, за два года до этого – в 1685-м – монастырь был «переустроен» из мужского в женский. Но лучше обо всем по порядку.
АНДРУСОВ МОНАСТЫРЬ В ПЕРИПЕТИЯХ «ДОЛГОГО XVII ВЕКА»
Впервые «манастырь на Ладожском озере под Ондрусовым носом на Салме Ондрусова пустыня» упоминается в изученных нами исторических материалах начала 60-х годов XVI века. Писцовая книга сохранила свидетельство посетившей обитель кадастровой комиссии о том, что старцы (17 человек) и коровник Микитка во главе с игуменом Ионой вполне успешно сочетали молитвенное служение с хозяйственным обеспечением своего существования. Пашни вблизи самого монастыря не было. Однако зерновой хлеб, по-видимому, все-таки сеяли, так как два ближайших к монастырю острова Городцкой 3 и Ондрюсов числятся в документе как «пашенные». При ко-ровницком дворе был распахан еще один небольшой участок, возможно, занятый под огород. Иноки активно ловили рыбу и неводом, и сетьми, и особой местной снастью, именуемой котцы . Благо, по жалованной грамоте за пустынью были закреплены несколько богатых тонь: Вяшкичи, Габежна, Сухая Лудоша. Очень хорошо ловился сиг, особенно в осеннюю пору. Для монастырского молочного стада накашивали немалое количество сена («пол-70 копен», что значит 65), причем сенокосы держали как на издавна разработанных пожнях в Ламбе, Ятезме и Андрусове , так и на так называемом новотеребе – вновь расчищенной от кустарника болотной ниве. Держали монахи также мельницу одноколесную на речке Велдуше , работавшую, по всей видимости, не только на их монастырский обиход [8; 75].
Писцовая книга, сообщая, что «Никола Чюдо-творец да другая церковь теплая Введенье Пречистые» стояли здесь уже в 1563 году [8; 75], удостоверяет тем самым древность двух храмов Он-друсовой пустыни. Обычно в старой историографии с этой целью прибегали к цитированию надписи, которая была выбита на пожертвованном монастырю в самом начале 1550-х годов из Новгорода 11-пудовом колоколе : «Лђта 7060 сентябрія 4 дня новгородецъ Василій Iонинъ Ко- телниковъ в Ондрусову пустынь Введенія Пре-святыя Богородицы да Святителю Николђ Чудотворцу» (цит. по: [13; 12])4.
Спустя двадцать лет, согласно следующей по времени составления писцовой книге 1582/83 года, монастырь только-только начал восстанавливаться от постигшего его несчастья – разорения, принесенного сюда на исходе Ливонской войны, в 1579-м, шведами (для писца – в соответствии с общепринятой манерой того времени – это были немцы ). Однако ни молитвенная, ни хозяйственная жизнь не прекратились. Церковь Богородицы была сожжена, но каменный храм Николы Чудотворца уцелел. Семь келий «братц-ких» и келья игумена, так же как монастырская ограда, были сожжены, но в стоявшем за монастырем коровницком дворе срочно возводили какое-то подобие обитаемых помещений, и на строительстве уже вовсю трудились «черный поп Сергей да два старца», сумевшие каким-то образом выжить в тяжкие времена нашествия. По-прежнему не было при самом монастыре пашни, но «пашенные острова» числились за ним, как и раньше, и те же 65 копен сена исправно ставились на пожнях и на новотеребе как запас для монастырских коров на зиму. Обращает внимание, что промысловые угодья явно разрослись за прошедшие с прошлого писцового описания два десятилетия. Теперь у здешних монахов появилась собственная «утечная ловля» – можно думать, место, где регулярно ставили силки на дикую птицу. И еще более успешно, чем ранее, занимались они рыболовством, не только сохранив за собой упоминавшиеся ранее тони в Габежне и Сухую Лудошу , особенно производительные по осени для ловли сига, но приобретя еще право постоянно промышлять в устье реки Видлицы. Тут уже и неводами, и сетьми, и еще одним местным приспособлением – гарвами – ловили круглый год, причем не только всякую мелкую рыбу типа корюшки, но и сигов, и даже лососей. Промысел был настолько выгодным, что монахи взяли на оброк у новгородского архиепископа рыбное место на Вид-лице вверх по течению за погостом («повыше Егорья Святого») с тем, чтобы установить заколы («кол черезо всю реку») на эту высоко ценимую уже тогда рыбу. «А оброку, – зафиксировал писец Алексей Плещеев, – плотят владыке за ту рыбную ловлю 6 рублев московскую» [7; 72].
Монастырская усадьба Андрусовой пустыни не упоминается в массовом описании территории Карелии, имевшем место в 1616–1619 го-дах5, тем не менее сама писцовая книга проливает свет на это загадочное отсутствие. При внимательнейшем чтении каждой строчки доступного мне в осыпающейся ксерокопии текста той части документа, что касается вотчины новгородского митрополита в Ильинском Олонецком погосте, удалось обнаружить сколь искомое, столь и неожиданное известие. Понять эту фразу может только имеющий опыт работы с массо- выми источниками раннего Нового времени. Обычно исследователь в поисках интересующей его информации просматривает многие сотни заполненных убористой скорописью страниц, следуя исключительно рубрикации, введенной составителями – писцами, так как читать подряд бесконечные перечни имен и лапидарные перечисления угодий, присутствующие в этих источниках, составленных для кадастрового налогообложения в виде тысяч однообразных констатаций, занятие малоувлекательное и как будто бы малорезультативное. (Замечу в скобках, что представленное Петром Воейковым и дьяком Иваном Льговским писцовое описание «мана-стырским и помесным землям», сделанное ими по результатам инспектирующего объезда За-онежских погостов в 1616–1617 годах, вызвало, по-видимому, недовольство в Москве своей неполнотой, так как спустя два года, в июле 1619-го, здесь опять оказался один из них – дьяк Иван Льговский с целью составить книги письма [и меры] «вново» по монастырским вотчинам [10; 2–2 об.].) Как показывает анализ текста, нарекания были справедливыми. Писцы «пропустили» целый ряд вотчин как новгородских, так и местных монастырей. Можно догадаться, по каким причинам. Слишком велик был соблазн для монастырских властей утаить от кадастра вновь приобретенные, а нередко и са-мозахваченные в ситуации безвременья Смуты, хозяйственные угодья. Теперь дьяк Иван вынужден был добавить к наличествовавшим в первоначальном тексте писцовой книги заонежским и прионежским вотчинам Хутыня, Вяжицкого, Юрьева, Тихвинского, Важеозерского, Алексан-дро-Свирского и Палеостровского монастырей еще описания вотчинных владений Антониева, Колмова, Росткина, Муромского и Машеозерского монастырей, дополнив также перечни владений хутынских и александро-свирских старцев ранее частично опущенной информацией.
Появился он и во владениях новгородского митрополита – «владычной вотчине на Олонце» – с той же целью ревизии и уточнения кадастра. Благодаря данному визиту история располагает информацией социально-экономического характера, уточненной с интервалом в два года относительно целого ряда деревень и владений. Так, Иван Льговский успел добавить в свой реестр «монастырек митрополей на озере на Сян-зе» – Сяндемскую обитель, сохранив для нас ценнейшее свидетельство современника: «…а в нем церковь Троица Живоначальная, древяна клецки, стоит без пенья; да в келье чернец Вавило, пита-етца милостынею, да семь мест келейных, а кельи сожгли и старцов побили немцы» [10; 17–17 об.]. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, как близко дьяк Льговский был от Андру-совской обители, но, к сожалению для исследователя, в эту часть территории Ильинского погоста, составлявшего вотчину новгородского митрополита, он так и не попал (рис. 2).

Рис. 2. Александро-Свирский монастырь, Андрусова и Сяндемская пустыни на карте Новгородской межевой конторы 1785 года
Из сетований самого писца, сохранившихся в тексте описания, становится понятно, что его «тое митрополичьи вотчины приказщик и старосты и крестьяне дозирати деревень и земли досматривать и мерить не пустили...». В ответ на доношения ( отписки ), передаваемые им в Москву, – можно думать, неоднократно, – и зафиксированные в Поместном приказе дьяком Иваном Мартемьяновым о том, что ему «мерить изнова не дали и самого его... из вотчины вон выслали», Иваном Льговским был в конце концов получен указ, согласно которому «тое митрополичью вотчину дозирати не велено, а велено ехать ко государю к Москве» [10; 65–66].
Следующее известное мне документальное известие датируется 1620 годом. Оно является несомненным свидетельством того, что «монастырь Ондрусов на озере на Ладожском» продолжал существовать, несмотря на драматичные времена междуцарствия, изобиловавшие нападениями наводнивших северо-западные пределы России бандитских шаек. Здесь по-прежнему те же церкви: каменная Николы Чудотворца и деревянная Введения Богородицы. Появилась «трапеза» – вероятнее всего, так писец Мина Лыков обозначил отдельно стоявшее здание со- ответствующего предназначения. Тут же семь келий для обитания братии: пятерых монахов и четырех служек под руководством черного священника Левкея. Все так же нет у монастыря специально распаханных полевых пашен. Но кроме коровницкого двора упомянут «двор конюшенной», значит, в дополнение к молочному стаду были заведены лошади. Монахи всецело обеспечены рыбным промыслом: за ними закреплены ловли на Ладожском озере Вяскиничи и Чюнбури. Правда, сил у братии для поддержания хозяйства в должном порядке, по-видимому, недоставало. Дозорная книга бесстрастно сообщает, что ворота у скотного двора «огнели» и что так и оставалась руинированной сожженная «немецкими людьми» еще семь лет тому назад монастырская ограда [2; 48].
Совершенно необъяснимым выглядит отсутствие упоминания об Андрусовом монастыре в писцовой книге, которая была составлена в западной половине Заонежских погостов князем Иваном Долгоруковым и подьячим Постником Раковым спустя еще восемь лет, в 1628–1631 годах. Заметим, что до сего дня ни подлинник, ни какая бы то ни было копия этого документа в архивных хранилищах не найдены. Большая удача уже то, что историография располагает своего рода конспектом источника, опубликованным в Олонецких губернских ведомостях в середине XIX века [9]. Публикация носит ак-центированно выборочный характер и держит в фокусе внимания именно церковное землевладение и имущественное состояние монастырей, включая даже подробнейшие сведения о внутреннем убранстве храмов. К сожалению, проверить ее полноту в оставшейся вне поля зрения издателя части не представляется возможным.
Можно было бы решить вслед за предшественниками, что Андрусова пустынь по какой-то причине перестала существовать. Об этом как будто бы свидетельствует ее отсутствие не только в упомянутой публикации, заведомая конспективность которой оставляет место для сомнений, но и в платежнице , составленной на монастырские вотчинные, то есть населенные зависимыми крестьянами, земли Оштинского и Водлозерского станов по тем же писцовым книгам Долгорукова и Ракова. Усомниться в полноте данного текста не позволяет высокий авторитет издавшего документ С. Б. Веселовского. Тем не менее весомым аргументом в доказательство исчезновения этого митрополичьего монастырька с тогдашней карты Карелии отсутствие упоминания о нем в платежнице служить не может. Ведь никаких платежей в государеву казну с нее и не полагалось. В документе ясно сказано: «...а помещитцкая и монастырская пашня в живущие выти и в сошное письмо не положена, потому что тое землю помещики пашут сами на себя, а монастырскую пашню пашут на монастыри монастырьские слушки и денетыши» [1; 229]. К тому же вполне вероятно, все еще действовал запрет для государственных дьяков и подьячих на въезд в митрополичью вотчину в Ильинском Олонецком погосте. Еще и десяти лет не прошло с того момента, как владыка получил милостивое повеление государя о прекращении каких бы то ни было контролирующих проверок в его землях на Ладожском озере, что известно из неожиданно донесенных до наших дней писцовой книгой сетований раздосадованного дьяка Льговского, записанных им не ранее июля 1619 года.
В конечном счете наши сомнения, приведшие к архивным разысканиям, не могли не увенчаться успехом. О том, что монастырь продолжал существовать на протяжении «долгого XVII века», неопровержимо свидетельствует целый ряд других документов.
Во-первых, имеется в виду дошедшая до наших дней внутримонастырская книга записей прихода и расхода, день за днем составлявшаяся ответственными андрусовскими старцами в том же самом году, когда князь Долгоруков с помощниками ездили по погостам, выявляя в каждой деревне обитаемые дворы и глав семей в них, а также учитывая придеревенские крестьянские пашни и угодья для определения их в тягло. Неукоснительно фиксировавшиеся в обители колоритные записи о тратах и приобретениях сохранились в виде документа соответствующего формуляра за 1628/29 год [5 а]. Кроме того, мне известны еще семь таких же приходорасходных книг Андрусова монастыря: за конец 1630 – начало 1660-х годов.
Во-вторых, нельзя не упомянуть об отдельных, но от того не менее значимых эпизодах из того же периода существования пустыни, открытых при чтении документов канцелярии олонецких воевод, архивная коллекция которой в настоящее время интенсивно публикуется на самом современном уровне средствами Интернета в руководимой мною Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии, действующей с 2004 года на историческом факультете ПетрГУ. В том, что коллективные усилия в поисковой архивной работе много более продуктивны, чем индивидуальные, студенты и соискатели, работающие над своими темами в рамках ИЛЛМИК, убеждались уже не раз. Отмечаю и я с абсолютной признательностью информативное для моих размышлений об исторических судьбах Андрусова монастыря сообщение Е. Сусловой и М. Проскуряковой об одном из дел, попавших в поле их зрения в процессе подготовки к опубликованию. Из челобитной солдатского высыльщика Андрея Измайлова, адресованной на Олонец воеводам Терентию Васильевичу Мышецкому и Дружине Ивановичу Протопопову в последней декаде ноября 1662 года, ясно, что несуществовавший (согласно официальной историографии) местный монастырек содержал в Олонецкой крепости такое большое подворье «на приезд», что в нем можно было разместить более тридцати человек «салдат и салдатцких отцов и братьи» с охраной (еще двадцать человек)6. Речь шла о «розборных и полковых беглых», которые «не дошед Великого Новагорода з дороги збежали», были в окрестностях Крошнозера и Коткозера «по лесом переиманы» и на стане в Горской волости собраны. Из-за того, что «те салдаты приведены без лошадей» и их в ожидании должного состояния дорог («покаместа зимний путь ставитца»), – объяснял порученец, – ему «в Горской волости беречь неким», так как занятым в их поимке олонецким стрельцам «кормитца нечим», потому что «хлеба на медные деньги купить не добудут», он всех солдат в сопровождении охранников отправил на Олонец для содержания под стражей «до отпуску в полки». «А будет в тюрьме места нет, – предупредительно и со знанием дела писал Андрей Измайлов, предвидя возможные осложнения для олонецкой администрации по прибытии полусотни голодных и уставших после многокилометрового перехода по осенней распутице местных крестьян-карелов (пашенных солдат) и их конвоиров (стрельцов), – поставить их на Ондрусовском подворье» [5 б].
Наконец, главное, что мне посчастливилось обнаружить в ходе архивной поисковой работы относительно Андрусовой пустыни, это исчерпывающе полные, детальные описания всего, что находилось в самом монастыре на рубеже эпох, как раз в рамках столь значимой в отечественной истории эпохи Петра Великого. Этими документальными текстами, именуемыми в архивной описи «переписными книгами», никого ранее не заинтересовавшими в составе знаменитой коллекции рукописных книг Научного архива СПб ИИ РАН (к. 115), собственно, и был спровоцирован мой интерес к давнему, – как оказалось, совершенно неизвестному, и не просто замолченному, но, вероятнее всего, сознательно скрытому, – эпизоду локальной карельской истории, важному в контексте истории Новгородской епархии и Российской церкви в целом, в один из полных внутреннего драматизма периодов ее существования.
ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ОБИТЕЛИ
С целью показать, когда на самом деле старинная карельская Андрусова пустынь пережила период полного, не поддающегося объяснению небрежения и запустения, не связанного ни с каким внешним военным нашествием, а также визуализировать масштаб постигшей ее драмы, предлагаю мысленно перенестись сначала в один из дней июля 1685 года, а затем в самое начало ноября 1715 года. Сделать это позволяют два впервые вводимые в научный оборот архивных документа. Они близки по формуляру, продиктованному одной и той же задачей – «переписать», то есть осмотреть и зафиксировать «в том монастыри в церквах божиих… образы, и ризы , и книги, и колокола, и всякую церковную утварь, и монастырское строение, и братью, и служебников, и в житницах молоченой хлеб, и к нынешнему… году насеяную рожь яровой хлеб, и на конюшенном, и на воловьем дворех всякой скот, и монастырские мельницы, и пашенную землю, и сенные покосы, и рыбные ловли, и всякие угодья». Результаты этих детальных обследований, или, пользуясь термином, имевшим хождение в тот же период в Западной Европе, визитаций, были зафиксированы в «Книге переписной Новодевичьего Введенского Андрусова монастыря» и в «Книге переписной Андрусова монастыря архимандрита Александро-Свирского монастыря Иллариона» соответственно в 1685 и в 1715 годах, с интервалом ровно в 30 лет [3], [4].
Итак, в 1685 году игумену Александро-Свирского монастыря Ермогену велено было Корнилием, митрополитом Великого Новгорода и Великих Лук, ехать в подведомственный ему Андрусов монастырь с указом «о устроении в нем девича монастыря». Событию такого рода, конечно же, должна была предшествовать полная ревизия. И она была произведена с участием целой комиссии, в которую вошли протопоп главного храма Олонца – церкви Св. Троицы – Лев Иванов, олонецкий же священник Григорий Павлов, а также прибывший из Новгорода подьячий, служивший в Казенном приказе новгородской Св. Софии, Иван Викулов. Он, по-видимому, и явился составителем документа, списком которого в скорописи XVII века мы располагаем. Сохранился титульный лист с названием: «193-го году книги Введенского Ново-девича Вондрусова монастыря Ондрияновы пустыни что на Ладоском». Скреп и заверок не обнаружено, лишь запись копииста, удостоверяющая, что в оригинале имелись подтвердительные рукоприкладства членов комиссии: «…у подлинных книг руки игумена Ермогена и протопопа и десяцкого…» [3; 16]
Что же увидели в Андрусовой пустыни прибывшие со столь чрезвычайными полномочиями члены высокой комиссии? Главная церковь, стоявшая внутри монастырской ограды, с алтарем в честь Пресвятой Богородицы была незадолго до этого возведена на месте прежней, имевшей то же посвящение. В отличие от церкви-предшественницы – клетской и, судя по сообщению о ней переписной книги 1678 года, составленной всего за семь лет до того июльского дня, события которого мы пытаемся мысленно восстановить, ничем не примечательной7 – теперь здесь возведен храм, хотя тоже деревянный, но «на взмосте, с трапезою теплою, и с келарскою, и с папертью». К тому же, что особо отмечено составителем описания, он был покрыт «тесом по полатному» [3; 2 об.]. Вторая церковь, каменная, посвященная Николаю Чудотворцу, тоже стояла «на взмосте» [3; 4 об.].
Внутреннее убранство обоих монастырских храмов не могло не поражать своим великолепием. В церквах комиссия, внимательно и неспешно изучавшая иконостасы и остальное убранство, тщательно зафиксировала все образы почитаемых святых, обращая внимание на качество и состояние икон. Неукоснительно отмечалось, были они «писаны на золоте» или «на красках», оценивались их оклады и приклад . «На том местном образу девять венцов серебряных резных золоченых, поля обложены окладом серебрян-ным гладким золоченым, на средине оклад бас-мянной золочен, у того ж образа Пресвятыя Богородицы крест аспидной зеленой в серебре, во главе и по ручкам бирюзы, да два камешки червцы, да четыре жемчюжины… – записывал в церкви Введения восхищенный Иван Викулов и, продвигаясь по храму от одного предмета к другому, продолжил, – против того образа лампада медная чеканна по смете пять фунтов» [3; 3 об.].
В записях, составленных при ревизии другого храма – Николы Чудотворца – находим еще более колоритные описания церковного убранства в традициях последней четверти XVII века. «На том местном образу, – диктовал Ивану Викулову кто-то из членов комиссии, рассматривая оклад и перебирая украшения прикладов, – восмьнатцать венцов малых серебряных золоченых сканых, на той же иконе у Спасова образа и у Богородична венцы чеканные, гривенки бас-мянные; пелена над тем образом дорогильная, чер[в]леная, опушена тафтою лазоревою, крест н[а]шит кружива мишурного; перед тем образом свеча местная восковая, налеп жестяной» [3; 5 об.]. В яркие и сочные цвета – так же, как и повсюду в карельских храмах, – были расписаны двери царские, непременная деталь внутреннего интерьера любой церкви «столпцы», а также купол изнутри, или – в терминах того времени – «сень».
Читая документ, невольно приходишь к заключению, сколь многим был обязан монастырь своему тогдашнему строителю Иосифу8. Комиссия удостоверилась и зафиксировала, что именно при нем во многом преобразилось убранство церквей: престол в алтаре церкви Введения Богородицы, который ранее значился «позоло-чен[ым] крашениною», был «позолочен кума-чем» и украшен покровом из камки, отороченной «кумачем красным» [3; 4]; наиболее почитаемый здесь образ Введения Пресвятой Богородицы был «внове при строители Иосифе писан красками на золоте» [3; 3]; в церкви Николы Чудотворца главная храмовая икона вместо приклада , имевшегося ранее: «гривенка чеканная с камешки да миса серебряная», ныне украшена серебряной панагией с золоченой сканью и двумя крестами аспидными в серебре, позолоченными и инкрустированными «камешки и з жем-чюжины» [3; 5 об.]; на месте перенесенного в теплую церковь образа Благовещения Богородицы «вновь при строители Иосифе написан образ Пресвятыя Богородицы Одегитрии, венцы и ризы писаны на золоте, пелена под тем образом бойчатая» [3; 6 об.]; «образ Александра Чю-дотворца Свирскаго местной написан внове… на золоте» [3; 6]; «евангелие напрестольное печатное внове переплет[ено] в десть, поволочено бархатом червчатым, распятие и евангелисты басменные серебряные, застешки медные» [3; 7]. Были приобретены (изготовлены на заказ?) новые священнические облачения – ризы «тафтяные желтые струйчатые двоеличные, оплечья изурбат травчатой по зеленой земли, подолник выбойчатой полосатой, подложены крашениной лазоревой», еще одни ризы «червленые, оплечья изурбат полосатой, подолник тавтяной зеленой, подложены крашениной лазоревой» [3; 7 об.–8] и две епитрахили , также являвшие собой яркое и дорогое церковное облачение – о первой сказано: «…тавтяная зеленая, опушена дорогами червлеными, без пугвиц», о второй – «камка семная желтая, опушена дорогами полосатыми, пугвицы оловянные» [3; 8].
Радикально в сторону благоустроения изменился и архитектурно-ландшафтный облик пустыни. Тот же источник сообщает, что «над строителем Андреяном часовня новая рублена, покрыта тесом» [3; 4 об.] и что «на монастыре на старом колокольнем месте внове колокольня построена при строители Иосифе на осми столпах, покрыта тесом, верх у колокольни шатровой, а на колокольни восмь слех с причелинами да на колокольни семь колоколов болших и менших» [3; 9– 10 об.]. Внутри ограды же размещались девять келий, в восьми из них жили монахи, а в девятой находилась пекарня («хлебенная»). Очевидно, что активное строительство развернулось как раз в период, предшествовавший присылке комиссии. Из девяти келий о трех сообщается как о вновь построенных, в то время как об остальных шести сказано: «ветхие». То, что на берегу обнаружились сложенные в штабель пятьсот бревен и триста тесниц, нельзя не расценить как уже начатую активную подготовку к продолжению возведения на месте старых обветшавших келий для монахов еще нескольких новых. Кроме того, на берегу находились «поварня» и две «житницы», закрываемые на личные замки. В некотором отдалении от монастырской усадьбы стояла «мельница колесная», обслуживавшая нужды самих его обитателей («мелет про мона-стырьской обиход», – сообщается в документе [3; 10 об.]). Безусловным знаком процветания монастыря в последней четверти XVII века является известие документа еще об одной мельнице: новой – «о двух службах со всем мельничным запасом», включавшим жернова и четыре ступы, которая была приобретена строителем Иосифом («его купли» – уточняется в документе) незадолго до приезда комиссии [3; 11]. Она стояла на реке Тулоксе в Тулоской волости близ деревни Терентьева Гора. По-прежнему владевший богатыми тонями на Ладожском озере монастырь располагал чуть ли не хозяйственной флотилией из деревянных судов: тремя лодками двоевесельными, двумя челнами, да к тому же еще имел в совместном равном владении с крестьянином из Тулоксы Степаном Михайловым Мергиевым настоящую мореходную сойму.
Обращает внимание известие документа о том, что часть церковной утвари, находившейся в главном монастырском храме – «сосуды церковные потир, да дискос, да два блюда деревянные» – незадолго до прибытия комиссии для переустройства монастыря в «девичь» уже были изъяты и увезены в Великий Новгород в ризницу Св. Софии (по «словесной скаски игумена Иосифа взяты в Софейскую казну», – сообщает со -ставитель документа [3; 4]). Также обращает внимание пристрастность, с которой комиссия ревизовала монастырь. Так, все церковное убранство детально сравнивалось и сопоставлялось с обозначенным в «прежних переписных книгах». Если обнаруживалось несоответствие, строитель Иосиф должен был немедленно дать объяснения. Выслушав его, составитель документа тщательно записывал: «На том же образу… написано тритцать девять крестов сереб-рянных, а ныне по досмотру тринадцать кре- стов, а достолние дватцать шесть крестов с тое иконы по словесной скаски строителя Иосифа взяты, и обложен тем серебром крест благосло-вящей». И тут же добавлял в подтверждение: «На том же кресте распятие воялшное серебряное» [3; 5 об.].
Закончилась акция так, как и было предрешено: в монастырь, процветающее состояние которого, по свидетельству вышеприведенных документальных известий, не может быть подвергнуто никакому сомнению, церковные власти заселили собранных по всем окрестностям женщин – «стариц», во главе со строительницей Феклой. Вместе с ней в кельях бывшей мужской Андрусовой пустыни вместо еще вчера хозяйствовавших под началом черного попа Иосифа и келаря Феодосия старцев Пафнотея, Лаврентия, Паисия, Ильи, Варлама, Корнилия, Игнатия и Иоанна и служек-вкладчиков, перечень имен которых история тоже сохранила9 (в целом из монастыря в тот черный день должен был удалиться 21 человек), разместились несколько групп женщин.
Во-первых, это были приглашенные из «города Олонецкого Рожественского погоста» старицы-монахини: будильщица Евгения, поваренная Ираида, келарь Анна, чашница Ульяна, житенка Таисея и еще шестнадцать женщин (Дарья, Елена, Марфа, Пелагея, Феодосья, Марфа, Неонила, Марфа, Наталья, Анисия, Пелагия, Анисия, Варвара, Фекла, Киликия, Анастасия). Во-вторых, – пришедшие из Ильинского Низов-ского погоста восемь стариц: казначей Агафья, посевная Акулина в компании Евдокии, Парасковьи, Неонилы, Улиты, Марфы, Матроны. Третью группу составили привезенные с Мегре-ги, из Воздвиженской выставки, еще девять стариц: хлебенная Анна и ее подруги старицы Прокла, Таисея, Фекла, Екатерина, Катерина, Евфимия, Матрона и еще одна Евфимия. И, наконец, здесь же остались «Ондрусова монастыря пять стариц, которые жили преж сего на коровьем дворе»: Василина, Феврония, Марья, Евдокия и Каятелина. Всех вместе женщин – поименно перечисленных новых обитательниц нашей пустыни – оказалось сорок четыре.
Редчайшей исследовательской удачей можно считать возможность доподлинно выяснить, чем закончилось это властное вмешательство в жизнь отдаленной обители, и, более того, едва ли не воочию увидеть состояние того же монастыря спустя ровно три десятилетия благодаря наличию еще одного открытого нами исторического документального текста. Когда поздней осенью, 1 ноября 1715 года, сюда по указу Иова, митрополита Новгородского и Великолуцкого, прибыла комиссия во главе с Серапионом, архимандритом Александро-Свирского монастыря, в которую были включены иеродиакон Иосиф, монах уставщик Давыд, причетники ближайшего Ильинского погоста поп Мина Петров и дьякон Ермола Иванов, а также пономарь одной из олонецких церквей – из Коблуковской слободы – Кирик Терентьев, строительницы Екатерины, отвечавшей за все в Андрусове монастыре, они здесь «не изъехали», то есть не застали. Более того, не оказалось в наличии и всех монастырских документов, в том числе переписных книг, которыми, по свидетельству родной ее сестры, келаря Еуфимии, «она... владела всем одна». Архимандриту Илариону «с вышеписанными сто-ронными людми» ничего не оставалось, как предпринять полную ревизию монастыря, и он «вновь переписал все налицо» [4; 1 об.].
Картина, представшая взорам членов комиссии, не может не ужасать необъяснимостью очевидной разрухи и запустения. Начатое в последней четверти XVII века строительство новых келий, можно думать, не было продолжено, так как обо всех девяти сказано: «…ветхи, и кровли на всех горазно изгнили». «В иных, – бесстрастно зафиксировали члены комиссии, – и жить невозможно». Они стояли «пусты». Ничего сходного с прежним великолепием облика и убранства монастырских храмов – каменной церкви Св. Николая Чудотворца и деревянной Введения Богородицы – нет и в помине. Одна из стен первой из них, по-видимому, просто упала, ибо как еще можно понять фразу: «…стены с лица от югу валяютца ветхая» [4; 2]. О целом ряде поименно перечисленных икон сказано, что у них «поля отпрели», или «все перепрели и поля отпали» или даже «и лиц не знать». Так что замечание относительно образа Пресвятой Богородицы Одигитрии: «…мало лица знать» [4;. 3–4 об.] воспринимается едва ли не как положительное исключение. В плачевном состоянии нашла комиссия не только иконы, но и книги в обоих храмах, подытожив перечисление более чем информативной фразой: «…все вышеписан-ные книги ветхие, а инные и розбитые» [4; 5 об.]. Церковная утварь, хранимая в алтарях, очевидно, не отвечала нуждам богослужения ни по ассортименту, ни по качеству. Перечисленными оказались: кадило медное, укропник медный, чаша для освящения воды («водоосвященная медная луженая резная», – в определении комиссии) да «три малых блюдца оловянных» в целом на обе церкви. Перечень «посуду» – того, без чего повседневное существование монахинь тоже невозможно представить, чрезвычайно краток. Комиссии были предъявлены «два таза зеленой меди весом 4 фунта , да котлик [весом] 3 фунта, да другой котел зеленой же меди весом 7 фунтов з дужкой, безмен “двупудовой”, яндова медная весом 2,5 фунта, блюдо оловянное весом 3,5 фунта», в то время как все сковороды железные и еще три котла медных оказались «в закладе» у Никифора Панфилова.
Ни в какое сравнение с предыдущим описанием 1685 года не идет и наличествовавший в монастыре инвентарь. В целом 5 кос «горбуш-ных ветхих», 13 серпов, 3 долота, 3 крюка, 2 заслона железных (уточнено, что «держаных»), клещи, «да скобеж да буравец» – вот и все, что нашли члены комиссии при осмотре хозяйственных помещений [4; 5 об.–6]. Столь же небогатыми оказались и запасы необходимых для хозяйственных нужд товаров: шерсти овечьей («небитой», – не преминули уточнить члены комиссии) обнаружилось 16 фунтов (ок. 6 кг. – И. Ч.), кудели льняной и пеньки – всего по 6 и 5 фунтов соответственно. Для полноты картины заметим, что 27 шкур животных («кож коровьих и коневых», – в определении документа) находились «в деле»; можно думать, они были отданы на обработку кому-то из местных кожевенников, упомянутому как «Родивонов сын» [4; л. 6]. В «платяном чюлане у больницы» нашлись еще «шубенко ветчаная, два кафтана ветхих, рубашек 12 работнических ветхих» [4; 6 об.]. По-прежнему во владении монастыря находились две рыбные тони. Ни о каких лодках или челнах, тем более о судне типа соймы вовсе не упоминается. Теперь, спустя треть столетия, только одна из ранее принадлежавших андрусовским старцам мельниц – «об однех жерновах да четыре ступы двоеколесное» – продолжала изготавливать муку и крупы на монастырский обиход [4; 6 об.].
Имеет смысл сравнить более детально хлебные запасы монастыря, хранившиеся в его житницах – стоявших за оградой двух амбарах, в момент переустройства и спустя треть века жизни и деятельности в навязанном ранге «де-вича», то есть женской обители (см. таблицу). Как явствует из приведенных в таблице данных, в целом монастырские закрома накануне реорганизации исчислялись более чем в 20,6 тысячи литров зернового хлеба. При этом больше всего оказалось главного здесь на севере злака – ячменя, то есть жита (10605 л), овса обнаружилось чуть меньше (6405 л), ржи – еще меньше, но тоже вполне достаточно (3675 л), пшеницы не было вовсе. В целом содержание житниц малосопоставимо: они предстали перед комиссией опустевшими более чем в десять раз. При этом обращает внимание не только чрезвычайное сокращение объемов хранимого зерна, но и иной расклад имевшегося хлеба. Если при рачительном хозяине, строителе Иосифе, наличествовали продуктивные и естественные для северных карельских широт злаки: жито, овес, рожь, то при строительнице Екатерине в житнице наибольшим запасом представлен овес, на втором месте – рожь, и только потом, в восемь раз меньшим количеством по сравнению с овсом и в пять – с рожью, – ячмень, или жито, которого даже меньше, чем абсолютно экзотической здесь пшеницы. Как не заметить, что опережающее расходование ячменя позволяет вполне обоснованное предположение о пристрастии обитательниц монастыря к кофе, традиционно приготовлявшемуся из ячменных зерен любимому напитку местных крестьян, а наличие пшеницы говорит о явных предпочтениях в рационе питания. Кроме собственно хлебных запасов три- дцать лет назад, в начале лета 1685 года, в почве засеянных полей находилось более 12,5 тысячи литров зерна, и, можно думать, тогда по осени сестры-монахини, оставленные хозяйствовать вместо выселенной братии, должны были собрать неплохой урожай. Теперь же несомненным признаком полного нерадения является известие о том, что в начале ноября 1715 года, может быть, даже уже и под снегом, в полях оставались необмолоченные снопы – и овес, и рожь, и ячмень, в общей сложности 12 овинов, то есть не менее 7,5 тысячи литров зернового хлеба. В представленную ниже таблицу включены также сведения о поголовье монастырского табуна и стада домашнего скота «тогда» (25 лошадей, 37 коров, 10 быков и 23 овцы) и «теперь» (5 лошадей, 3 коровы, 2 быка и 13 овец).
|
Хлебные запасы |
Годы |
|
|
1685 |
1715 |
|
|
рожь |
17 четвертей с осминой |
5 четвертей |
|
жито |
50 четвертей с осминой |
1 четверть |
|
овес |
30 четвертей с осминой |
8 четвертей |
|
пшеница |
1 четверть с четвериком |
|
|
засеянная рожь |
3 четверти |
|
|
засеянное жито |
15 четвертей |
|
|
засеянный овес |
42 четверти |
|
|
засеянные бобы |
четверик |
|
|
«немолоченое обилье ржи, жита и овса в полях» |
12 овинов |
|
|
ИТОГО запасов зерна в литрах из расчета: 1 четверик = 1/4 осьмины = 1/8 четверти = 26,2 л |
ок. 20 633 в зерне ок. 12 626 в земле |
ок. 3 176 в зерне ок. 7 560 в снопах |
|
Домашний скот |
||
|
мерины рабочие («работные», «тяглые») |
10 |
1 |
|
кобылицы рабочие («работные», «тяглые») |
8 |
3 |
|
жеребята («жеребчик», «кобылка двулеть малая») |
7 |
1 |
|
коровы (в т. ч. дойные) |
23 (5) |
2 (2) |
|
телята (в т. ч. коровы-нетели) |
14 |
1 (1) |
|
быки (в т. ч. бычки-двулетки) |
10 (8) |
2 (2) |
|
овцы (в т. ч. бараны) |
23 (неизв.) |
13 (1) |
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Как и почему оказался обречен на драму запустения в конце XVII века вотчинный митрополичий монастырек в Карелии – «Вондрусова Ондриянова пустынь»? Вернемся к исходному тезису советской историографии: монастырь в Карелии – прежде всего сообщество людей, занимавшихся крестьянским трудом, коллективное хозяйство. Понятно, что это замечание как будто бы демонстрирует пренебрежение церковной – идеологической и главной – сущностью монашеского общежительства, члены которого прежде всего являются лицами, посвятившими себя молитвенному служению Господу. Тем не менее за констатациями сугубо материального свойства, по-видимому, скрывается некая существенно значимая реальность. Деятельность монастыря как хозяйства (в том смысле этого слова, за которым стоит бытовая повседневность эпохи раннего Нового времени – XVI–XVII столетий, когда единственно возможным способом физического сохранения (выживания) и развития (воспроизводства) для любого локального человеческого сообщества являлось самообеспечение: выращивание злаков и овощей, содержание молочного и мясного скота, рыболовство и охота, равно как собирание хвороста и рубка

Рис. 3. Ворота Андрусова монастыря на фотографии 1942 года деревьев в окрестных лесах для обогрева жилищ,) с неизбежностью предполагает непременные для монахов крестьянские занятия – пахоту, сенокос, ловлю рыбы, огородничество, сбор грибов и ягод, уход за коровами и лошадьми, заготовку дров и тому подобные повседневные дела. Впрочем, в не менее обязательной степени следовало заниматься строительством, включавшим не только возведение храмов, но и келий для обитателей монастыря и их гостей, равно как конюшен и коровников, амбаров, риг, овинов и всякого рода клетей для хранения припасов и утвари, конской сбруи и того множества вещей, без которых было не обойтись в условиях тогдашнего уровня хозяйствования. Также невозможно представить монастырь того времени в Карелии, расположенный, как правило, где-нибудь в отдалении от крестьянских поселений, в лесу или на берегу озера, часто на острове, без ограды и других сооружений охранительного предназначения.
И действительно, во времена, о которых идет речь в данной статье, Андрусов монастырь являл собой натуральное, в обыденных своих трудах и заботах весьма похожее, по-видимому, на рядом существовавшие крестьянские усадьбы, хозяйство. Безусловно, это монастырское хозяйство должно было быть много более обеспеченным по сравнению с крестьянским. Об этом свидетельствует наличие значительных зерновых запасов: «ржы семьнатцать четвертей с осминою, овса тритцать четвертей с осминою, жита пятьдесят четвертей с осминою, муки дватцать четвертей с полуосминою, соли тритцать два пуда, масла коровья шесть пуд», – на исходе самого голодного по понятным причинам для тогдашних обитателей Карелии сезона – в июле [3; 10]. Показательно в этом смысле также то, что сугубо хозяйственные предметы – такие как канаты, якоря, сани, а также упряжь: седло с потниками и десять хомутов – зафиксированы хранимыми на момент составления анализируемой нами описи в «казне» монастыря как вещи особо ценные, наряду со «скатертями бранными» [3; 10]. О том, что в монастыре не гнушались сугубо крестьянских дел и занятий, говорит и наличие хорошо обустроенного коровьего двора. Он был расположен, как это обычно бывало в местных монастырях, несколько в отдалении, в данном случае «за губой», то есть на другой стороне залива, и был весьма внушительных размеров. Там стояли четыре хлева и амбар, рядом – за оградой – располагались рига и гумно. Отметим как свидетельство активного добывания средств для пропитания и наличие в монастыре большого количества снастей: неводов частого и редкого плетения, предназначенных для ловли разной рыбы, а также десятков мереж и небольших сеток, которые поштучно даже не считали, а просто фиксировали как «воротницу», под чем можно понимать специальное устройство типа ворота для их наматывания и хранения.
Собственно, сама идея, с которой прибыла на ладожские берега комиссия: переустроить мужской Николо-Андрусовский монастырь во Введенский женский ( новодевичь ), заставляет предположить, что возглавлявший братию Иосиф не пользовался расположением церковной власти, сконцентрированной в митрополии Великого Новгорода. Даже очевидное благоустроение, предпринятое главой андрусовских старцев, не могло ничего изменить. Кроме уже упоминавшегося возведения нового большого храма здесь была построена («рублена») новая же часовня над местом захоронения основателя монастыря св. Адриана Андрусовского, также крытая тесом. Кстати, то обстоятельство, что именно в ней нашли место несколько икон, и среди них, как можно думать, самые древние: «Никола да мученик Дмитрий» («обе иконы длиною по три четверти аршина, писаны на красках», – сообщает источник), а также пятнадцать «пядниц», о которых лапидарно замечено составителем: «ветхи», вкупе с упоминанием здесь же Евангелия («писмя-ное в полдесть», на переплете «евангелисты медные позолоченные») и других старинных книг, представляется особенно информативно значимым. Уж не было ли это попыткой укрыть особенно чтимые традиционные образы и литургические книги от церковных властей, озабоченных проведением в жизнь мероприятий, диктовавшихся реформой патриарха Никона? Сюда, в глубокие карельские леса, гонения на приверженцев старых церковных порядков, на ревнителей исконного благочестия, как они себя именовали, докатились много позднее, чем они имели место ближе к центру, к Москве или Новгороду.
Предшествовавшее прибытию комиссии изъятие наиболее ценных, возможно, весьма древних реликварных церковных сосудов тоже свидетельствует: власти готовились если не к закрытию монастыря, то к вытеснению из него строителя Иосифа. Лучшим предлогом для этого явилось, по всей вероятности, ходатайство Ер-могена, игумена Александрова Свирского монастыря или, что еще более вероятно, местной власти в лице Олонецкой воеводской избы. Волю олонецкого воеводы в делах, направленных против активно обозначавшихся то в одном, то в другом из подвластных ему Заонежских и Лоп-ских погостов староверческих общин, деятельно проводил в жизнь как раз в те годы протопоп олонецкой церкви Св. Троицы Лев Иванов (см. подробнее: [30; 240], [31]). Само участие его в прибывшей для смещения строителя Иосифа комиссии наводит на вполне определенные раз- мышления. Еще один член комиссии – Иван Викулов – мог принадлежать к известному в Карелии накануне петровских времен роду шунгских изможных крестьян. Это, как и самое главное – кто персонально скрывается за монашеским именем главы андрусовской братии строителя Иосифа, еще предстоит выяснить.
Ясно одно – историческую ситуацию, которая вызвала появление ставших известными мне документов, нельзя считать ординарной, и она требует дальнейшего пристального исследования. Подвергнув аналитическому рассмотрению обнаруженные в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН материалы ревизий монастыря, имевших место в 1685 и 1715 годах, а также его приходорасходные книги за большую часть XVII века, еще раз критически сопоставив прочно устоявшиеся в историографии, несмотря на всю их очевидную поверхностность, утверждения с теми свидетельствами, что дошли до нас в материалах кадастровых описаний, удалось не только почти ландшафтно воспроизвести тогдашний облик этого небольшого, типичного для тех времен монастыря, выстроить картину его жизни и быта в особенно драматичный период истории, но восстановить целую эпоху, буквально вычеркнутую из истории легендарной карельской обители.
Невольно думается, что, вероятно, не всех и в прошлые времена удовлетворяла официально устоявшаяся версия ее истории. Во всяком случае, знание о драме переустройства, фактического закрытия, навязанного андрусовским старцам новгородской митрополией в последней четверти XVII столетия, не исключает, а наоборот, делает даже более объяснимым появление на ладожских берегах, столь далеких тогда от дорог цивилизации, царя Александра Павловича Романова. В 1819 году он неожиданно посетил монастырь в сопровождении одного лишь провожатого из местных крестьян, долго молился, а потом имел продолжительную беседу с братией. Будучи человеком, несомненно, глубоко верующим и теологически образованным, император вполне мог знать об Андрусове монастыре много больше, чем было официально принято считать достаточным. Приходится с сожалением констатировать, что и до сих пор остается принятым считать достаточной информацию, очень мало отвечающую требованиям историзма, судя по авторитетности издания, вновь опубликовавшего прежнюю версию истории древней карельской обители – Андрусовской во имя святителя Николая Чудотворца мужской пустыни10 [16].
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ВЫШЕДШИХ ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ
Амбар – хозяйственная постройка для хранения зерна и других продуктов питания: муки, гороха, бобов, мяса, молока, меда; там же могли хранить одежду, иногда и сельскохозяйственный инвентарь [26].
Безмен – простейшие рычажные весы; русский безмен – металлический стержень с постоянным грузом на одном конце и крючком или чашкой для взвешиваемого предмета на другом [17].
Буравец – стальная полутрубка, желобок с винтовым носком и поперечною колодочкой, для буравления, сверления, про-верчивания отверстий [26].
Гарба (также харва) – ставная сеть для ловли семги [28; 392–393].
Дискос – в христианских церквах один из литургических сосудов, блюдо на подножии с изображением младенца Иисуса Христа [25].
Ендова (яндова) – широкий сосуд с отливом или носком для разливки питей; медная посудина в виде чугуна, с рыльцем [19; 62].
Епитрахиль – принадлежность богослужебного облачения православного священника и архиерея – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь [25].
Изурбат , или изарбат, то же, что зарбав (зербав, зербоф, изарбав) – ткань с золотой или серебряной нитью, золототканая ткань, парча [28; 80, 120].
Клеть – отдельная избушка для поклажи, без печи; чулан, кладовая [18; 92].
Коробья – короб, плетенный или выгнутый из луба; большая корзина округлой формы с крышкой; тара и мера объема для сыпучих и мелких штучных товаров; новгородская мера зерна в две четверти, после XVI века – в четверть; новгородская мера пахотной земли (по количеству высеянного зерна); в четверти считали ¼ кади = две осьмины = восемь четвериков = 64 гарнца = куль. Соответственно, можно думать, что в коробье как объемной зерновой мере должно было быть приблизительно 210 л (один гарнец считают равным 3.28 л) [24; 104].
Котец (множ. число: котцы) – кошель, запруда для ловли рыбы [28; 351].
Овин (1) – местами овин служил хлебной мерой, в которой считалось от двух с половиной до трех с половиной четвертей [19; 184].
Овин (2) – срубная постройка для просушивания перед молотьбой снопов хлеба (ржи, пшеницы, овса, ячменя), а также льна и конопли; сушка производится теплым воздухом от специальной печи [18; 437].
Оклад – накладное украшение на православных иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов (обычно лица и рук), для которых сделаны прорези [17].
Панагия , или панагиар – ящичек для перенесения части из просфоры, или частиц мощей, на одной стороне которого было изображение Спасителя или Святой Троицы, на другой – Божией Матери. Со временем панагии утратили вид ковчежцев и сделались небольшими, обычно круглыми, медальонами с иконой Божией Матери, носимыми на груди поверх облачения как знак достоинства [25].
Платежницы (платежные книги) составлялись в России в конце XVI–XVII веке по писцовым или дозорным книгам для сбора налогов и раскладки повинностей в течение ряда лет (до нового описания); приходные книги воеводских изб, в которых фиксировалось поступление с уезда прямых и косвенных налогов [18; 484].
Потир – священный сосуд в виде чаши, из которой совершается причащение священнослужителей и мирян [25].
Приклад – подношения верующих, даримые церкви и помещаемые рядом с почитаемой иконой. Ср.: «Приклад иконы представлял собой сокровищницу древних святынь» [25].
Рига – сарай, предназначенный для нескольких хозяйственных функций: сушки и обмолота зерна, изготовления инвентаря, иногда для содержания животных [24; 555].
Ризы – церковная верхняя одежда, облаченье священника при богослужении, надеваемое на рясу, на подризник. Без ризы и епитрахили священник служить не может [19; 269].
Руга – в России XVI–XVIII веков средства, отпускавшиеся государством на содержание церковного причта, главным образом городских церквей и монастырей, не имевших земли или других источников дохода [18; 572].
Пуд – русская мера веса, равная 16.3 кг [24; 514].
Скобеж – возможно, от «скобель» – название плотничьего инструмента: орудия для сдирания коры с бревен и для примитивного строгания; возможно, от «скобяной товар» – легкие железные изделия: скобы, крюки, задвижки [19; 629], [24; 590], [28; 643].
Сойма – русское старинное одномачтовое парусное судно грузоподъемностью в 10–15 т, известное на Ладожском озере уже с XI века [19; 648].
Строитель(ница) - главой монастырской общины мог быть настоятель, строитель, игумен, архимандрит; в женских монастырях – строительница, игуменья [17].
Ступа – металлический или тяжелый деревянный сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом – коротким тяжелым стержнем с округлым концом, как правило, сделанным из меди [24; 416, 634].
Тесница – доска; встарь не пилили досок, а кололи бревно пополам и вытесывали из половинника по доске [19; 310]. Фунт – русская мера веса, равная 409,5 г [24; 701].
Список литературы Андрусов монастырь на пороге нового времени: к истории старообрядчества в Карелии
- Акты писцового дела: Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве/Сост. С. Б. Веселовский. М., 1917. Т. II. Вып. 1. 490 с.
- Дозорная книга Заонежской половины Обонежской пятины Мины Лыкова и подьячего Якова Гневашева 1620 г.//Российский государственный архив древних актов (далее -РГАДА). Ф. 1209. Кн. 979. 950 л.
- Книга переписная Новодевичьего Введенского Андрусова монастыря 1685 г.//Научный архив Санкт-Петербургского Института истории РАН. Колл. 115. Ед. хр. 851. 16 л.
- Книга переписная Андрусова монастыря архимандрита Александро-Свирского монастыря Илариона 1715 г.//Научный архив Санкт-Петербургского Института истории РАН. Колл. 115. Ед. хр. 852. 8 л.
- Приходо-расходная книга Ондрусова монастыря старца Серапиона, 5 сент. 1628 г. -5 авг. 1629 г.//Колл. 115. Оп. 1. Д. 843. 4 л.
- Челобитная Андрея Измайлова о высылке на Олонец из Горской волости беглых пашенных солдат в сопровождении стрельцов для содержания под стражей до отправки в полки, не позднее 24 ноября 1662 г.//РГАДА. Ф. 98. Карт. 4. Д. 99. Сст. 1-2.
- Переписная книга Заонежских погостов Олонецкого уезда И. А. Аничкова, И. Н. Аничкова и подьячего И. Венякова 1678 г.//РГАДА. Ф. 1209. Кн. 1137. Ч. 1. 186 л.
- Писцовая книга Заонежской половины Обонежской пятины 1582/83 г.: Заонежские погосты//История Карелии XVI-XVII вв. в документах/Asiakirjoja Karjalan Historiastaj1500 -ja 1600-luvuilta. [Т.] III/Подгот. к печ. Ирина Чернякова; Под ред. И. Черняковой и К. Катаяла. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1993. С. 35-341
- Писцовая книга Обонежской пятины Заонежской половины Андрея Лихачева 1563 г.//Материалы по истории народов СССР. Вып. 1: Материалы по истории Карельской АССР. Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг./Подгот. к печ. А. М. Андрияшев; Под ред. М. Н. Покровского. Л., 1930. С. 57-254.
- Писцовая книга Заонежских погостов Обонежской пятины Ивана Долгорукова и подьячего Посника Ракова 1628-31 гг.//Олонецкие губернские ведомости за 1850 г. № 12-48. 1851 г. № 1-2. Часть неофициальная.
- Писцовая книга Заонежских погостов Обонежской пятины Петра Воейкова и дьяка Ивана Льговского//РГАДА. Ф. 1209. Кн. 8554. 939 л.
- Андрусова-Николаевская пустынь: Историческо-статистический очерк/Сост. усердием настоятеля Валаамского монастыря игумена Дамаскина/Изд. в пользу пустыни. СПб.: Типография Почтового департамента, 1856. 36 с.
- Андрусова-Николаевская пустынь Олонецкой губернии. Историческо-статистический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Тип. Ерофеева, 1884. 35 с.
- Андрусова-Николаевская пустынь Олонецкой губернии. Историческо-статистический очерк/4-е Андрусова-Николаевской пустыни. СПб.: Типо-литогр. «Надежда», 1905. 35 с.
- Барсов А.В. Андрей Завалишин и его пустынь: Исторический очерк//Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете/Повременное издание под заведыванием Е.В. Барсова. 1884, октябрь-декабрь. Кн. IV. М.: Университетская типография, 1885. С. 1-17.
- Барсов Е.В. Преподобные обонежские пустынножители//Памятная книжка Олонецкой губернии за 1868-1869 гг. Петрозаводск, 1869. С. 3-68.
- Белякова Е.В., иером. Герасим (Шевцов), Соловьева И.Д. Андрусовская во имя святителя Николая Чудотворца мужская пустынь//Православная Энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/115434.html -На рус. яз. Проверено 11.11.2008.
- Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/-На рус. яз. Проверено 11.11.2008.
- Гладкий В.Д. Славянский мир: I-XVI века: Энциклопедический словарь. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. 894 с.
- Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: Современное написание. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. 348 с.
- Кожевникова Ю.Н. Андрусова пустынь//СРЕТЕНИЕ: Православное приложение к газете «Карелия». № 13-14, июль-август 1999. (См. также: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/Karelia/555/54.html, http://www.gov.karelia.ru/Karelia/559/42.html -На рус. яз. Проверено 12.11.2008.
- Коняев Н.М. Вразумитель пиратов: Рассказ о житии преподобномученика Адриана Ондрусовского//СЛОВО: Православный образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/rus/history/56/2716/-На рус. яз. Проверено 31.01.2008.
- Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история/Пер. с фр. Н.В. Ефремовой//THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 153-173.
- Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994-96. Кн. IV: История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.klikovo.ru/db/book/msg/8815 -На рус. яз. Проверено 31.01.2008.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка/Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. Изд. 20-е, стереотипное. М.: Русский язык, 1988. 750 с.
- Открытая православная энциклопедия «Древо» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=833 -На рус. яз. Проверено 11.11.2008.
- Словарь Даля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.slova.ru/article/2311.html -На рус. яз. Проверено 11.11.2008.
- Спиридонов А.М., Яровой О.А. Валаам: от апостола Андрея до игумена Иннокентия (очерки истории Валаамского монастыря). М.: Прометей, 1991. 126 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т./Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1986. Т. 2. 671 с.
- Чернякова И.А. Население Олонецкого края в XVII веке (по писцовым и переписным книгам)//Вопросы истории Европейского Севера: (Социально-экономические проблемы)/Мужвузовский сборник. Петрозаводск: РИО Петрозаводского ун-та, 1988. С. 115-133.
- Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох: Очерки социальной и аграрной истории XVII века. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. 295 с.
- Чернякова И.А. «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых» легенда или фальсификация? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://illmik.petrsu.ru/Alkonost/history/DenisovsKin.html -На рус. яз. Проверено 11.11.2008.
- Panteleimon, abbot. Abbot Damaskin as a Spiritual Director//Valamo and its Message/Ed. by Einio Lainio and Niilo Kohonen. Helsinki, 1983. P. 106-114.
- Paul, archbishop. Phases in the Spiritual Life of Valamo//Valamo and its Message/Ed. by Einio Lainio and Niilo Kohonen. Helsinki, 1983. P. 95-98.
- Vuoristo S. Ondrusovan luostarin vaiheita 1500-luvuilta nykypaiviin asti//Karjalan Heimo. 2005. № 5-6. S. 68-71.