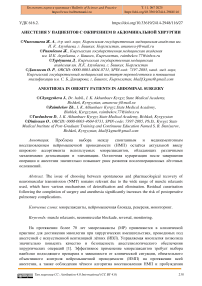Анестезия у пациентов с ожирением в абдоминальной хирургии
Автор: Чынгышева Ж.А., Раимбеков Ж., Турдушева Д., Динлосан О.Р.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Медицинские науки
Статья в выпуске: 7 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Проблема выбора между спонтанным и медикаментозным восстановлением нейромышечной проводимости (НМП) остаётся актуальной ввиду широкого ассортимента используемых миорелаксантов, обладающих различными механизмами детоксикации и элиминации. Остаточная кураризация после завершения операции и анестезии значительно повышает риск развития послеоперационных лёгочных осложнений.
Миорелаксанты, нейромышечная блокада, реверсия, мониторинг
Короткий адрес: https://sciup.org/14133339
IDR: 14133339 | УДК: 616.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/116/27
Текст научной статьи Анестезия у пациентов с ожирением в абдоминальной хирургии
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025
УДК 616.2.
На протяжении более 70 лет миорелаксанты (МР) применяются в клинической практике для достижения миоплегии при хирургических вмешательствах, проводимых под анестезией с искусственной вентиляцией лёгких (ИВЛ). Управляемая миоплегия позволила значительно повысить качество и безопасность анестезиологического обеспечения хирургических операций [1]. Эффективное применение миорелаксантов требует выбора наиболее подходящего препарата в зависимости от клинической ситуации, обязательного объективного контроля нейромышечной проводимости (НМП) на протяжении всей анестезии, а также соблюдения чёткого алгоритма восстановления НМП и пробуждения
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 пациента. К сожалению, в отечественной практике проблема мониторинга и управляемости НМБ остаётся недостаточно решённой. Это обусловлено отсутствием единых стандартов нейромышечного мониторинга, недостаточной технической оснащённостью отделений анестезиологии и реанимации (ОАР), ограниченным спектром доступных миорелаксантов и средств реверсии, а также недостаточной осведомлённостью о принципах мониторинга и распространённости остаточной блокады НМП [10].
Проблема выбора между спонтанным и медикаментозным восстановлением НМП особенно актуальна в свете широкого спектра миорелаксантов с различными путями элиминации и детоксикации. Остаточная кураризация после завершения операции и анестезии ассоциируется с повышенным риском послеоперационных лёгочных осложнений. Данный риск значительно возрастает у пациентов с ожирением, которое определяется как индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м².
Ожирение оказывает существенное влияние на фармакокинетику препаратов: у таких пациентов снижена капиллярная плотность в мышцах, уменьшена доля внеклеточной воды и мышечной массы, а процессы диффузии менее интенсивны по сравнению с пациентами без ожирения. Также изменённый сердечный выброс и состав тела влияют на распределение анестетиков. При ожирении объёмы распределения, связывания и выведения препаратов становятся непредсказуемыми, что требует от анестезиолога ориентироваться не только на расчёт дозы препарата, но и на объективные клинические маркеры его действия. Расчёт доз может производиться по фактической массе тела (ФМТ), идеальной или откорректированной, что создаёт дополнительные сложности для клинициста [2, 4].
Даже при минимальном дозировании на основе ФМТ возможна передозировка, тогда как расчёт по идеальной массе тела может быть неэффективным. Рокуроний, относящийся к миорелаксантам средней продолжительности действия (30–45 мин), в дозе 0,6 мг/кг обеспечивает адекватные условия для интубации трахеи через 60–90 секунд. Однако при расчёте дозировки на ФМТ у пациентов с ожирением возникает риск чрезмерно продолжительной блокады НМП [3, 9]. Расчёт дозировки на идеальную массу тела также может быть неоптимален из-за отсроченного начала действия и ухудшения условий интубации [8].
Остаточный нейромышечный блок при использовании релаксантов средней продолжительности наблюдается у 16–50% пациентов. У больных с морбидным ожирением (ИМТ > 40 кг/м²) риск респираторных осложнений дополнительно увеличивается за счёт выраженного обструктивного апноэ сна и отложений жировой ткани в области глотки и грудной стенки, что изменяет фармакологические свойства анестетиков [4].
Сугаммадекс представляет собой селективный антагонист аминостероидных миорелаксантов и может быть эффективно применён для обратного развития блокады, вызванной рокуронием и векуронием [7]. У пациентов с ожирением дозирование сугаммадекса должно производиться на основании ФМТ [3, 5, 6].
Цель исследования: оценить безопасность дозирования мышечного релаксанта рокурония 0,6 мг/кг ФМТ для развития и течения нервно-мышечного блока у пациентов с ожирением IV степени.
Материалы и методы исследования
Исследование было проспективным, рандомизированным. В нём приняли участие 23 женщины с морбидным ожирением (ИМТ ≥ 40 кг/м²) в возрасте от 45 до 63 лет, которым выполнялась общая анестезия с использованием севофлурана и искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) при плановых абдоминальных операциях. Средняя продолжительность вмешательства составила 62,86 ± 35,12 минуты.
Пациенты были случайным образом распределены методом блочной рандомизации на две группы:
Группа 1 (n = 11) — по завершении хирургического вмешательства для реверсии нейромышечного блока, индуцированного рокуронием, вводился сугаммадекс в дозе 2 мг/кг, рассчитанной по фактической массе тела (ФМТ);
Группа 2 (n = 12) — реверсия НМБ происходила спонтанно, без использования препаратов.
Обе группы были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела и физическому статусу (ASA II–III). Средние значения ИМТ составили 43,29±0,673 кг/м² в группе 1 и 43,97 ± 1,837 кг/м² в группе 2. Идеальная масса тела рассчитывалась по формуле Лоренца.
Методика анестезии была идентичной в обеих группах. Для проведения интубации трахеи и поддержания адекватной миоплегии использовали болюсное введение рокурония бромида в дозе 0,6 мг/кг ФМТ. В ходе операции при необходимости вводились поддерживающие дозы рокурония в пределах 0,1–0,15 мг/кг. ИВЛ проводилась по полузакрытому дыхательному контуру со скоростью подачи свежего газа 1,5 л/мин.
В периоперационном периоде регистрировались показатели гемодинамики, вентиляции, оксигенации (с помощью пульсоксиметрии), а также контролировался газовый состав вдыхаемой и выдыхаемой смеси. Оценку глубины миоплегии проводили с помощью периферического нейростимулятора.
Для объективного и непрерывного мониторинга нейромышечной передачи применялся метод акселеромиографии с использованием монитора TOF-Watch SX. Электростимуляция проводилась на локтевом нерве с регистрацией ответа m. adductor pollicis. Оценивались следующие параметры:
-
- время от окончания инъекции рокурония до исчезновения четвёртого ответа в TOF-стимуляции (TOF = 0);
-
- продолжительность действия препарата — от момента введения до появления значения TOF ≥ 25%;
-
- индекс восстановления — интервал между TOF = 25% и TOF = 75%;
-
- время реверсии блока (в группе 1) — от введения сугаммадекса до достижения TOF ≥ 90%;
-
- время до экстубации во второй группе — от последнего введения релаксанта до восстановления TOF ≥ 90%.
Экстубацию проводили на фоне достижения TOF ≥ 90–100% и при наличии клинических признаков восстановления НМП: способность удерживать голову в течение 5 секунд, сила рукопожатия, наличие адекватного дыхания.
Для статистической обработки результатов использовались параметрические методы, в частности критерий Стьюдента. Достоверными считались различия при p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Дозы препаратов на индукцию и поддержание анестезии в обеих группах не отличались. Показатели системной гемодинамики (АД систолическое, среднее и диастолическое, ЧСС), пульсоксиметрии, капнографии в группах на этапах анестезии значимо не различались.
После введения рокурония 0,6 мг/кг ФМТ на интубацию трахеи у пациентов обоих групп значение TOF = 0–1 определялось через 85,36±35,48 с (1 группа) и через 86,29±24,38 с
(2 группа) (P = 0,951). При этом доза рокурония на интубацию трахеи составила в 1 и 2 группах 63,140±5,172 и 63,430±2,593 мг (P = 0,852) (Таблица 1).
Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ИНТУБАЦИИ РОКУРОНИЯ 06 МГ/КГ
В РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУППАХ
|
Пациенты двух групп: |
Время на интубацию, с |
Доза рокурония на интубацию, мг |
|
TOF 0-1 I-группа |
85,36±35,48 |
63,140±5,172 |
|
TOF 2 II-группа |
86,29±24,38 |
63,430±2,593 |
Если операция затягивалась, то при восстановлении НМП до TOF = 2 вводили повторную расчетную дозу релаксанта. Восстановление НМП значимо не отличалось в группах на этапах исследования. Продолжительность действия рокурония до значения TOF = 25% составила 34,090±8,608 мин в группе 1 и 31,25±11,09 мин в группе 2 (р = 0,739). Не было значимых различий в нарастании TOF с 25% до 75% (индекс восстановления нервномышечного блока) в группах. Значения индекса восстановления нервно-мышечного блока были в пределах 12,27±4,101 и 13,75±4,787 в 1 и 2 группах соответственно (р = 0,542).
По окончании оперативного вмешательства пациентам 1 группы при появлении Т2 и Т3 ответа в режиме TOF-стимуляции вводили сугаммадекс в дозе 2 мг/кг ФМТ (205,90±11,14 мг). Полная реверсия нейромышечного блока (TOF индекс ≥ 90 %) происходила через 62,91±13,35 с после введения сугаммадекса (Таблица 2).
Таблица 2
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НМП до TOF = 2
|
I-группа |
II-группа |
|
|
TOF=25% |
34,090 ± 8,608 мин |
31,25 ± 11,09 мин |
|
TOF=25-75% |
12,27 ± 4,101 |
13,75 ± 4,787 |
Во 2 группе восстановление НМП происходило самостоятельно. У всех пациентов при TOF индекс > 90% после удаления эндотрахеальной трубки клинически отмечалось восстановление функции всех групп мышц: отчѐтливый кашлевой рефлекс, акт глотания, адекватная спонтанная вентиляция, удержание головы > 5 с, хороший речевой контакт.
Время от последнего введения рокурония до экстубации составило в 1 группе 48,00±12,82 мин, во 2 группе 64,91±4,68 мин, что указывало на статистически значимо более быструю реверсию нейромышечного блока у больных 1 группы (t = —4,636; P < 0,0001).
Признаков рецидива блокады не наблюдалось. При количественном сравнении фактических доз, полученных при расчѐте на ФМТ, с дозами, рассчитанными на идеальную массу для данных пациентов, превышения порога 1,2 мг/кг идеальной массы не зарегистрировано. Никаких серьезных побочных эффектов, связанных с применением препарата сугаммадекс, не возникало.
Заключение
Результаты исследования показали, что у пациентов с ожирением IV степени, которым проводилась многокомпонентная эндотрахеальная анестезия во время абдоминальных вмешательств, дозирование рокурония (0,6 мг/кг) на основе ФМТ приводило к хорошей релаксации мышц. При этом дозы рокурония не превысили допустимых значений.
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025
Таким образом, мониторинг нейромышечного блока обеспечивал объективный контроль клинического восстановления нервно-мышечной функции в период анестезии и операции.
Стратегия управления нейромышечным блоком с использованием сугаммадекса подразумевает создание оптимальных условий работы хирурга при обеспечении безопасности пациента с помощью поддержания глубокого нейромышечного блока на всех этапах оперативного вмешательства с последующим его полным и быстрым устранением в любой необходимый момент без риска развития остаточного блока и связанных с ним побочных эффектов.
Сугаммадекс (брайдан)-это новый препарат для устранения НМБ, который селективно связывается с аминостероидными миорелаксантами рокуронием и векуронием, приводя к их инкапсуляции и тем самым нейтрализуя их эффект.
Сугаммадекс состоит из молекулы γ- циклодекстрина, способной к инкапсуляции липофильных молекул ,таких как молекулы рокурония и векурония, формируя водорастворимые стабильные комплексы. После введения сугаммадекса изменение градиента концентрации молекул миорелаксанта между нейромышечным синапсом и плазмой приводит к диссоциации молекул миорелаксантов из никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, результатом чего является реверсия НМБ.
Сугаммадекс является эффективным и быстродействующим препаратом для устранения нейромышечной блокады у больных высокой степени ожирения и обеспечивает быстрое восстановление НМП предупреждая послеоперационную остаточную кураризацию при морбидном ожирении.