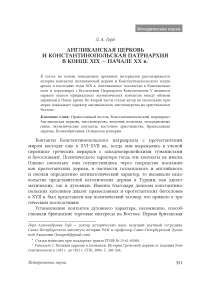Англиканская церковь и Константинопольская патриархия в конце XIX - начале ХХ в
Автор: Герд Лора Александровна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе неизданных архивных материалов рассматривается история контактов Англиканской церкви и Константинопольского патриархата в последние годы XIX в. Англиканское посольство в Константинополе и переговоры с Вселенским Патриархом Константином V являются первым этапом официальных экуменических контактов между обеими церквами в Новое время. Во второй части статьи автор на нескольких примерах показывает характер англиканского миссионерства на христианском Востоке
Православный восток, константинопольский патриархат, англиканская церковь, миссионерство, внешняя политика, межцерковные связи, экуменические контакты, восточное христианство, православная церковь, великобритания, османская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/140190267
IDR: 140190267
Текст научной статьи Англиканская церковь и Константинопольская патриархия в конце XIX - начале ХХ в
Контакты Константинопольского патриархата с протестантским миром восходят еще к XVI‒XVII вв., когда они выражались в ученой переписке греческих иерархов с западноевропейскими гуманистами и богословами1. Политического характера тогда эти контакты не имели. Однако поскольку они осуществлялись через посредство посланников протестантских держав, в частности голландского и английского, и носили определенно антикатолический характер, то вызывали недовольство представителей католических держав в Турции, как дипломатических, так и духовных. Именно благодаря доносам константинопольских католиков диалог православных и протестантских богословов в XVII в. был представлен как политический заговор, что привело к трагическим последствиям.
Установлению контактов духовного характера, несомненно, способствовали британские торговые интересы на Востоке. Первая британская
* Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 13-61-01000.
торговая компания в Турции начала свое существование в 1580 г., когда султан Мурад III издал фирман о покровительстве английским купцам. С увеличением численности англичан в торговых городах Смирне и Алеппо там были открыты консульства, а при них назначены капелланы Англиканской церкви. Яркая страница в контактах греческих иерархов с протестантским миром связана с личностью Кирилла Лукариса (1572‒1638), патриарха Александрийского (1602‒1621), а затем Константинопольского (1621‒1638). Именно в его патриаршество по предложению Кентерберийского Архиепископа Георгия Аббота в Англию стали направляться греческие юноши для получения образования2. Ко второй половине XVII в. в Англии была достаточно значительная колония греческих купцов, которые помогали своим молодым соотечественникам. В конце XVII в. ученым Б. Вудроффом был разработан специальный «проект колледжа для образования в университетах юношей, принадлежащих Греческой церкви», осуществлению которого взялась содействовать Левантийская кампания. Этот план по разным причинам, в первую очередь материального характера, остался неосуществленным3.
Если с лютеранами и кальвинистами греков объединяла, главным образом, нелюбовь к католикам, что само по себе не могло служить базой для положительного богословского диалога, то гораздо больше общего было у восточного Православия с Англиканской церковью. В конце XVII — начале XVIII в. переговоры об объединении были предприняты так называемыми «неприсягнувшими» епископами Английской церкви, которые живо интересовались христианством на Востоке и стремились, чтобы их церковь была признана кафолической и апостольской4. Однако несогласие по пяти пунктам догматического характера (почитание установлений Вселенских Соборов наравне со Св. Писанием; поклонение Пресвятой Богородице; почитание святых и ангелов; почитание икон; вера в преложение Св. Даров в Евхаристии), на которых настаивали православные патриархи, сделали единение невозможным, и дальнейшие переговоры сошли на нет5.
XIX в. принес новую струю в экуменические контакты Константинополя. Несомненно, большую роль здесь сыграло греческое восстание 1821 г. и поддержка независимости Греции со стороны Великобритании. Греки королевства, тесно связанные со своими соотечественниками в Турции, пользовались покровительством английских филэллинов. Выдающийся греческий богослов середины XIX в. архимандрит Феоклит Фармакидис получил образование на средства лорда Гилфорда и всю жизнь придерживался англофильских взглядов. Его младший современник, Александр Ликург, архиепископ Сироса, в 1869‒1870 гг. возглавил делегацию Элладской церкви в Англию для освящения греческой церкви в Ливерпуле. Присутствие на англиканских богослужениях и беседы с английскими духовными лицами явились первым в XIX в. актом непосредственных контактов представителей обеих церквей6.
С начала XIX в. важным центром англиканского духовного присутствия на территории Османской империи стал Иерусалим. В 1809 г. было основано Лондонское общество по распространению христианства среди евреев, которое, в свою очередь, в 1820 г. учредило Церковное Миссионерское общество и начало готовить миссионеров для Ближнего Востока. Первоначально миссионеры должны были проповедовать евангельское благовестие среди евреев, которые в это время стали прибывать в Палестину из разных стран; их деятельность была подкреплена созданным в Иерусалиме в 1838 г. британским вице-консульством. Наконец, в 1841 г. в Иерусалиме была учреждена англикано-лютеранская еписко-пия7. Уже при самом основании епископии члены Англиканской Высокой церкви и особенно сторонники Оксфордского движения резко выступали против планов прозелитизма среди местных христиан8. С одной стороны, предполагалось взаимное уважение с восточными церквами и возможность богословского диалога с ними в виду будущего сближения, а с другой стороны, в инструкциях миссионерам предписывалось нести свет чистой, незапятнанной идолопоклонством веры, что уже предполагало более высокое положение англиканства перед восточными исповеданиями. Эти две тенденции продолжали определять поведение англиканского духовенства на Востоке и в последующие десятилетия. Однако каковы бы ни были личные воззрения того или иного миссионера, они строго придерживались основного условия своей деятельности — невмешательства в жизнь местных христиан, исключения какой-либо пропаганды среди них и воздействия преимущественно личным примером.
В июне 1887 г. в Иерусалим был назначен новый англиканский епископ для надзирания за англиканскими церквами Египта, Сирии, Палестины и стран до Красного моря Георг Франциск Пофам Блит. Сразу после своего возведения на кафедру Блит адресовал приветственные письма православным иерархам. Письма не остались без отклика. В конце июня к Архиепископу Кентерберийскому Эдварду Уайту обратились патриархи Иерусалимский Никодим и Александрийский Софроний, которые особо подчеркнули, что они ценят англикан за то, что те не занимаются на Востоке прозелитизмом9. В письме к Архиепископу Кентерберийскому Эдварду Уайту от 25 ноября 1887 г. Кипрский митрополит Софроний приветствует усилия Блита к объединению всех христианских церквей в союзе любви10. Через два года Софроний возглавил кипрскую делегацию в Англию, был принят в Оксфордском университете. Перед отъездом на родину он пишет архиепископу Эдварду благодарственное письмо и обещает рассказать на Кипре о том, что тот предпринимает для нравственного и материального преуспеяния его паствы11. Установившиеся дружеские отношения обеспечили материальную поддержку Кипрской архиепископии в будущем. В начале 1900 г. Синодом Кипрской церкви было принято решение об открытии богословской школы. На ее строительство в 1900 г. было собрано 600 фунтов; еще 1000‒1200 фунтов ожидалось от британского правительства12.
2 апреля 1897 г. на Константинопольский патриарший престол был избран Константин V13. Новый патриарх удостоился положительной оценки британского посла в Константинополе Филиппа Кьюри14. Русские дипломаты также приветствовали избрание Константина V и положительно отзывались о его образованности, умеренных консервативных взглядах и миролюбии15. В годы своего патриаршества он столкнулся с различными проблемами: афонским вопросом (борьбой монастырей за право решать свои внутренние дела без благословения патриарха), продолжением ускюбского вопроса (поставления на Ускюбскую кафедру митрополита-серба Фирмилиана), последствиями критского восстания, проблемами в Александрийском и Антиохийском патриархатах. Вопреки ожиданиям русской дипломатии, в отношении России и ее политики на христианском Востоке Константин V занял оборонительную и даже враждебную позицию. 7 ноября 1900 г. патриарх адресовал императору Николаю II пространный протест по поводу активизации русского присутствия на Востоке и «панславистских планов» русского правительства; резкие обвинения высказывались в адрес Палестинского обще-ства16. Патриаршество Константина V длилось недолго: 30 марта 1901 г. он подал в отставку и на патриарший престол был избран, уже вторично, Иоаким III.
Из всех направлений деятельности Константина V наиболее известны его переговоры с представителями Англиканской церкви. В литературе, посвященной экуменическим контактам Англиканской церкви, этому сюжету уделено сравнительно мало внимания17. Первые шаги в сторону переговоров о церковном объединении были сделаны на Ламбетской конференции англиканских епископов в 1888 г. Она разработала проект из четырех догматических пунктов, на основе которых предполагалось вести диалог18. Через девять лет, в июле 1897 г., на Пятой Ламбетской конференции было высказано «искреннее желание» установить отношения с Православной Церковью. Комиссии из трех членов —Архиепископов Кентерберийского, Йоркского и епископа Лондонского — было поручено вступить в переговоры с иерархами Восточной православной церкви по вопросу о налаживании межцерковных отношений19. В январе 1898 г.
на Восток отправился епископ Солсберийский Джон Вордсворт, который должен был вручить патриархам решения конференции и начать переговоры. В Каире он встретился с патриархом Александрийским Софронием, который посоветовал ему посетить Константинополь для переговоров о межцерковном общении. Побывал он также на Кипре и в Ливане. Антиохийского патриарха Спиридона он не застал, зато встретился с семью из четырнадцати епископами, которые проявили, по его словам, большую заинтересованность в его предложениях. Обсуждались условия будущего церковного единения (Евхаристия, Символ веры). Епископы жаловались на беспомощность перед католической и пресвитерианской пропагандой. Напротив, деятельность англикан представлялась им весьма желательной, так как была свободна от прозелитизма. Епископ Вордсворт остался очень доволен встречами. Он нашел патриаршую школу в Дамаске удобной площадкой для распространения влияния и обещал прислать учителя, подобно тому как ранее был командирован на Кипр г-н Дакворт20.
22 января он обратился к британскому послу в Константинополе Ф. Кьюри с просьбой об аудиенции у Вселенского Патриарха. Посол немедленно выполнил его просьбу21. Надо сказать, что ввиду сложной международной обстановки подобная инициатива вызывала опасения. Получив от епископа Вордсворта сообщение о его намерении отправиться в Константинополь, Архиепископ Кентерберийский написал ему следующее: «По правде говоря, я был очень обеспокоен Вашим предложением отправиться к патриарху Константинопольскому в качестве представителя Церкви Англии, — ведь я ничего не знаю о том, как Вы себя будете вести на подобной аудиенции. Я надеюсь, что мои слова Вас не обидят; ибо я чувствую весь груз ответственности, который лежит на мне в ходе этих переговоров, и менее всего бы хотел действовать вслепую или действовать в спешке. Ведь может зайти речь о помощи, как духовной, так и материальной. Мое обещание первой отнюдь не означает обещание второй. Ни у кого не возникнет сомнений, что Ваш визит продиктован как политический акт со стороны Англии»22. Уже по прибытии в Константинополь епископ Вордсворт подробно описал свои переговоры с Иерусалимским патриархом. Беседа касалась догматических вопросов:
взаимное признание двух великих таинств и «таинств Церкви»; признание Никейского символа веры (вопрос о Filioque был оставлен для дальнейшего объяснения); признание того, что поместные церкви — это результат Божьего замысла, данного в Пятидесятнице, и здесь же о строгом соблюдении трех степеней священства; Св. Писание должно читаться и распространяться на местных языках. В итоге обе стороны пришли к выводу о необходимости допускать крещение и отпевание священниками обеих церквей в случае крайней нужды; обсуждалось сотрудничество в области просвещения и образования; противостояние активности католиков и пресвитериан23.
В Пепельную среду24, 23 февраля 1898 г., состоялась торжественная встреча епископа Вордсворта в Фанаре с патриархом Константином V и его Синодом в присутствии священника англиканской мемориальной церкви в Константинополе Т. Доулинга и членов британского посольства. От имени Архиепископа Кентерберийского он представил решения Пятой Ламбетской конференции. Члены Синода выразили свою признательность по вопросу о готовности англикан отпевать и хоронить покойников в случае необходимости, но в вопросе о признании англиканского крещения единого мнения не было. Т. Доулинг передает почти дословно частную беседу епископа с патриархом, которая имела место после официальной встречи. Епископ Вордсворт жаловался на случаи перекрещивания православными священниками в Антиохийском патриархате детей, которые были крещены англиканами, несмотря на то что патриарший Синод ранее признал действительность англиканского крещения. Патриарх отвечал уклончиво, что не в его силах контролировать подобные действия. Епископа интересовало, допускается ли общение в таинствах между православными и армянами . Патриарх отвечал, что в крайних случаях допускается. Несмотря на крайнюю настойчивость епископа Вордсворта, патриарх так и не дал ему немедленный ответ касательно легитимности крещений. Константин V предложил обратиться с официальным запросом, который будет рассмотрен Синодом25.
В результате переговоров были выработаны следующие заключения. Во-первых, представители обеих церквей призывались к регулярным личным встречам. Во-вторых, предстояло разработать совместную систему оказания милосердия при смерти и рождении, когда поблизости нет священника своей церкви. В-третьих, любые агрессивные действия в отношении членов той или другой церкви объявлялись недопустимыми. В-четвертых, англичане будут задействованы в различных формах деятельности по оказанию помощи Константинопольской церкви, в частности в распространении текста Св. Писания, содействии делу образования и проч. Как подчеркивал Доулинг, только второй пункт мог вызвать возражения со стороны православных, так как касался совершения Таинств англиканскими священниками. Патриарх ждал официального ответа на принятые решения со стороны Англиканской церкви. Через год, в июне 1899 г., Доулинг приехал в Англию и лично докладывал Архиепископу Кентерберийскому о ходе переговоров26.
После этой знаменательной встречи Т. Доулинг стал частым гостем в Фанаре. При его посредничестве была достигнута договоренность о присылке в Константинополь из Англии типографского оборудования, так называемой «Феодоровской мемориальной типографии» (в память Св. Феодора Тарсийского), для печатания нового издания Св. Писания. Патриарх внес сумму в 625 фунтов, остальные деньги (375 фунтов) были собраны в Англии. В июне 1899 г. типография уже была готова к погрузке на пароход в Ливерпуле27.
Наконец, 7 августа датировалось официальное письмо Архиепископа Кентерберийского к патриарху Константину V. Патриарх ответил на него 15 сентября28. Ответ патриарха был доброжелательным, но достаточно общим. Он без колебаний признал необходимость сотрудничества по трем пунктам: 1) регулярные визиты представителей обеих церквей по случаю праздников той и другой стороны; 2) взаимное оповещение о событиях, происходящих в каждой из церквей; 3) безусловный запрет какого-либо прозелитизма. В заключение он подчеркивает важность печатания Евангелия в новой типографии и благодарит за предоставление архидиакону Иерофею Текнопулосу возможности учиться в Оксфордском университете29. В письме от Константинопольского Синода к Архиепископу Кентерберийскому звучала жалоба на членов Библейских обществ, которые, распространяя Библию, вместе с тем отвращают народ от обычаев Православной Церкви. В ответ Т. Доулингом была подготовлена специальная записка, в которой подчеркивалось, что английское Библейское иностранное общество строго следит, чтобы его члены занимались исключительно распространением Св. Писания30.
Епископ Вордсворт подготовил брошюру на греческом языке с целью осведомления православного населения об учении и практике Англиканской церкви. Первое издание брошюры было подвергнуто обсуждению патриаршим Синодом в присутствии священника Доулинга. Планировалось второе ее издание с параллельным английским и греческим текстом31.
Избрание Иоакима III, которого поддерживала Россия, восприни малось англичанами как крах экуменических начинаний на Востоке32.
В июле 1901 г. на о. Халки состоялась встреча пастора Доулинга, бывшего патриарха Константина и бывшего патриарха иерусалимского Никодима, на которую были приглашены (но не явились) директор протестантского Роберт колледжа и Иоаким III33. Доулинг не скрывал своего разочарования от происходящего. «Иоаким III был избран под шумные овации греков. Следовательно, мы страдаем, и я не могу добиться внимания к себе на данный момент. Заседаний комиссии Св. Синода сейчас нет, и я удивлюсь, если меня пригласят туда. Однако протосинкел готовит ответ на Ваше „Учение Церкви Англии“. Он не будет представлен Синоду, но, очевидно, патриарх познакомится с его содержанием. Я узнал, что другие иерархи также готовят свои ответы, каждый от себя. Думаю, что это путь самый бесперспективный, при Константине V этого бы не случилось. Нам лучше было бы получить официальный ответ, одобренный Синодом»34. C сожалением Доулинг докладывал о запрете турецкой цензуры на второе издание «Учения Церкви Англии» Дж. Вод-сворта на греческом языке, объясняя это неминуемой реакцией после подъема во время предыдущего патриаршества. Тем не менее он находил настоящий момент подходящим для налаживания отношений с новым патриархом, который также, казалось, был заинтересован в контактах. Вскоре Доулинг покинул свой пост в Константинополе35. Незадолго до его отъезда, 29 сентября, состоялось заседание комиссии по дружеским отношениям Православной и Англиканской церквей; через месяц документ, заверенный подписями членов патриаршего Синода, был выслан в Лондон36.
Опасения англикан относительно Иоакима III не были напрасными. Он действительно не продолжил экуменических контактов своего предшественника, однако в своих окружных посланиях от 1902 и 1904 гг. неизменно подчеркивал разницу между действиями англикан и католиков на Востоке. Если вторые занимались неприкрытым прозелитизмом, стремясь всеми способами привлечь христиан в лоно Римской церкви, то первые отличались деликатностью и никого не принуждали покидать церковь своего крещения37.
* * *
Действительно ли англикане действовали на Востоке всегда бескорыстно и не занимались прозелитизмом? Протестантские общины Турции в целом пользовались покровительством британской дипломатии. Всего в конце XIX в. насчитывалось около 100 000 протестантов. На территории Османской империи действовало множество официально зарегистрированных школ, церквей и больниц, которые содержались на средства частных пожертвований из Англии; все они пользовались привилегиями и неприкосновенностью. Основная часть их была учреждена после Крымской войны, и лишь незначительное число относилось ко второй четверти XIX в. Ряд других учреждений подобного рода функционировало без официальных бумаг. Одним из крупнейших протестантских заведений в Турции была Смирнская евангелическая школа, находившаяся под покровительством британских дипломатов более 140 лет. В 1893 г. она насчитывала 1700 учеников; ей принадлежали три вспомогательных заведения. Согласно сохранившемуся документу от 1818 г., уже тогда английский консул в Смирне считал своей обязанностью покровительствовать школе. На этом основании британские дипломаты отстаивали школу от посягательств со стороны османских властей и греческого митрополита38.
Англиканские миссионеры нередко противопоставляли себя американским пресвитерианам, своим соперникам на Ближнем Востоке, и подчеркивали полную бескорыстность своей работы и отказ от прозелитизма. Действительно, в Персии в последние годы XIX в. они были готовы даже уступить созданные ими благотворительные учреждения православным, что вызвало негодование британского консула39. Приведем один показательный пример из истории их деятельности за пределами Константинопольского патриархата, но представляющий собой наглядную иллюстрацию характера их работы на Востоке. В начале ХХ в. широкую огласку получил случай обращения к англиканам жителей ливанского селения Зук Михаил (в начале 1902 г.). После конфликта с маронитским патриархом жители села стали просить англиканского архидиакона Х. С. Фрира принять их в лоно своей церкви. Аналогичную просьбу они адресовали прибывшему в Ливан иерусалимскому англиканскому епископу Блиту. Блит, не считая себя вправе предпринимать здесь какие бы то ни было шаги, в свою очередь обратился за советом к британскому консулу в Бейруте Р. Драммонду-Хею, который строго предостерег его от необдуманных действий. «Я думаю, что епископ Блит и его духовенство теперь хорошо понимают, как тесно связаны политика и религия в Сирии и Палестине, и особенно в Ливане», — писал консул40. Примирением враждующих сторон занялись одинаково незаинтересованные в конфликте британский консул, его французский коллега и турецкие власти. Вместе с тем Драммонд убеждал жителей не покидать церковь своего крещения41. 20 мая 1903 г. датируется пространное письмо-отчет Хью Фрира к британскому консулу в Бейруте. В нем Фрир подробно докладывает о своих переговорах с маронитским патриархом и местным населением и снова подчеркивает, что Англиканская церковь готова оказать лишь дружественную помощь советами, но никак не имеет права вмешиваться во внутренние дела восточных христи-ан42. В конце концов Хью Фрир разрешил им присутствовать на богослужении и в случае необходимости крестить детей, но при условии, что они не будут перекрещены. Поведение англиканского духовенства получило высокую оценку как в греческой, так и русской церковной печати43.
Английские миссионеры тщательно устраняли любые поводы заподозрить их в политической агитации. Однако по всей Османской империи они работали в сотрудничестве с местными консулами и неминуемо служили интересам распространения политического влияния Великобритании. Большую помощь оказывали они дипломатам своими отчетами о поездках, содержащими детальные статистические и географические сведения. В азиатской Турции , как указывалось выше, англикане дистанцировались от американских протестантов и соперничали с ними. В некоторых случаях это вызывало между ними серьезные разногласия.
Приведем еще один пример, на сей раз касающийся истории армян-протестантов в Сирии. По сообщению алеппского консула Г. Бар-нханта от 5 мая 1899 г., так называемая англо-американская епископальная община в Мараше обратилась к нему с просьбой о помощи. Эта община, созданная при иерусалимском англиканском епископе Гоббате в начале 1870-х гг., включала в себя членов из городов Мараш, Айнтаб и Диарбекир. Во время армянских погромов в 1894‒1896 гг. священник в Мараше был убит, школа и церковь разрушены, а родившиеся с тех пор дети остаются без крещения. Не вполне понятно, насколько данная община официально признана Англиканской церковью, но Барнхант призывает срочно выслать в Мараш священника, подчеркивая, что в противном случае она будет поглощена американской миссией44. В результате переговоров протестантского векила (представителя) при Оттоманской порте пастора Бояджяна, однако, выяснилось, что правительство не может дать разрешения на строительство церкви, а командировать туда священника из Англии ввиду немногочисленности общины было признано нецелесообразным. Ситуация оставалась без движения в течение двух последующих лет, и британский посол предпочитал выжидать появления кандидата в священники из числа местного населения45.
Зато в Е вропейской Турции английские и американские миссионеры действовали заодно. 9 октября 1895 г. пастор Генри Хаус пишет британскому консулу в Салониках Дж. Бланту отчет о своей поездке в Косовский вилайет со 2 по 29 июля 1895 г. Письмо пастора содержит статистические сведения о населении региона (9/10 — албанцы-мусульмане, 1/10 — сербы). Через месяц он совершил десятидневную поездку в восточную Македонию, в район Разлога, Банско и Якоруды. Хаус отмечает хорошие отношения между местными протестантами и османскими властями. Так, по представлению главы протестантской общины, рыночный день был перенесен с воскресенья на четверг. Объясняет он это законопослушностью протестантов и регулярной уплатой ими налогов46. Аналогичные сведения содержатся в письме другого пастора, Эдварда Хаскелла, миссионера, ездившего в болгарский город Разлог с 4 по 27 ноября того же года47. Салоникский британский консул в своих донесениях не делал различия между протестантами; его покровительством равным образом пользовались англиканские и американские миссионеры. В своем письме к Дж. Бланту от 8 марта 1895 г. вице-консул в Монастире Дж. Монахам подробно рассказывает о деятельности американских миссионеров и условиях жизни протестантских общин48. Местные протестанты смотрят на британских дипломатов как на своих естественных покровителей, говорилось в этих донесениях.
Не везде протестанты встречали подобное понимание со стороны турецких властей. Если власти смотрели равнодушно на обращение в протестантство православного или армянского населения, то единичные случаи обращения мусульман вызывали самые неприятные последствия. Так, вали Багдада отказывал протестантской общине в регистрации и открытии школы на основании случая крещения одного мусульманина. Настоящий скандал произошел в Кераке, когда некий «молодой грек» (по выражению английского дипломата) Селим Эс Сумаин (очевидно, мусульманин) принял протестантизм и начал преподавать в миссионерской школе. Помимо прочего, он был обвинен в нападении на мусульманских женщин и посажен в тюрьму49. В свою очередь, английские дипломаты употребляли влияние, чтобы помочь протестантам, особенно там, где церкви и учреждения возглавлялись англичанами50.
Приведенные примеры показывают, что в целом деятельность англиканских миссионеров на Ближнем Востоке вообще и в Константинопольском патриархате в частности соответствовала заявленному ими лозунгу невмешательства во внутренние дела восточных христиан. Тем не менее, несмотря на все благие намерения, никакого равенства в отношениях между церквами Востока и Англиканской церковью быть не могло уже в силу того, что англикане располагали большими материальными средствами и пользовались покровительством великой державы — Великобритании. Уверенность в собственной правоте иерархов каждой из церквей приводила в тупик все переговоры догматического характера, а неотделимость церковных дел от политических неизбежно расставляла свои акценты в самых, казалось бы, чисто духовных и благотворительных начинаниях. Один из английских священников в Палестине, Чарльз Биггс, в письме к Архиепископу Кентерберийскому приводит в пример свое служение в церкви у епископа Блита, куда к нему приходили молодые люди с просьбой о совершении над ними конфирмации и принятии их к участию в таинствах. Ему было трудно отказать им. «Мой собственный опыт показывает, что прозелитизм почти неизбежен, когда мы имеем дело со священнослужителями, работающими ревностно, с одной стороны, и священнослужителями, которые работают без ревности — с другой», — заключает он51. Если с последней частью его заявления можно поспорить, то очевидно, что в первой части Биггс определяет характер своего служения совершенно верно.