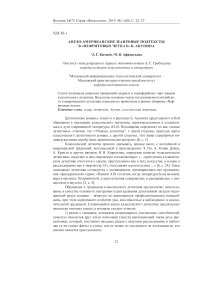Англо-американские жанровые подтексты в "Нефритовых четках" Б. Акунина
Автор: Кихней Любовь Геннадьевна, Афанасьева Оксана Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам проявлений ядерных и периферийных черт жанров классического детектива. Выделены основные черты так называемого английского и американского детектива, показано их проявление в рамках сборника «Нефритовые четки».
Жанр, подтекст, акунин, классический детектив
Короткий адрес: https://sciup.org/146281357
IDR: 146281357 | УДК: 82-1
Текст научной статьи Англо-американские жанровые подтексты в "Нефритовых четках" Б. Акунина
Детективные романы, повести и рассказы Б. Акунина представляют собой обращение к традициям классического детектива, переосмысленным и соединенным в духе современной литературы. Ю. В. Пономарева определяет их как «новые детективы», отмечая, что «“Новому детективу”, с одной стороны, присущи черты классического детективного романа, с другой стороны, этот жанр специфичен индивидуальными атрибутами, привносимыми автором» [8, с. 5]
Классический детектив принято связывать, прежде всего, с английской и американской традицией, воплощенной в произведениях Э. По, А. Конан Дойла, А. Кристи и других авторов. Н. Н. Кириленко, определяя понятие «классического детектива», выделяет в нем творческую составляющую: «…преступник в классическом детективе относится к своему преступлению как к акту искусства, а сыщик к расследованию как к творчеству. И с этим связан игровой аспект…» [6, с. 24]. Такое понимание детектива согласуется с посвящением, предваряющим все произведения «фандоринской» серии: «Памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом» [2, с. 3].
Обращение к традициям классического детектива предполагает использование в качестве основного инструмента разгадывания детективной загадки недюжинный разум сыщика – зачастую не являющегося профессиональным полицейским, при этом наделенного остротой ума, способностью к наблюдению и исключительной эрудицией. Сложившийся канон классического детектива предполагает несколько типовых клише, к которым следует отнести:
-
1) рядом с сыщиком, человеком неординарных умственных способностей, зачастую находится друг и/или помощник (иногда выполняющий также роль рассказчика), который, постоянно находясь рядом с ведущим расследование и наблюдая те же самые факты и улики, тем не менее до последнего не догадывается, кто именно является преступником;
-
2) позиция «недогадливого помощника» (доктора Уотсона, капитана Гастингса и прочих) призвана заместить позицию читателя: в классическом детективе основной интригой является поиск ответа на вопрос «кто преступник», и читатель, наряду с ассистентом главного героя, до последнего момента не должен догадываться, кто именно совершил преступление;
-
3) в большинстве детективов заранее очерчен круг подозреваемых лиц, обычно включающий в себя пять-шесть героев, и читатель пытается угадать или вычислить, кто из них является преступником. В крупных детективных формах выявляющиеся обстоятельства и происходящие после преступления события часто меняют фокус внимания: читатель (наряду с персонажами) подозревает то одного, то другого героя в совершении преступления, а ответ на интересующий его вопрос обычно дается в самом конце произведения;
-
4) в большинстве детективных произведений присутствует финальная сцена, в которой расследовавший преступление рассказывает героям, кто является преступником. Часто в ходе своей речи детектив рассказывает о том, как продвигалось его расследование, как он периодически был во власти ложной гипотезы, но наконец выяснил, кто же является преступником. Как правило, сам преступник присутствует среди собравшихся персонажей и предпринимает после этого выступления сыщика некоторые действия, окончательно его изобличающие;
-
5) в корпусе текстов, посвященных великим сыщикам, как правило, упоминается об их способности раскрывать преступления с помощью одной только силы мысли, без необходимости присутствовать на месте преступления, задавать вопросы и пр. Это подчеркивает отличия сыщика-любителя от сыщика-«професси-онала» – полицейского, которому в рамках классического детектива зачастую приписываются ограниченность и стереотипное мышление.
На раннем этапе развития классического детектива, во второй половине XIX столетия, преждевременно было бы говорить о расхождении английской и американской традиции: считающийся родоначальником жанра детектива Эдгар Аллан По был американским писателем, и Артура Конан Дойла обвиняли во вторично-сти образа Холмса, который, впрочем, стал намного популярнее Огюста Дюпена и превратился в символ классического детектива [6, с. 22]. В то же время в первой половине ХХ столетия детектив обогащается новыми жанровыми особенностями: Ю. В. Пономарева обращает внимание на отделение в 1930-х годах в американской литературе такого жанра, как «остросюжетный детектив» [8, с. 26], позднее ставшего основой жанра «боевика». Для этого жанра, наряду с обращением к детективной интриге и напряженным поискам преступника, характерно некоторое смещение акцентов: от интеллектуальной работы сыщика автор перемещает фокус внимания на сюжетную динамику: погони, перестрелки, сопротивление преступника и пр. Зачастую интрига сфокусирована не на поиске преступника из закрытого набора подозреваемых лиц, а на желании / возможности поймать этого преступника, и детектив делится на две практически равноценные части, которые можно условно назвать «поиск» и «погоня». Этот жанр был развит в американской литературе Эрлом Стэнли Гарднером, Рексом Стаутом, Реймондом Чандлером и др.
Жанр детектива, таким образом, диверсифицируется и делится на поджанры. Мы рассматриваем литературный жанр как некий способ осмысления сферы внешнего и внутреннего бытия и ее художественной организации в некоторое типическое целое – модель, форму. Всякий жанр, по словам М.М. Бахтина, – это «особый тип строить и завершать целое, притом <…> существенно тематически завершать, а не условно-композиционно кончать» [7, с. 175–176]. В связи с этим жанр можно определить как некоторую культурную универсалию, своего рода «категориальную сетку», в рамках которой происходит осмысление бытия и отражение процессов, происходящих в сознании.
При этом каждый жанр обладает «полевой» структурой, сходной с типовым представлением семантического или лексико-грамматического поля, имеющего ядро и периферию. В центре жанра как динамической системы оказывается базовый («ядерный») компонент. В сущности, именно он конституирует тот или иной жанр. Для детективного произведения таким ядерным признаком будет описание преступления (преступлений) и поиск / поимка преступника (преступников). Не каждое произведение, в котором происходит преступление, – детектив, но в каждом детективе непременно происходит преступление. Наряду с доминантными признаками в жанре существуют периферийные, вспомогательные признаки. Они тоже чрезвычайно важны, ибо сочетание «ядра» с разным набором периферийных признаков (как правило, культурно и исторически обусловленных) дает те или иные жанровые модификации. В случае перехода вспомогательных компонентов в доминантные, а периферийных – в «ядерные» мы будем наблюдать разного рода жанровые трансформации. Трансформация такого рода привела к расщеплению жанра детектива на «английский детектив», в котором основной акцент сделан на разгадывании интеллектуальной загадки, и «американский детектив», в котором акцент смещен на физическую активность сыщиков и поимку преступника.
Детективные рассказы Б. Акунина, вошедшие в сборник «Нефритовые четки», представляют собой образцы постмодернистской игры с читателем, в то же время вписывающейся в каноны массовой литературы. Ю. В. Пономарева, однозначно атрибутируя «фандоринский» цикл как массовую литературу, отмечает, что «массовая литература санкционирует изменчивость литературных моделей, оживление заурядной обстановки и некоторую индивидуализацию персонажей, но кардинальное обновление, возможности свободного и самостоятельного мироосмысления для неё недопустимы. При всем историческом непостоянстве жанрово-тематических норм сам алгоритм подготовки эталона (формулы, образца, множимой копии) не должен прерываться, поскольку в противном случае едва ли можно будет причислить данный текст к массовой литературе» [8, с. 26].
Ядерные и периферийные черты жанра классического детектива в рассказах из сборника «Нефритовые четки» коррелируют с подробно разобранными К.Ф. Ге-рейхановой интертекстуальными чертами рассказов [4]. Помимо многочисленных явных и скрытых отсылок к текстам известных авторов детективных произведений, Б. Акунин прибегает к использованию знаковых черт жанра, восходящих прежде всего к английскому детективу. Сборник включает десять рассказов и повестей, и в девяти из них (во всех, кроме рассказа «Одна десятая процента») преступник неизвестен, а Эраст Петрович Фандорин прилагает как интеллектуальные, так и физические усилия, чтобы его поймать. Рассказы «Сигумо», «Table-talk 1882 года», «Из жизни щепок», «Скарпея Баскаковых» и «Чаепитие в Бристоле» предполагают ограниченный круг подозреваемых, в повести «Перед концом света» этот круг постепенно сужается по мере раскрытия новых смертей.
Далее, в ряде произведений из «Нефритовых четок» у Фандорина присутствует «ассистент», не понимающий его хода мысли, причем в большинстве случаев эта типичная роль достается не сквозному герою «фандоринского корпуса», другу и сподвижнику Фандорина Масахиро Сибате, а другим героям. Так, в «Скарпее
Баскаковых» эту роль выполняет Анисий Тюльпанов, секретарь и помощник Фандорина. В повести «Долина мечты» эту роль выполняет Уошингтон Рид, в «Перед концом света» Фандорина-Кузнецова сопровождает целый ряд героев, вовлеченных в расследование, а в завершающей книгу «Узнице башни» помощник становится биографом Фандорина, беря уроки у доктора Уотсона.
Мотив беспомощности и ограниченности полиции, ведущей официальное расследование, присутствует в «Из жизни щепок», «Скарпее Баскаковых», «Нефритовых четках», «Одной десятой процента», «Чаепитии в Бристоле», «Долине мечты» и «Узнице башни». В большинстве перечисленных произведений этот момент упоминается вскользь: герои отказываются обращаться в своем расследовании к полицейским, считая их бесполезными и нерасторопными. В «Нефритовых четках» околоточный Небаба сам становится невольным провокатором преступления, поскольку сообщает графу Хруцкому о найденных в лавке антиквара Пряхина четках:
«– Но каким образом вы узнали, что мне удалось н-найти четки? Утром я обнаружил немудрящий пряхинский тайник, а уже вечером вы попытались меня убить.
Небаба ни с того ни с сего закашлялся, да так старательно, что Фандорин сразу же повернулся к околоточному.
– Вы? Это вы ему сказали? Но з-зачем? Хотели проверить у специалиста, насколько ценны четки? Что, сразу из лавки отправились к графу?» [2, с. 61]
В рассказе «Из жизни щепок» рассудительный и осторожный в своих оценках Фандорин противопоставлен энергичному Зосиму Ванюхину – опытному сыщику, который, тем не менее, направился по ложному следу, подозревая кого-либо из семьи фон Маков.
Характерный для классического детектива перебор персонажей, каждый из которых потенциально мог бы быть преступником, поскольку имел для этого как мотив, так и возможность, представлен в «Сигумо», «Из жизни щепок», «Скарпее Баскаковых», «Чаепитии в Бристоле» и «Перед концом света». Финальная сцена, в ходе которой все действующие лица собираются и выслушивают выкладки детектива, присутствует в рассказе «Из жизни щепок». При этом истинный убийца, как во множестве детективов Агаты Кристи («Таинственное происшествие в Стайлз», «Убийство леди Эдгвейр» и пр.) выдает себя после разоблачения: «Еще через секунду опомнившиеся унтер-офицеры уже выкручивали убийце руки, а он рычал, рвался и даже пробовал кусаться. Воющего, извивающегося, его вынесли за дверь на руках. Следователь и журналист помогали полицейским» [Там же, с. 38].
В «Нефритовых четках» присутствует также и разгадывание детективной загадки «на расстоянии»: в рассказе «Table-talk 1882 года» Эраст Петрович в светском салоне предполагает жуткую разгадку случая, произошедшего за шесть лет до времени действия рассказа. История исчезновения княжны Каракиной также предполагает ограниченный круг подозреваемых лиц, как в классическом английском детективе. Присутствует подобная сцена и в рассказе «Чаепитие в Бристоле» – при этом способности к разгадыванию детективного случая проявляет мисс Палмер, не уступающая Эрасту Фандорину в проницательности и сообразительности.
В «Нефритовых четках» присутствует отсылка и к чертам американского детектива – в повести «Долина Мечты», действие которой происходит в Америке. Ритм событий этой повести отличается от неспешного ритма других рассказов: Эраст Петрович преследует преступников, попадает в бесконечные перестрелки, фреймы ситуации меняются практически каждую страницу. «Долина Мечты» де- монстрирует типичный американский вид детектива с его динамикой, и именно в этом произведении главенствует не интеллектуальное «разматывание клубка», а динамика ловли преступника. Более того, за счет использования образа Безголового Всадника «Долина Мечты» отсылает как к «Легенде о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга, так и к «Всаднику без головы» Майн Рида, – в повести Акунина присутствует мистическая интрига (впрочем, находящая впоследствии вполне земное объяснение), создающая межтекстовый диалог с двумя произведениями классической американской литературы.
Сборник «Нефритовые четки» представляет собой сложный полижанровый текст, задуманный как набор парафразисов к различным образцам классического детектива. Борис Акунин в рецензии на книгу Элизабет Джордж «Расплата кровью» назвал себя «ушибленным британским классическим детективом» [1, с. 3], что отчасти отражается на жанровых подтекстах не только «Нефритовых четок», но и всего фандоринского корпуса текстов: в нем гораздо больше жанровых черт именно британского детектива, отсылающего к Агате Кристи и Артуру Конан Дойлу. В меньшей степени «фандоринский корпус» характеризуется чертами американского детектива – остросюжетного триллера, в котором акцентировано внимание в большей степени на динамике сюжета, а не на интеллектуальном поиске сыщика, разгадывающего криминальные головоломки.
Список литературы Англо-американские жанровые подтексты в "Нефритовых четках" Б. Акунина
- Акунин Б.//Джордж Э. Расплата кровью. М.: Эксмо, 2008. 419 с.
- Акунин Б. Нефритовые четки. М.: Захаров, 2016. 276 с.
- Герейханова К. Ф. Интертекстуальные стратегии в сборнике «Нефритовые четки» Бориса Акунина: дис. … канд. филол. н.: 10.01.01/К. Ф. Герейханова; Рос. ун-т дружбы народов. М., 2018. 200 с.
- Кихней Л. Г. К семиотике интертекстуальных мотивов в песнях Высоцкого: случай «Охоты на волков»//Владимир Высоцкий: исследования и материалы. 2011-2012. Воронеж: ЭХО, 2012. С. 11-28.
- Кихней Л. Г. О механизме жанрового моделирования лирики: авторская установка и «память жанра»//Метаморфозы жанра: материалы VIII междунар. науч. конференции «Художественный текст и культура». Владимир: Владимирский гос. ун-т, 2010. С. 204-217.
- Кириленко Н. Н. Детектив: логика и игра//Новый филологический вестник. 2009. № 2(9). С. 27-47.
- Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Л.: Прибой, 1928. 232 с.
- Пономарева Ю. В. Жанровое своеобразие произведений Б. Акунина: дис. … канд. филол. н.: 10.01.01/Ю.В. Пономарева; Тверской гос. ун-т. Тверь, 2018. 157 с.