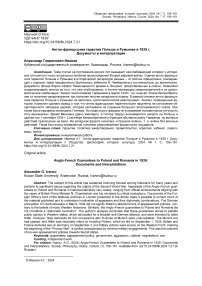Англо-французские гарантии Польше и Румынии в 1939 г. Документы и интерпретации
Автор: Иванов Александр Гаврилович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Тема статьи на протяжении многих лет вызывает неослабевающий интерес у историков, относится к числу актуальных проблем происхождения Второй мировой войны. Оценки англо-французских гарантий Польше и Румынии в исторической литературе разные - от вполне официозных, совпадающих с оценкой главы предвоенного британского кабинета Н. Чемберлена и его министров, до критических. Документы фонда Форин оффис Национального архива в Лондоне, представленные в статье, позволяют скорректировать многое из того, что уже опубликовано, и понять мотивацию умиротворителей и их дипломатические комбинации. Захват Чехословакии Германией в марте 1939 г. не означал отказа Великобритании от политики умиротворения, как полагают многие западные историки. В равной степени англо-французские гарантии Польше и Румынии не являлись «дипломатической революцией». Анализ, проведенный автором, позволил сделать вывод о том, что англо-французские гарантии были нацелены на успокоение общественности западных держав, которая настаивала на создании большого антигерманского союза. Они также были призваны остановить Гитлера. Но нацистского фюрера не устраивали половинчатые уступки по типу мюнхенских. Время Мюнхена давно миновало, а Гитлер твердо вознамерился напасть на Польшу и сделал это 1 сентября 1939 г. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии, но военных действий практически не вели. На западном фронте началась «странная война», т. е. война без военных действий. Таков был исход предвоенной политики умиротворения фашистских государств.
Гарантии, политика умиротворения, правительство, агрессия, кабинет, переговоры, война
Короткий адрес: https://sciup.org/149145563
IDR: 149145563 | УДК: 94(4)“1939” | DOI: 10.24158/fik.2024.7.21
Текст научной статьи Англо-французские гарантии Польше и Румынии в 1939 г. Документы и интерпретации
В советской и российской исторической науке политика гарантий Великобритании и Франции по отношению к странам Восточной Европы получила освещение в исследованиях истории Второй мировой войны и международных отношений в новейшее время1, монографиях (1939 год…, 1990; Антигитлеровская коалиция…, 2019) и учебниках2. Так, один из авторов коллективной монографии «1939 год. Уроки истории» Л.В. Поздеева считает, что гарантии «являлись не подготовкой к войне, а демонстрацией твердости, стремлением удержать Гитлера от дальнейшей агрессии» (1939 год…, 1990: 225). На Западе разброс оценок и мнений достаточно широкий – от оправдательных («дипломатическая революция», покончившая с политикой умиротворения) до острокритических. К первой группе можно отнести таких историков, как Н. Флеминг, М. Маколей, Р. Дуглас, Б. Бонд (Великобритания), Г.-А. Якобсен, Б.-Ю. Вендт (ФРГ). В то же время имеются и критики концепции «дипломатической революции», такие как известный германский историк С. Хаффнер. В поисках истины, аргументированной оценки англо-французских гарантий в канун Второй мировой войны помогают источники – архивные документы, представленные в данной статье.
Ликвидация Чехословакии Германией 15 марта 1939 г. явилась актом неспровоцированной агрессии и открытым вызовом для европейской и мировой общественности. Политика умиротворения фашистских государств, которую последовательно осуществляли Великобритания и Франция, потерпела крах, для многих стало очевидным, что большая война неизбежна. Тем не менее в Лондоне и Париже не собирались делать резких движений, и это несмотря на то, что западные державы были гарантами послемюнхенских границ Чехословакии.
Правительства Чемберлена и Даладье заблаговременно были осведомлены о том, что Гитлер намеревается поглотить Чехословакию. Так, 20 января 1939 г. из британского посольства в Париже поступили сведения в Форин оффис о подготовке Германией аннексии Чехословакии3. За месяц до осуществления агрессии эти сведения были подтверждены британской спецслужбой MI-54. Наконец, французская контрразведка знала об этом за 10 дней до поглощения Чехословакии Германией5.
Первоначальная реакция правительств западных держав была неадекватной сложившейся ситуации. Так, Чемберлен заявил 15 марта, что Чехословакия прекратила существование «в результате внутреннего распада». Сходную позицию занял министр иностранных дел Франции Ж. Бонне, который дал понять, что его страна не собирается вмешиваться6.
Уничтожение Чехословакии имело крайне негативные последствия для Европы. В результате этой агрессивной акции Германия заметно усилилась. Только танков, причем высокого качества, было захвачено 600, орудий всех калибров – 2 200, противотанковых орудий – 1 800, а также 750 самолетов и 1,5 млн винтовок (Иванов, 2020: 52). Учитывая, что у немцев под ружьем была армия в 1 млн человек, а подготовленные резервы насчитывали 1,5 млн человек, не считая старослужащих в запасе и подготовленных частично7, становится понятным, что остановить агрессора можно было только коллективными усилиями великих держав. Эта достаточно боеспособная и оснащенная армия Германии, а также внушительные резервы предназначались для решения более сложных, глобальных задач, нежели захват отдельных стран. В Лондон по различным каналам поступала информация о долгосрочных планах Гитлера и его окружения. Так, еще 17 ноября 1938 г. руководитель Экономического департамента Форин оффис Ф. Эштон-Гуэткин представил запись беседы со своим соотечественником Дж. Ренни, который близко знал Гитлера до его прихода к власти. Тот поведал британскому дипломату следующее: «Долгосрочная политика нацизма – разрушение Британской империи. Гитлер и его приближенные хотят создать Священную германскую империю, которая будет включать страны Центральной Европы, Балканы, Турцию и Украину, польский коридор [Данцигский. – А. И. ] и Прибалтийские государства до Финляндии». Он также подчеркнул, что только мировая война может уничтожить нацистскую партию, а она неизбежна, учитывая амбиции Гитлера и текущие события. От себя Ф. Эштон-Гуэткин заметил, что война начнется в сентябре, «хотя Ренни считает, что раньше – в марте-апреле 1939 г.»8.
К этому необходимо добавить, что западные державы не собирались воевать с Германией (и с Италией тоже). Политика умиротворения и была рассчитана на достижение полюбовного соглашения с фашистскими диктаторами, а по существу свелась к односторонним уступкам им за счет других в надежде (пустой, как оказалось), что таким образом будут достигнуты мир и согласие на западе, а война, если она случится, то только на востоке Европы. Но Гитлер не собирался ограничивать масштабы экспансии Германии. К тому же политика умиротворения способствовала ослаблению западных держав, подрывала их обороноспособность, ибо была сопряжена с опасными иллюзиями и грубыми стратегическими просчетами. В связи с этим представляет интерес доклад главного дипломатического советника правительства Р. Ванситтарта, представленный на рассмотрение кабинета 15 февраля 1939 г.: «Офицерский корпус [Германии. – А. И.] абсолютно убежден в том, что Англия не способна более проводить политику балансирования на грани войны. Как следствие, офицерский корпус такого же мнения о Франции. Эти оценки основаны на истории так называемой капитуляции в Мюнхене»1. Далее британский дипломат отметил, что в Берлине считают, что западные державы не готовы к войне и поэтому надеются разрешить все спорные проблемы с Германией полюбовно.
Западная общественность была возмущена захватом Чехословакии Германией, поэтому Чемберлен был вынужден заявить 17 марта, что он готов принять жесткие ответные меры. Впрочем, это мало что меняло в предвоенной стратегии Великобритании.
В отличие от западных держав СССР осудил аннексию Чехословакии Третьим рейхом и предложил созвать конференцию с участием представителей Великобритании, Франции, Польши, Румынии, СССР и Турции в целях принятия решений по недопущению эскалации агрессии. Но это предложение было отклонено на том основании, что такая конференция требует тщательной подготовки (Иванов, 2020: 54).
18 марта на заседании кабинета Чемберлена обсуждалась ситуация по Румынии (первоначально в Лондоне полагали, что именно она станет очередной жертвой Германии, которая испытывала острую потребность в нефти). Были изложены взгляды и выводы начальников штабов британских вооруженных сил, которые считали, что только с помощью России, Польши и Франции можно оказать существенную помощь Румынии. В том случае если Польша и СССР ответят отказом, следовало заручиться поддержкой Греции и Турции. Наконец, важное значение придавалось позиции Италии. Ее армия оценивалась в 1 млн человек, а флот в Средиземном море признавался достаточно мощным2. Кабинет одобрил линию Чемберлена на образование антигерманской коалиции в составе Великобритании, Франции, СССР, Польши, Румынии, Турции, Греции и Югославии3.
Но это вовсе не означало, что Великобритания была готова воевать с Германией. Политика умиротворения потерпела крах в связи с событиями 15 марта 1939 г., но с ней все же не было покончено. Она была отодвинута в сторону до лучших времен (другое дело, что такие времена для Англии так и не наступили). Весной и летом 1939 г. проходили сложные и по-своему драматичные англо-франко-советские переговоры о создании большого антигерманского союза. Они не привели к искомому результату, в том числе и потому, что Великобритания, равно как и Франция, которая послушно шла в фарватере британской политики, не желала сотрудничать с СССР на равных в борьбе с нацистской агрессией (см.: Антигитлеровская коалиция…, 2019). Немаловажным в этом смысле было стремление британского премьер-министра Чемберлена и его единомышленников вернуться к политике умиротворения и договориться с Гитлером полюбовно. Это подтверждает протокол заседания английского кабинета от 24 мая 1939 г. Министр иностранных дел лорд Галифакс и министр по делам доминионов Т. Инскип предложили использовать переговоры с СССР как средство давления на Германию и возобновления политики умиротворения. Чемберлен поддержал эту идею, но заметил, что время для этого еще не пришло (Иванов, 2020: 109–110).
Что касается Италии, которая упоминалась на заседании британского кабинета 18 марта, то Чемберлен и его окружение рассчитывали (но эти расчеты были построены на песке), что Муссолини окажет сдерживающее влияние на Гитлера. На заседании кабинета 20 марта министры одобрили инициативу Чемберлена послать письмо дуче, в котором британский премьер выражал свое крайнее беспокойство актом включения граждан негерманской расы в состав рейха, и в связи с этим возникал вопрос – стремится ли Германия к мировому господству? Дуче – единственный человек, кто может остановить Гитлера4. В тот же день письмо в отредактированном виде, умиротворяющем по содержанию, было направлено Муссолини5. Но, как оказалось, оно было не по адресу. Муссолини был связан с Гитлером союзническими отношениями, он уже вынашивал план захвата Албании и не собирался играть роль миротворца. 1 апреля 1939 г. он ответил Чемберлену, что не считает возможным брать на себя какие-либо обязательства до тех пор, пока права Италии не будут признаны6.
Тем временем Германия расширяла масштабы экспансии. 22 марта она оккупировала Клайпеду с прилегающей областью. Литве был навязан соответствующий договор. Правительство Чемберлена заблаговременно предупредили об этой акции телеграммой из британской дипломатической миссии в Риге 20 марта1. Тем не менее Великобритания, а также Франция, поставившие свои подписи под Клайпедской конвенцией 1924 г., молчаливо согласились и с этим актом насилия со стороны Германии.
Вслед за захватом Клайпеды последовал натиск нацистов в Дунайском бассейне. 23 марта Германия навязала Румынии соглашение, по которому немцы могли получать по низким ценам до 100 % румынского нефтяного экспорта.
Германия оказала также нажим на Польшу, которой был предъявлен ультиматум в отношении Данцига и Данцигского коридора. Правительство Польши отклонило ультиматум, но это вполне устраивало Гитлера, поскольку создавало предлог для обострения отношений между двумя странами.
Экспансия Германии была резко воспринята западной общественностью. Так, в ходе встречи Чемберлена с заместителем лидера Лейбористской партии Х. Дальтоном 23 марта 1939 г. тот призвал правительство принять решительные меры по недопущению эскалации агрессии. Но Чемберлен не собирался уступать, считая свои действия единственно правильными. Он заявил, что готов тесно сотрудничать с Францией, Польшей и Румынией. СССР исключался из этой схемы на том основании, что он не имел общей границы с Германией и его участия в антигерманском блоке не допустят Польша и Румыния (Иванов, 1993: 156–157).
27 марта на заседании кабинета Чемберлен со всей определенностью заявил, что антигерманская коалиция с участием СССР невозможна из-за позиции Польши и Румынии. Он также добавил к этому списку стран, не расположенных к сотрудничеству с СССР, Финляндию, Югославию, Италию, Испанию и Португалию. Кабинет принял решение поддержать линию Чемберлена на углубление сотрудничества с Польшей и Румынией (Иванов, 1993: 158–159). Так вырисовывался прообраз английских гарантий этим странам.
Оценивая данное решение, необходимо отметить следующее. Образование антигерманского фронта без участия в нем СССР было обречено на провал, поскольку Польша, как и Румыния, не представляли серьезной угрозы для Германии, которая неизмеримо усилилась после аннексии Чехословакии. Расчеты на то, что подобный фронт способен сдержать Гитлера, не имели на то должных оснований. В Лондоне и Париже переоценили потенциал и возможности Польши (50 достаточно боеспособных дивизий)2. Армия Польши была армией старого образца (Парсада-нова, 1989: 15). Что касается Румынии, то она в еще меньшей степени была готова к противостоянию Германии. Ее армия оценивалась в 22 дивизии, причем слабо вооруженных3. Эти страны особенно нуждались в союзниках в случае войны.
Одним из таких союзников могла стать Великобритания. 30 марта 1939 г. на заседании внешнеполитического комитета было принято решение о предоставлении гарантии Польше, а на следующий день Чемберлен обнародовал декларацию в палате общин парламента. В ней, в частности, говорилось, что в случае агрессии против Польши правительство Великобритании окажет польскому правительству «всю поддержку, которая в его силах»4. Вскоре примеру Великобритании последовала Франция.
Протокол заседания комитета от 30 марта весьма интересен. Обсуждалась возможность уведомить Германию заблаговременно о декларации до получения ответов из Парижа и Варшавы (идея не прошла), а другой вариант – поставить в известность Муссолини – был одобрен. В связи с этим министр иностранных дел лорд Галифакс пояснил, что в таком случае у Муссолини появится возможность выйти напрямую на Гитлера и воздействовать на него5. Англичане, как всегда, пытались комбинировать. Так, они ускорили процесс перевооружения, в частности производство боевых самолетов (в отличие от Франции, где авиация, хотя и внушительная по количеству самолетов, была крайне устаревшей). В поисках союзников Великобритания пыталась заручиться поддержкой Польши, Румынии, а также Турции и Греции. Контакты с СССР возобновились вскоре после очень долгой паузы, вызванной капитуляцией западных держав перед Гитлером в Мюнхене. А Муссолини рассматривался Чемберленом и его единомышленниками в качестве возможного медиатора, не заинтересованного в войне. На заседании кабинета 31 марта Чемберлен подчеркнул: «Условия декларации надо немедленно сообщить Муссолини до того, как они попадут в прессу»6. Чемберлен выступил в палате общин позднее, в 3 часа пополудни. Но из этой идеи умиротворителей ничего не получилось.
В исторической литературе существует разброс мнений относительно англо-французских гарантий (Румыния и Греция получили их 13 апреля 1939 г.). Одни историки полагают, что Великобритания и Франция, предоставив гарантии Польше и Румынии, совершили тем самым «дипломатическую революцию», т. е. отбросили политику умиротворения и перешли к противоборству с агрессором – нацистской Германией (Lukacs, 2001: 31; Mandel, 1986: 23; The Fascist Challenge…, 1983: 27, 87, 158, 204, 251). Так, Г.-А. Якобсен считает, что англо-французские гарантии коренным образом изменили политику западных держав (Почему Третий рейх проиграл…, 13–14). Но не все историки разделяют подобные взгляды. Соотечественник Г.-А. Якобсена С. Хаффнер пишет, что англо-французские гарантии – «это был чистый блеф: Англия не могла защитить Польшу в случае нападения на нее Гитлера» (Почему Третий рейх проиграл…, 197).
Да, все было именно так. В связи с этим важно отметить, что здравомыслящие политики в Англии, равно как и советские дипломаты (в частности, полпред СССР в Лондоне И.М. Майский), еще тогда, т. е. в конце марта 1939 г., осознавали, что английская гарантия Польши не имела реального содержания.
Вот как оценил английскую гарантию И.М. Майский. В беседе с постоянным заместителем министра иностранных дел Великобритании А. Кадоганом 29 марта 1939 г. он со скепсисом отнесся к его заявлению о том, что необходимо организовать блок четырех держав – Англии, Франции, Польши и Румынии, направленный против Германии. Что касается СССР, как заявил британский дипломат, то «он пока остается в стороне, но на следующем этапе он тоже привлекается». На это советский полпред ответил, что разговоры о некоей «революции» в британской политике беспочвенны1.
Разумеется, никакой «дипломатической революции» не было, да и не могло быть. Британская политика в этом смысле никогда не отличалась радикализмом. Важно и другое. Документы фонда Форин оффис Национального архива в Лондоне дают реальную картину дипломатических комбинаций в высших эшелонах власти Великобритании. Правительство Чемберлена действовало на нескольких направлениях: гарантии странам Восточной и Юго-Восточной Европы призваны были оказать сдерживающее влияние на Гитлера (что было более чем проблематичным) и успокоить общественность.
О подлинном значении гарантий Польше и Румынии свидетельствует меморандум английских начальников штабов от 3 апреля 1939 г. Он имел принципиальное значение для правительства Чемберлена и принятия им соответствующих решений. В документе подчеркивалось, что Англия планирует послать в Европу в условиях войны всего 2 дивизии в течение 3 месяцев, а Франция в состоянии мобилизовать и выставить на фронт 86 дивизий. Вермахт, по оценке военных, насчитывал 105–110 дивизий (на самом деле в условиях мобилизации Германия имела бы 102 дивизии). Еще один вывод звучал тревожно: «Линия Зигфрида уже достаточно прочная, и вопрос о ее быстром прорыве отпадает». Начальники штабов предупреждали правительство, что «вмешательство Италии представит серьезную угрозу для нас на море», поэтому важно заручиться поддержкой Турции2. Отсюда попытки правительства Чемберлена обеспечить благожелательный нейтралитет Италии накануне войны и предоставление гарантии Турции в мае 1939 г.
Вывод начальников штабов был категоричным: «Ни Англия, ни Франция не в состоянии оказать прямую помощь Польше или Румынии для противодействия германскому вторжению. Более того, учитывая состояние английских и французских вооружений, ни Англия, ни Франция не в состоянии обеспечить вооружениями Польшу или Румынию. Это подчеркивает важность получения помощи от СССР» (Иванов, 1993: 160–161). Таким образом, англо-французские гарантии не имели реального содержания, и в Берлине не сомневались в этом. 11 апреля 1939 г. Гитлер подписал план «Вайс» – план военного разгрома Польши.
В Лондоне и Париже знали о подготовке вооруженной агрессии задолго до ее осуществления. 8 апреля 1939 г. из английского посольства в Берлине (от военного атташе) сообщили о подготовке плана войны против Польши в германском генеральном штабе3. За день до этого, 7 апреля, из Парижа в Форин оффис поступило сообщение от заместителя военного атташе Великобритании К.А. де Линде о беседе с начальником французской контрразведки полковником М. Гоше. Тот пребывал в пессимистическом настроении и заявил англичанину, что вполне вероятно нападение (Германии) на Польшу в ближайшие несколько дней4.
Последние дни мира были отмечены лихорадочными попытками правительства Чемберлена урегулировать противоречия между Германией и Польшей за счет последней (посредством передачи немцам Данцига и Данцигского коридора). При этом в Лондоне надеялись на посреднические усилия министра иностранных дел Италии (и зятя Муссолини) Г. Чиано (он поддерживал тайные контакты с Форин оффис). Так, 26 августа лорд Галифакс отправил телеграмму послу в Риме П. Лорейну с уведомлением, что «если урегулирование будет ограничено только Данцигом и коридором, то оно вполне возможно». И далее: «Все это Муссолини должен передать в Берлин как можно скорее и использовать там все свое влияние»1.
Однако ситуация давно уже вышла из-под контроля англичан. Гитлера не устраивали половинчатые уступки за счет малых европейских стран. Германия сделала ставку на войну блицкрига против Польши и выиграла ее. Что касается Великобритании и Франции, то они, несмотря на решение объявить войну Германии, реальных военных действий не вели. На западном фронте началась «странная война», т. е. война без активных боевых действий. Таким был исход политики умиротворения фашистских государств.
Список литературы Англо-французские гарантии Польше и Румынии в 1939 г. Документы и интерпретации
- 939 год. Уроки истории / отв. ред. О.А. Ржешевский. М., 1990. 508 с.
- Антигитлеровская коалиция - 1939: формула провала / под общей ред. В.Ю. Крашенинниковой. М., 2019. 336 с.
- Иванов А.Г. 1939 год. Европа между миром и войной. Краснодар, 2020. 187 с.
- Иванов А.Г. Агрессоры и умиротворители. Гитлер, Муссолини и британская дипломатия. М., 1993. 208 с.
- Парсаданова В.С. Трагедия Польши в 1939 г. // Новая и новейшая история. 1989. № 5. С. 11-27.
- Почему Третий рейх проиграл войну: немецкий взгляд : сб. ст. / под ред. А. Исаева. М., 2021. 381 с.
- Lukacs J. The Last European War: September 1939 - December 1941. New Heaven, 2001. 576 p.
- Mandel E. The Meaning of the Second World War. L., 1986. 210 p.
- The Fascist Challenge and the Policy of Appeasement / ed. by W.J. Mommsen, L. Kettenacker. L., 1983. 448 p.