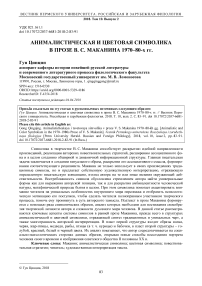Анималистическая и цветовая символика в прозе В. С. Маканина 1970-80-х гг
Автор: Цинцин Гун
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Символика в творчестве В. С. Маканина способствует раскрытию идейной направленности произведений, реализации авторских повествовательных стратегий, расширению ассоциативного фона и в целом созданию обширной и динамичной информационной структуры. Главная писательская задача заключается в создании визуального образа, раскрытии его ассоциативного смысла, формировании соответствующего реципиента. Маканин не только использует в своих произведениях традиционные символы, но и предлагает собственную художественную интерпретацию, отражающую определенную писательскую концепцию, взгляд автора на те или иные явления окружающей действительности. Востребованность символа обусловлена стремлением автора найти универсальные формы как для выражения авторской позиции, так и для раскрытия амбивалентности человеческой натуры, метафизической природы бытия в целом. При этом символика помогает акцентировать внимание читателя на уникальных особенностях внутреннего мира персонажа и отобразить психологическую мотивацию его поступков, чтобы сделать читателя полноправным участником творческого процесса, помочь ему проникнуть в суть авторского замысла. Подтекст в прозе Маканина формируется с помощью ряда символических образов, анализ которых необходим для постижения своеобразия творческой личности автора и сложности духовного мира человека. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты системы символов в ранней прозе Маканина, прежде всего в структурах анималистической и цветовой символики, отражающей синтез традиционных и уникальных черт, а также многогранность авторской интерпретации. В пласт первой структуры входят образы волка, червя, жар-птицы, медведя, рыбы, птицы (в т. ч. курицы) и бабочки, в пласт второй структуры - голубой, красный, белый и черный цвета. Их анализ показывает, что автор сосредотачивается на социально-психологических сторонах данных образов, открывая новые способы воссоздания портрета человека своего времени и изображения советского общества II половины XX в.
Маканин, анималистическая символика, цветовая символика, повествовательная стратегия, читатель, художественная интерпретация текста
Короткий адрес: https://sciup.org/147226908
IDR: 147226908 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-83-91
Текст научной статьи Анималистическая и цветовая символика в прозе В. С. Маканина 1970-80-х гг
Особенности авторской рецепции символических образов играют большую роль в создании художественного мира произведения. Во-первых, символы являются каркасом метафорического уровня текста, призванного воплотить философско-эстетические интенции писателя, во-вторых, их интерпретация автором отражает его отношение к устоявшимся в культурном сознании эмблемам. Особенно важно понять, как функционирует система символов в творчестве писателей, которые выбирают такие повествовательные стратегии, которые способствуют превращению текста в систему смысловых планов, каждый из которых становится формой отражения авторского сознания. К художникам такого типа относится В. С. Маканин, один из крупнейших писателей второй половины XX в., внесший большой вклад в создание галереи психологических портретов своих современников.
В ранней маканинской прозе обнаруживаются образы животных, которые можно трактовать как символические фигуры религиозной и фольклорной картин мира, не типичные для сознания советского человека. Как пишет исследовательница Анита, «многостороннее изображение животного мира зафиксировалось в языке. Представления об этом мире отразила устная и письменная языковая традиция в образах фольклора. Героями сказок, преданий, былин, пословиц, поговорок, загадок нередко выступают звери» [Анита 2002: 239]. Однако с их помощью автор раскрывает особенности как национального мышления, так и мироощущения homo sovieticus, обнаруживая в его сознании парадоксальное сочетание новых и традиционных черт.
Так, в повести «Один и одна» обращает на себя внимание прием сравнения персонажей с рыбами: «Они не узнали, кто есть кто. Проплыли мимо. Как те две рыбы, что по-над дном так и не коснулись, проплывая рядом» [Маканин 2003 (3): 218]. В христианской религиозной культуре символ рыбы не только является эмблемой Христа, но и олицетворяет духовный дуализм. Люди нового времени вынуждены помимо их собственного желания нести крест одиночества, и эта религиозная коннотация выполняет в повести «Один и одна» психологическую, концептуальную и сюжетно-композиционную функции. Рыбе К. Г. Юнгом приписывается хладнокровие змеи, неполнота чувства, змея является наиболее общим символом темного, хтонического мира инстинкта. «Она – как это часто и случается – может заменяться равноценным холоднокровным животным, таким как дракон, крокодил или рыба» [Юнг 1997: 271].
Подобно рыбам, Геннадий Павлович и Нинель Николаевна проживают всю жизнь и уми- рают в одиночестве, так и не узнав друг друга. «В экзистенциальном и социальном планах этот символ означает поражение, изгнание, уединение, а в психологическом аспекте – отказ от себя и от страстей, самоуглубленность и склонность к мистицизму, воображение и стремление к неведомому» [Телицин 2005: 370]. Автор сравнивает их судьбу с судьбой двух разведчиков или двух шпионов с полурыбками в кармане, которые день за днем, год за годом бродят в поисках условной встречи, но не могут встретиться. В романе «есть параллельность ведения сюжетов, но не таящая в себе электризующей силы. Рассказывается об одной жизни и о другой жизни, как они идут порознь и по сходным, довольно грузным законам» [Cоловьева 1990: 557]. Оба персонажа обречены забыть друг друга с неумолимым течением времени. Образ рыбы наполняется новым индивидуально-авторским значением: рыбы в повести символизируют разочарование, несчастье, раскрывают духовные переживания героя и героини. Обращение писателя к религиозной стороне этого символа обусловлено стремлением показать трагизм жизни персонажей: «Сложить свои рыбки, но ведь могут они не сойтись, хотя ни злые обстоятельства, ни люди теперь не мешают, хотя вокруг теперь все условия: белые кучерявые облака, райские кущи!» [Маканин 2003 (3): 219]. Так, Маканин, используя анималистический образ, показывает его смысловую многогранность, которая раскрывается на художественно-философском уровне текста и – образует основной символический нерв произведения. Л. Байрон (L. Byron) отмечает, что «его серьезный тон, который передает чувство более глубоких смыслов, можно найти между линиями» [Байрон 2007: 64].
В повести «Голоса» особое место занимает притча о жар-птице: автор предлагает читателю перевоплотиться в это прекрасное существо, у которого близкие постепенно выдергивают перья, а в итоге и отрывают голову. В фольклорной традиции образ жар-птицы соотносится с такими явлениями, как солнце и огонь, дарующими свет. Подобный свет отражают ее перья. В «Голосах» писатель нарочито отрекается от подобной трактовки, представляя жар-птицу приниженной, «обычной и простенькой», «жалкой и нагой», с «куриной башкой» [Маканин 2002 (1): 21]. Используя этот образ, автор не только затрагивает проблемы недостатка любви и сочувствия окружающих к человеку, эгоистического потребительства и животной жестокости, но также показывает, что «любящие» готовы растерзать того, кто хочет быть самим собой. Здесь Маканин обращается к одной из магистральных тем своего творчества – теме недо- понимания между людьми, «недочувствия» и нетерпимости их друг к другу.
Другая притча в «Голосах» описывает превращение героя в «гибкого», «холодного» и «скользкого» червя и его встречу со стариком. К. Джон (К. John) указывает на то, что «персонажи Маканина неоднократно должны выбирать между дегуманизирующим самоуничтожением или опустошительной изоляцией» [Джон 2007: 43]. На этот раз вновь актуализируются религиозные коннотации: образ червя символизирует смерть, ничтожество, земное начало, но также и человека на суде Бога. Бог-старик задает вопрос о смысле и цели жизни человека-червя, и выясняется, что тот не может оценить себя по достоинству без мнения «других». Ценность индивидуума в мире заключается в том, чтобы быть полезным для общества. Эта психологическая черта воспитанного в социалистическом обществе гражданина представляется автором иронично: «– Что в своей жизни ты делал – рассказывай. <…> – не зная, что вспомнить и что сказать, я стал лепетать, что я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие. – Другие? – Да. – И как же они хвалят? – Ну как. Я сделаю ему что-нибудь полезное, хорошее, доброе, – он меня похвалит. Надо сделать человеку что-то полезное. – Хорошо живете, – фыркнул старик» [Маканин 2002 (2): 42]. Посредством данной притчи Маканин желает показать, как придавленный собственной ничтожностью и социумом человек духовно превращается в червя, в чем и заключается его главный порок. Символическое сравнение героев с червями после написания повести «Голоса» становится устойчивым элементом маканинской поэтики: этот анималистический образ встречается, например, позднее в повести «Утрата» и романе «Андеграунд, или Герой нашего времени». «Человек – червь – сюжетная реализация этой древнейшей метафоры объединяет такие разные произведения, как «Голоса» и «Утрата». <…> Точно «червь из осыпи» выбирается из валуна купец Пекалов на «нехоженый берег», и подобно червю же извивается на больничной койке герой-повествователь «Утраты». В погруженное в бред сознание больного «втискается» в прошлое, превращаясь в «огромную» – нескончаемую – минуту» [Пискуновы 1988: 49].
В повести «Отдушина» присутствуют фольклорные образы волчицы и медведя: с первой сравнивается Алевтина («завывает она, конечно, как при луне волчица, но при всем том какой голос, какое чувство стиха» [Маканин 2003 (3): 157]), со вторым – ее любовник Михайлов («медведь, он ведь и за медом медведь» [Маканин 2003 (2): 145]). Примечательно, что эти ироничные сравнения делаются от лица других пер- сонажей (Алевтину с волчицей сравнивает Стрепетов, Михайлова с медведем – Алевтина), что отражает фольклорную составляющую их мироощущения. В русских волшебных сказках волк может быть врагом героя, а может ему помогать, при этом может оказываться связующим звеном между миром людей и потусторонними силами. В. Пропп утверждает, что волк, изображаемый «в сказках, которые связаны с тотемизмом охотников, веривших в их сверхъестественную связь со своим родом», нередко справляется с любой бедой [Пропп 1957: 14]. В повести героиня также является проводником в мир уюта и тишины для «охотников» за отдушиной – математика и мебельщика. Последний схож с медведем не только грузной фигурой, но и именем, отсылающим читателя к имени сказочного Михайло Потапыча.
В маканинской прозе достаточно широко используется «птичья» символика. Образ птицы символизирует как внутреннюю свободу, вольность героев, так и духовное чувство принадлежности родине. В повести «Утрата» автор в восьмой части описывает возвращение птиц в брошенную деревню. Обычно сезонный перелет птиц означает наступление осени или весны, но здесь он связан с возвращением человека домой, к утраченной некогда малой родине, которую уже невозможно найти. Подобно герою повести, они прилетают и «ищут человечье тепло» и пропитание, но, «не обнаружив даже и насекомых», «чувствуют, что больше здесь не живут и жить не будут и что прилетать сюда более нужды нет» [Маканин 2003 (3): 48].
В беседе с критиком Н. Д. Александровым Маканин отметил, что первым произведением, которое произвело на него сильное впечатление, была «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского [Александров 2012: 234]. Запечатлевшийся в сознании писателя образ нашел отражение в символике птичьей фамилии Курен-кова, героя повести «Антилидер». Этимологически она связана со словом «куренок» – цыпленок, символизирующий жалкого и слабого человека. Внешне маканинский персонаж мал и худ, всегда чувствует свою уязвимость и беспомощность перед физической болезнью, часто ощущает угрозу от людей, более сильных, чем он. Однако при этом он часто дерется, как петух, защищающий свой курятник. Нарочито сниженный автором образ «антилидера» в финале повести обретает трагическую окраску. Это тоже не случайно, поскольку в фольклорно-религиозной традиции образ петуха соотносится с образом солнца, мотивом света, противостоянием тьме и злу, пробуждением внутренней силы и возрождением. Тем трагичнее звучит интерпретация Маканина, отказывающего своему герою в воз- можности подобного возрождения: «антилидерство», как страшная болезнь, неизбежно поглощает человека, доводя его до тюрьмы и гибели.
В повести «Граждан убегающий» Костюков бросает работу и решает бежать в тайгу, как дикий зверь, и даже его портрет имеет зооморфные черты: «Черты его лица все больше приобретали как бы волчью жестокость, и казалось, меж нетронутостью природы и жестокостью его лица существует ясная причинная связь» [Маканин 2002 (2): 80]. Стремление героя отправиться в лес актуализирует в сознании читателя народную поговорку: «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит». Как утверждает исследователь Петрова, «символическая сема “жестокость, беспощадность, хищность” характерна для зоосемы “волк”» [Петрова 1983: 19]. Герой живет в общежитии, как в стае, но его душа просится в глушь, в тайгу (и это антисоциальное поведение противоречит устоявшимся представлениям об образе волка); кроме того, его преследует мысль о том, что дети начнут его разыскивать, как бы откроют на него охоту. Перед смертью Костюкову «привиделось, что он белая бабочка и что он летит на ту сторону плато, а дети неутомимо преследует его с сачками» [Маканин 2002 (2): 101]. Образ бабочки, превратившейся из гусеницы в способное к полету существо, включает в себя многоплановые символические значения. Здесь, как и в традиционных интерпретациях, бабочка, превращающаяся из ничтожного червячка в легкое, парящее существо, соотносится с процессом изменения, совершенствования, она олицетворяет душу человека с дарованным ей правом на вечную жизнь. Бабочка также понимается Маканиным как эмблема перехода из жизни в небытие. Костюков всю жизнь убегал от обязанностей перед своими родными, всю жизнь искал свободу и вот в смерти обрел финальное освобождение от всего, чего он так боялся.
В повести «Голубое и красное» маленький Ключарев наблюдает за муравьями: «Куча муравьев, высокая муравьиная куча, шла взамен груды консервных банок, что у них за бараком, – там была целая пирамида таких банок, ржавых или свежих, всегда выеденных дотла» [Маканин 1988: 178]. Муравей традиционно символизирует «прилежание, скромность и бережливость, трудолюбие, усердие и старание, коллективность» [Телицин 2005: 282]. В повести бабка Марена и другие жители в деревне, как муравьи, постоянно находятся в работе, обрабатывают землю с муравьиным терпением, упорством и прилежанием. Жизнь муравьев связана с землей, как и жизнь крестьян. В повести муравейник разрушается ручьями, что может являться аллюзией на факт затопления многих деревень в годы совет- ской власти и общую тенденцию разрушения деревенского быта и культуры. Позднее испуганные и растерянные насекомые сравниваются с людьми, которые потеряли свой дом. Таким образом, разрушение муравейника осмысляется автором в контексте осмысления экзистенциальной проблематики в целом.
Итак, уже в ранней прозе Маканина проявилась специфика анималистических образов: традиционные религиозные и фольклорные символы, проходя сквозь призму авторской трактовки, способствуют формированию подтекста, обусловливающего художественную объемность философской концепции писателя. Такие символы возникают и в его последующих прозаических произведениях, расширяя горизонты изучения потребительского, почти животного человеческого сознания. Кроме анималистической символики, обращают на себя внимание цветовые символы, с помощью которых писатель также передает особенности психологии персонажей и их окружения.
Как отмечает А. В. Колосова, «цветовые символики являются своеобразными маркерами социального, религиозного, жизненного, культурного пространства общества» [цит. по: Кант 2006: 66]. По мнению Канта, цвет может являться одним из проявлений эстетической формы образов: «Нельзя с уверенностью сказать, есть ли краска или тон (звук) лишь приятные ощущения, или уже сами по себе прекрасная игра ощущений и в качестве таковой создают благоволение к форме в эстетическом суждении» [там же: 170]. Так, цветовая символика в прозе Маканина призвана не только обозначить те или иные социально-психологические типы, но и помочь философски осмыслить столкновения разных типов жизненного уклада и культуры.
По нашим наблюдениям, Маканин не часто прибегает к цветовой символике, однако когда он это делает, она становится важным элементом – выразителем авторского сознания. Подобно живописцу, писатель использует цветовые образы для усиления экспрессивной и импрессивной функции повествования – желтый в повести «Голоса» и «Предтеча», красный и голубой в повестях «Голубое и красное» и «Предтеча», черный и белый в «Антилидере».
В. В. Служивцев утверждает, что «искусство относится к недискурсивному типу символизма, оно принципиально не переводится на язык логики, а познается, прежде всего, с помощью интуиции и чувства. Смысл искусства как части духовной культуры нельзя дешифровать простым усилием рассудка, в него надо вжиться» [Служивцев 2005: 81]. Цвет является одним из способов «вживания» в произведение искусства, и поэтому его дешифрация важна для понимания художественной стратегии и авторского сознания. Опираясь на ядерные признаки цвета (описание природы, описание внешности человека и продуктов человеческой деятельности) [Фетисова 2005: 69], Маканин выражает периферийное значение цветового символа, т. е. предлагает индивидуальную трактовку того или иного цветового символа.
В «Голосах» писатель сосредоточивается на одном цвете, делая его символическим центром произведения. Повесть открывается образом Желтых гор, символизирующих давно прошедшее детство: «В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались Желтыми горами» [Маканин 2002 (1): 5]. Желтый цвет традиционно ассоциируется с цветом солнца, а значит, цвет воспринимается по большей мере позитивно. Вместе с тем Желтые горы являются символом Урала, в них сосредоточены величественность и красота малой родины писателя: «первый рассказ, который я в юности написал, был о Желтых горах, о той самой минуте, когда воздух и пространство содрогнулись, а во мне возникло ликующее освобождение и чувство достигнуто-сти, – о той минуте, когда я скакал с камня на камень» [Маканин 2002 (1): 7]. Желтые горы становятся солярным образом в произведении и тесно связываются с темой детства и течения времени. Такой же интерпретационный подход наблюдается в повести «Предтеча»: «Коляня пил из холодильника пиво, как пьют его не спешащие, натощак и поутру. Вставать не спеша было счастьем, и даже вспоминались, вытаскиваясь из памяти, жаркие и желтые дни детства» [Маканин 2002(2): 241].
В повести «Голубое и красное» основное внимание автора уделяется проблеме концептуализации цветового пространства человеком. В оппозиционных цветах писатель обнаруживает ассоциативный потенциал и смысловое пространство, которое складывается в определенном культурном социуме. Символика цвета в повести «Голубое и красное» выполняет структурообразующую функцию, поскольку основная идея произведения выражается через оппозицию двух цветов. Процесс восприятия цвета Ключаревым можно рассматривать как акт символизации цвета, что является в первую очередь актом получения объективной информации, а также актом формирования субъективного чувственного опыта. Он познает жизнь через определенную цветовую гамму, ассоциируя мир города с голубым цветом, а мир деревни – с красным, поскольку живущая в городе бабка Наталья предпочитает первый цвет, а деревенская бабка Матрена – вто- рой. Мальчик рассматривает цвета в сравнении, в соседстве друг с другом, и за счет их контраста мир воспринимается им как двуцветное полотно. Таким образом, цветовая символика в повести «Голубое и красное», где символическая антитеза уже вынесена в название, основывается на соотношениях определенных психических явлений и конкретных цветов. Как отмечает И. Иттен, «цвет должен переживаться не только зрительно, но психологически и символически» [Иттен 2011: 14], «цветовое видение, возникающее в глазах и в сознании человека, обладает своим содержанием и смыслом» [там же: 19]. Маканин также использует цветовые контрасты для создания символических картин, раскрывающих и усиливающих характерологическую функцию символики цвета, которая открывает новые художественные возможности в обрисовке героев или жизненных явлений. Писатель, во-первых, воспринимает цвет как социальный феномен субъективного восприятия человека, во-вторых, как эмблему душевного состояния человека, живущего в условиях противостояния города и деревни.
Для Маканина в человеке заключается «сущность мирового процесса» [Белый 1911: 122], оттого героинь произведения можно рассматривать как воплощение двух типов культуры. Цветовая символика в повести характеризует стереотипы поведения, связанные с психологическими состояниями или переживаниями главных персонажей – бабки Матрены и бабки Наталии. И. В. Гете утверждает, что «по характеру цвета одежды судят о характере человека. Так, можно наблюдать отношение отдельных цветов и их сочетаний к цвету лица, возрасту и положению» [Гете 1957: 328]. По его мнению, социальные и личностные факторы влияют на цветовое предпочтение человека. В повести яркими портретными характеристиками являются красная косынка первой и цветасто-голубое платье второй.
Маканин описывает голубой как цвет «нежный, высокий, надменный, самообманывающий-ся» [Маканин 1988: 203]. Бабка Наталия в повести всегда хочет показать свое преимущество перед Матреной, всячески стремясь продемонстрировать свое интеллектуальное и социальное преимущество (хотя во время голода ей приходится есть траву, потому что гордость не позволяет обратиться за помощью к Матрене). Кроме того, голубой цвет в повести выражает постижение истины во всей ее глубине, стоящей вне реальной жизни и доступной лишь духу. Бабка Наталия хотела, чтобы Ключарев помнил ее, но предчувствовала, что, повзрослев, он будет помнить только другую бабку. Она смирилась с выбором внука, «считала, что любить бабку Матрену (удерживать ее и в голове, и в сердце) маль- чику и нужнее, и правильнее, и современнее, и безопаснее в смысле развития – тоже» [Маканин 1988: 203]. Человеку надо хранить в памяти связь со своими предками.
Красный цвет в произведении – это, напротив, сильный, практичный и расчетливый цвет, «без тени высокомерия, без снисходительности» [там же]. Такова и Матрена: выносливая, «расторопная» в хозяйстве, настрадавшаяся и многое пережившая. Она сама сажает овощи и едет на рынок продавать, чтобы зарабатывать себе деньги для жизни, потому что она «жила своей жизнью и на чужую жизнь не равнялась» [там же: 210]. Она как бы представляет деревню, на которой сильнее всего сказались социальные потрясения и которая теперь переживает свой закат. Точно так же, как культура деревни уходит в небытие, крест бабки Матрены истлевает, и повзрослевший Ключарев забывает, где она захоронена. Забвение деревенской жизни и исчезновение деревенской цивилизации являются, как показывает автор, печальной и неизбежной тенденцией: «“Так получилось”, – как сказала бы бабка Матрена» [там же: 209].
Маканин напрямую указывает на функции используемых им цветовых символов: «Голубой – нежен, но высокомерен, слишком бил в глаза, а красный прямо бил в сердце» [там же: 193]. Ключарева «манил процесс разгадывания» [там же] загадки бытия, предложенной ему двумя старушками. Основой этого познания является любовь, которую обе бабки испытывают к своему внуку. Эта любовь взаимна: мальчик не может сделать между ними выбор, как не может автор сделать выбор между городом и деревней. Показательной является сцена, когда Матрена приезжает в город и Наталия приветливо ее встречает, и обе стараются не показывать взаимную неприязнь ради внука. И пусть противоречие между ними невозможно устранить, любовь помогает на время о нем позабыть. П. Ролберг (P. Rollberg) отмечает, что «однако две бабушки не могли предвидеть, что их внук унаследует их самые исключительные черты, прежде всего сильное чувство гордости, личное достоинство» [Ролберг 1993: 1].
П.В. Яньшин считает, что психосемантика цвета имеет познавательно-мировоззренческое значение для бытия человека в мире: «…наличие и специфика цветовой семантики отражает бытие человека в мире, контакт субъекта с миром, и обеспечивает адекватное отражение объективной реальности на различных уровнях репрезентации субъекту образа этой реальности» [Яньшин 1996: 10]. В ходе повествования выясняется, что красное и голубое — уже не просто цвета, а символ духовного становления Ключарева: «Голубое и красное из цветов превратились в некое знание жизни, пусть чувственное, но со временем распространяющееся и вширь и вглубь. Очень скоро Ключарев-взрослый даже и годы своей жизни станет делить на год голубой и год красный» [Маканин 1988: 203].
В. Бондаренко утверждает, что «Маканинское стремление обнаружить, зафиксировать на бумаге обыкновенного человека, нашего реального живого человека – много стоит. Даже когда это не вполне ему удается. Он стремится воссоздавать самые разнообразные характеры, мечтает выскочить из системы типажей» [Бондаренко 1986: 186]. В некоторых других произведениях красный и голубой приобретают иное значение, используясь в портретном описании глаз персонажей. Так, в «Голосах» красные глаза – деталь портрета безумного старика на вокзале и безумного Якушкина, а в «Старом поселке» и «Предтече» голубые глаза символизируют духовную чистоту деревенских жителей и нормального знахаря Якушкина.
Хотя в повести «Голубое и красное» возникает оппозиция белого и черного (белый пушок на лице бабки Наталии и черный загар бабки Матрены), свое развитие она получает в «Антилидере». Возможно, подобная антитеза связана с интересом автора к шахматной игре. Выступая перед зрителями в передаче «Линия жизни» на телеканале «Культура», писатель отмечал, что он был сильным шахматным игроком в школе. Он увлекался магией шахматной игры. В одном из интервью он говорит: «Когда я пишу повести или роман, всегда знаю, играю белыми или черными. Белая партия динамична, энергична, но поверхностна. Мне кажется, что самым интересным является играть черными, когда с темой я мало знаком. Когда я играю черными, как будто ступаю в темный лес, это дает мне ощущение творчества по какому-то более высокому счету. Я не спешу, пишу постепенно, как хочу» [Маканин: 2015].
В «Антилидере» подобный контраст в первую очередь характеризует тип мышления главного героя, базирующегося на представлении о необходимости вечного противостояния кому-либо. Он относится к тем людям, которые «делят» мир на «белое» и «черное», что характеризует его как человека бескомпромиссного и в итоге приводит к гибели. При этом черный цвет напрямую не называется, это всегда – «темный», т. е. некий цвет, актуализирующий коннотацию темного, недоброго, страшного начала в характере Курен-кова. Образ сгущающейся к финалу произведения тьмы отсылает к этому цветовому символу в ряде сцен, например, «лес начинался почти сразу за домами. Фонарей не было — темные улочки и ряды домиков с заборами едва угадывались в свете луны» [Маканин 2002: 136]. Кроме того, автор прибегает к однокоренным словам для описания болезни Куренкова, например, «темнел», «потемнело», «потемневший», «темен», «темное» и т. д.
Контраст между супругами заметен в конце произведения: «Шурочка, раздобревшая и белая. Она всегда была полной, теперь она была толстухой, и вот с плачем она кинулась к нему, всем своим большим белым телом стараясь словно бы пригреть его, огородить и защитить» [там же: 138]. Белый цвет, сопровождающий образ Шурочки, символизирует источник духовной силы и веры в возвращение мужа к нормальной жизни, но в конце концов черная сторона Куренкова побеждает. Китайский исследователь Хоу ВэйХунь (Hou Weihong) отмечает, что «в прозе Маканин вскрывает проблему личности. Некоторые герои погружаются в пустоту, другие хотят бороться с их судьбой, чтобы сохранять свою независимость личности, но становятся чудаками. Хотя эти герои не положительные, они не вульгарные. В них обнаруживается идеальная вещь, которую люди должны беречь» [Хоу ВэйХунь 2001: 61].
Итак, анализ функций анималистической символики и символики цвета в прозе Маканина помогает нам выявить некоторые характерологические особенности художественного мира его ранних произведений. Анималистическая символика в разных повестях уходит корнями в мифологические и религиозные представления, отражение которых писатель находит в психологии советского человека. С помощью традиционной символики цвета автор передает эмоциональное настроение и интеллектуальное состояние персонажей. Обращаясь к традиционным цветовым и анималистическим образам и переосмысляя их в своих произведениях, Маканин расширяет коннотативный спектр используемой им символики. В его интерпретации актуализируются социально-психологические аспекты, характерные для современного сознания и общественного устройства. Многие символы, используемые им в ранней прозе, становятся лейтмотивными для всего творчества писателя. Благодаря особенностям его художественно-философской трактовки углубляется смысловое содержание символических образов, и поэтому их анализ необходим для корректной дешифрации кода авторской поэтики.
Gong Qingqing
Postgraduate Student in the Department of History of Modern Russian Literature and Modern Literary Process
Lomonosov Moscow State University
ResearcherID: F-4354-2018
Submitted 04.04.2018
Список литературы Анималистическая и цветовая символика в прозе В. С. Маканина 1970-80-х гг
- Александров Н. Д. С глазу на глаз. Беседы с российскими писателями. М.: Б. С. Г. Пресс, 2012. 376 с
- Анита Д. Фразеологизмы с анималистическим компонентом в русском языке: С позиции носителя венгерского языка: дис.. канд. филол. наук. М., 2002. 187 с
- Белый А. [Бугаев Б. Н.] Арабески: Книга статей. М.: Мусагет, 1911. 526 с
- Бондаренко В. Г. Время надежд. О творчестве писателя В. Маканина // Звезда. 1986. № 8. С.184-194
- Гете И. В. К учению о цвете. Хроматика. Очерк учения о цвете. // Избранные сочинения по естествознанию. М.: Академия наук СССР, 1957. 212 с
- Иттен И. Искусство цвета / пер. с нем.; пре-дисл. Л. Монаховой, И. Иттен. 2-е изд. М.: Изд. Д. Аронов, 2001. 96 с
- Кант И. Критика способности суждения. Сер.: Слово о сущем. СПб.: Наука, 2006. Т. 11. 512 с
- Колосова А. В. Социальная реконструкция визуальных образов в средствах массовой коммуникации // Массовая культура. Массовое искусство. «За» и «Против». М.: Изд-во «Гуманитарий», 2003. 512 с
- Маканин В. С. Голубое и красное // Отставший: Повести и рассказы. М.: Худож. лит., 1988. С. 171-220
- Маканин В. С. Собрание сочинений. М.: Материк, 2002-2003. Т.1-3
- Маканин В. C. Линия жизни. URL: https:// www.youtube.com/watch?v=aCYMVSeY92k (дата обращения: 15.07.2015)
- Петрова Н. Д. Фразео-семантическое поле зоо-семизмов в современном английском языке: ав-тореф. дис.. канд. филол. наук. Киев, 1983. 22 с
- Пропп В. Я. Предисловие // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. I. 516 с
- Служивцев В. В. Традиционное искусство в современной культуре // Искусство в современном мире: материалы I науч.-практ. конф. / под ред. Л. Г. Лазаревой. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. С. 79-82
- Соловьева И. Натюрморт с книгой и зеркалом // Маканин В. Отдушина: Повести. М.: Известия, 1990. C. 551-558
- Телицин В. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. М.: Локид-Пресс, Рипол Классик, 2005. 490 с
- Фетисова С. А. Концептуализация имени цвета «красный»: автореф. дис.. канд. филол. наук. Иркутск, 2005. 20 с
- Хоу Вэй Хунь. Художественный стиль В. С. Маканина // Обзор иностранной литературы. 2001. No2. C. 61 - 66. 侯玮红.论⻢卡宁小说创作的艺术⻛格// 外国文学研究. 2001(2). Р. 61 - 66. (Hou Wei Hong. Lun ma ka ning xiao shuo chuang zuo de yi shu feng ge // Wai guo wen xue yan jiu. 2001(2). Р. 61 - 66.)
- Юнг К. Г. Aion: Исследование феноменологии самости. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1997. 336 с
- Юнг К. Г. Человек и его символы. СПб.: Б. С. К., 1996. 352 с
- Яньшин П. В. Эмоциональный цвет. Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета. Самара: СамГПУ, 1996. 218 с
- Byron L. The Arts of Listening and Digging: Myth, Memory, and Retrieval of Meaning in "Voices" and "The loss" // Routes of passage: essays on the fiction of Vladimir Makanin / ed. by Byron Lindsey and Tatiana Spektor. Bloomington: Indiana, 2007. Р. 63-80
- Kachur J. The Poetics of the Interval: Modes of Mediation, Disjuncture, and Connection // Routes of passage: essays on the fiction of Vladimir Makanin // ed. by Byron Lindsey and Tatiana Spektor. Bloomington: Indiana, 2007. Р. 37-62
- Rollberg P. Vladimir Makanin's outsiders. Washington: Wilson center, 1993. 67 p