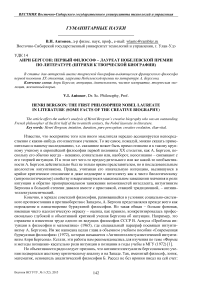Анри Бергсон: первый философ - лауреат Нобелевской премии по литературе (штрихи к творческой биографии)
Автор: Антонов В.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 1 (52), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье дан авторский анализ творческой биографии выдающегося французского философа первой половины ХХ столетия, лауреата Нобелевской премии по литературе А. Бергсона.
Анри бергсон, интуиция, длительность, чистое восприятие, творческая эволюция, жизненный порыв
Короткий адрес: https://sciup.org/142142999
IDR: 142142999 | УДК: 14
Текст научной статьи Анри Бергсон: первый философ - лауреат Нобелевской премии по литературе (штрихи к творческой биографии)
Известно, что восприятие того или иного мыслителя нередко ассоциируется непосредственно с каким-нибудь его известным учением. То же самое, пожалуй, можно сказать применительно к нашему исследованию, т.е. сказанное может быть прямо отнесено и к такому крупному ученому в европейской философии первой половины ХХ столетия, как А. Бергсон, поскольку его обычно всегда ‒ неважно, сознательно или, наоборот, неосознанно ‒ связывают с его теорией интуиции. И в этом нет чего-то предосудительного или же какой-то необъективности А. Бергсон действительно был не только ярким представителем, но и последовательным апологетом интуитивизма. Правда, учитывая его изначальную интенцию, вылившуюся в крайне критическое отношение и даже недоверие к интеллекту как к чисто биологическому (антропологическому) свойству и выразившуюся в максимальном завышении значения и роли интуиции и обратно пропорциональном занижении возможностей интеллекта, интуитивизм Бергсона в большей степени давался вместе с приставкой, ставшей традиционной, – антиин-теллектуалистический.
Конечно, в зеркале советской философии, развивавшейся в условиях социально-системного противостояния и противоборства с Западом, А. Бергсон представлялся прежде всего как порождение и олицетворение буржуазной философии. Но такая общая – больше фоновая, имевшая чисто идеологическую окраску – оценка, как правило, конкретизировалась профессионально глубокой и объективной критикой учения Бергсона об интуиции. Например, это отражено в известном труде одного из ведущих философов СССР В. Асмуса «Проблема интуиции в философии и математике» (1965), где специальный параграф посвящен интуитивизму А. Бергсона. Им же написана целая глава в объемном учебном пособии «Современная буржуазная философия» (1972), которая называется «Антиинтеллектуалистический интуитивизм Анри Бергсона». Кстати, эти работы нам рекомендовались для изучения по теме «Формы и методы познания» касательно роли интуиции в познании в годы учебы в МГУ (1972) [1].
Но объективности ради следует признать, что антиинтеллектуализм бергсоновского учения подвергался жесткому критическому анализу и на Западе. Так, именитый философ, логик, математик, основатель аналитической философии Б. Рассел не без иронии писал на сей счет:
«Одно из печальных последствий антиинтеллектуальной философии типа бергсоновской заключается в том, что она процветает на ошибках и путаницах интеллекта. Поэтому подобная философия приводит к тому, что плохое мышление предпочитают хорошему, что всякое временное затруднение провозглашают неразрешимым и всякую глупую ошибку считают выявляющей банкротство интеллекта и триумф интуиции» [2].
Было бы, однако, неверно отсюда предполагать, что творчество Бергсона ограничивалось только изысканиями в области интуиции. Его творчество было гораздо шире и отличалось не только глубокими философскими исследованиями, но и блестящей литературной деятельностью. К этому нужно добавить неустанную научно-просветительскую работу Бергсона, которая пользовалась огромной популярностью у широкой публики.
А. Бергсон родился 18 октября 1859 г. в Париже в еврейской семье. Его отец, М. Бергсон, выходец из Польши, был великолепным для своего времени музыкантом. Будучи признанным композитором, писал оперы, этюды, серенады, религиозные гимны и молитвы, занимая должность профессора и директора консерватории. Его мать, К. Левинсон, по признанию самого А. Бергсона, была воплощением «женщины высшего ума и таланта», явлением «религиозной души в самом возвышенном смысле этого слова». Детство Анри проходило в Лондоне, он любознательно и жадно впитывал английскую бытовую и духовную культуру. Когда мальчику не было еще 8 лет, семья вернулась во Францию. В 21 год он получил французское гражданство.
В 1868 г. Анри поступил в парижский лицей Кондорсе, где проучился 10 лет. Он обнаружил одинаково большие способности в естественных и гуманитарных областях знаний, подавал особые надежды по математике, подтверждением чего явилось решение им в 19-летнем возрасте сложной математической задачи, за что он был удостоен почетной премии. Также его сильно тогда увлекали музыка, риторика и древние языки. Поэтому по окончании лицея он оказывается на непростом перепутье мучительного выбора приоритетного интереса, но вектор, в конце концов, приводит его к философии. В 1878 г. он поступил в Высшую нормальную школу после блестящей сдачи вступительных экзаменов. Он учился на одном курсе с Ж. Жоресом, будущим лидером Социалистической партии Франции, а курсом ниже учился Э. Дюркгейм. В стенах этого заведения он испытал особое притяжение к учениям Дж. Милля, Г. Спенсера. Ему тогда одинаково импонировали и позитивизм, и эволюционизм.
Получив в 1881 г. диплом об окончании Высшей нормальной школы, он открывает себе дорогу к преподавательской деятельности. Она оказалась долгой, длилась 34 года.
Первым пунктом на этом пути был лицей д’Анжер. Через 2 года, в 1883 г., Бергсон получает новое назначение. Он принял кафедру философии в лицее Б. Паскаля в Клермон-Ферране. Пятилетнее пребывание там прошло под знаком интенсивной работы. К тому же напряженной работе ума способствовали провинциальная тишь и спокойствие. В результате им были завершены две докторские диссертации ‒ «Опыт о непосредственных данных сознания» и «Идея места у Аристотеля» (на латинском языке).
Затем, в 1888 г., Бергсон переезжает в Париж, где в течение двух лет последовательно получает назначения в лицеи Людовика Великого и Генриха IV, в Коллеж Роллен. В 1889 г. он успешно защитил обе диссертации, написанные в Клермон-Ферране. Однако, вопреки его ожиданию, центральная идея выпущенной работы «Опыт о непосредственных данных сознания», связанная с понятием динамической природы времени и идеей длительности, которые Бергсон считал своим основным открытием, никак не впечатлила философский мир того времени.
Согласно Бергсону, опыт о непосредственных данных сознания составляет сердцевину так называемой позитивной метафизики, предназначенной если не сокрушить, то, во всяком случае, противостоять классическому рационализму и позитивистскому, механистическому подходу в психологических исследованиях. Возвращение к этому опыту означает «очищение» его от диктата механистической психологии, от влияния психологического детерминизма и психофизики. Законы причинности, по глубокому убеждению Бергсона, действуют лишь на внешних уровнях, но в сфере глубинной духовной жизни нет детерминирующих ее законов.
Эта сфера принципиально не подвластна законам, ибо она «соткана» из непосредственных фактов сознания.
Бергсон не только отвергал принцип психологического детерминизма как конституирующее понятие тогдашней психологии ‒ идею о существовании в сознании обусловливающих друг друга состояний, не только считал несостоятельными ассоциативную психологию и психофизику, представлявшие сознание как последовательность рядоположенных состояний, которые можно измерить количественными методами, как предметы в пространстве. Он подверг уничтожающей критике концепцию психофизического (психофизиологического) параллелизма, ставшую господствующей доктриной в психологии с середины ХIХ столетия. С его точки зрения, утверждение о параллельном протекании психических и физиологических процессов является изначально ошибочным метафизическим посылом, ибо может привести к опасному прецеденту для объяснений явлений сознания, исходящих исключительно из физиологической основы.
Бергсон, провозглашая и обосновывая опыт непосредственных данных сознания, решительно отмежевывается и от традиционного рационализма, дающего приоритет познающему сознанию, логическому мышлению. И здесь внешне Бергсон близок к Канту, к кантовской идее связи субъективности, внутреннего чувства со временем, но только внешне. Если для Канта время являлось априорной формой чувственности, созерцательности, то для Бергсона оно есть не что иное, как само содержание внутреннего чувства, созерцания «я». Это уже не априорная форма, а непосредственный факт сознания, постигаемый внутренним опытом. Такое понимание времени связано с идеей его длительности, «схватываемой» «первичной интуицией». Речь идет о длительности того психологического, субъективного времени, которое коренным образом разнится с формально-статическим временем, фиксируемым в математике, физике и механике.
Длительность означает беспрестанное взаимопроникновение многообразия явлений из прошлого и настоящего, непрерывный процесс взаимодействий всевозможных состояний сознания, постоянное творческое созидание новых форм. Длительность, будучи субъективным переживанием времени, всегда предполагает изменчивость и развитие, задает духовное своеобразие индивида, уникальность сознания.
Конечно, по Бергсону, сознание, представляя собой непрерывный, изменяющийся и творческий процесс, является многослойным производством. Оно имеет множество пластов – от поверхностных, интеллектуальных, продиктованных практическими социальными потребностями, до глубинных, дорефлексивных, еще не испытавших вмешательства интеллекта и языка. Но особый процесс сознания, трактуемый Бергсоном как длительность, позволяет освободиться от этого вмешательства, добиться его деинтеллектуализации, получить «очищенный» опыт непосредственных данных сознания. В таком опыте уже нет места интеллекту, пригодному лишь для использования в области абстракций и вечных «истин». Длительность поэтому постигается не посредством интеллекта, а с помощью самонаблюдения. В ней как раз заложена свобода воли. Свобода Бергсоном понимается как первичный, спонтанно раскрываемый факт сознания. Поэтому она интеллектом неопределима. Напротив, открытая в субъективном переживании времени свобода становится наиболее ясным фактом сознания [3]. Следовательно, длительность, понимаемая как факт сознания, как субъективное время, есть свобода воли. В этом Бергсон видит главное открытие, сделанное им как раз в «Опыте о непосредственных данных сознания».
В 1896 г. Бергсоном было издано второе крупное произведение «Материя и память». Над этой работой он трудился целых 7 лет, изучая литературу на разных языках, относящуюся к проблемам памяти и афазии (расстройства речи, вызванного поражением коры больших полушарий головного мозга при сохранности органов речи). В ней была изложена довольно оригинальная концепция памяти, на этот раз уже привлекшая большой интерес и внимание со стороны многочисленных философов и психологов.
В человеческом опыте обнаруживаются, согласно Бергсону, лишь образы как исходные факты. Они в совокупности могут быть отнесены к двум основным системам – материи и сознанию. Сводя материю к некоему собранию образов, Бергсон делает вывод, что тело (в частности, мозг) не может порождать представлений, а является орудием действия: тело всегда тесно связано с настоящим и ориентирует сознание на практическую деятельность.
В познавательном процессе исходную, базисную сущность составляет бергсоновское «чистое восприятие». Оно в принципе может схватить в непосредственной интуиции саму реальность вещей, материю, но в действительности это неосуществимо, так как «чистое восприятие», занимая некоторую длительность, способно представить только все самое существенное в материи. А все остальное остается за памятью. Следовательно, память должна быть независимой от материи. «В самую подлинную материю вводит нас чистое восприятие, и в реальнейшие недра духа проникаем мы вместе с памятью» [5].
Таким образом, в процессе познания, понимаемого как восприятие, выделяются две основополагающие стороны – само «чистое восприятие» и «чистая память». Поэтому сознание, по Бергсону, всегда предполагает динамическое взаимодействие восприятий и воспоминаний. Именно на этом основывается бергсоновский интуитивизм. Но в «Материи и памяти» было дано пока что первоначальное, вместе с тем достаточно серьезное обоснование интуитивизма как концепции, опирающейся на здравый смысл, непосредственный опыт.
В 1903 г. выпускается очередная работа Бергсона «Введение в метафизику». В ней он, разъясняя, в чем состоит основное различие между естественными науками и философией, приводит доказательство точки зрения о том, что научное сознание всегда стремится обуздать природу, «замораживая поток времени», расчленяя целое на дискретные, поддающиеся анализу элементы. Философия, в отличие от этого, проникает в суть вещей посредством интуиции и сопереживания. Но по убежденному мнению Бергсона, для развития человека одинаково важны и естественные науки, и философия. Однако истинная созидательность и жизнеспособность присущи лишь философии.
Новая, ставшая поистине эпохальной, книга Бергсона «Творческая эволюция» увидела свет в 1907 г. Она не только взбудоражила академическую общественность Франции, но и оказала огромное влияние на самую широкую читающую публику.
В «Творческой эволюции» изложены его онтологическое учение и концепция эволюции. Необходимость обращения Бергсона к идеям эволюции была продиктована целью обоснования теории отношения интеллекта и интуиции. При этом он исходил из понимания, что специфика интеллекта и интуиции как различных способов познания обусловлена эволюционно, генетически. Но поставленная в таком ключе проблема постепенно приобрела и более общий смысл, поднявшись на уровень отношения философии и науки в целом как двух разных фундаментальных способов человеческой деятельности и ориентаций в мире.
Будучи под сильным влиянием учения об эманации Плотина, Бергсон в своем исследовании эволюции опирается на понятие «жизненного порыва». Последний выступает как первичный импульс «потока жизни», составляющего сердцевину его концепции эволюции, которая как раз была направлена против механистических (имея в виду Спенсера) и телеологических (лейбницевского толка) взглядов на эволюцию. Но, отвергая телеологию в принципе, Бергсон в то же время вносит некое уточнение в свою концепцию, считая, что цель эволюции находится не впереди, а позади, в первоначальном импульсе. В связи с этим он нещадно критикует принцип детерминизма в эволюционном процессе, который полностью элиминирует возможность свободы, свободного творчества. «Творение мира есть акт свободный, и жизнь внутри материального мира причастна этой свободе», ‒ подчеркивает философ [6]. Но Бергсон не приемлет и эволюционного учения Дарвина.
Эволюцию он рассматривает как процесс динамического взаимодействия «жизненного порыва» и косной материи, сопротивляющейся его движению. Там, где этот «порыв» останавливается, т.е. пересиливается, сопротивлением инертной материи, многие виды эволюции оказываются в тупиковом цикле: поступательное развитие, потеряв первичный импульс, здесь сменяется простым круговоротом.
Бергсон выделяет три основных направления движения «жизненного порыва»: чувствительность, интеллект и инстинкт. И именно из инстинкта «прорывается» и развивается интуиция. Поэтому инстинкт и интеллект являют собой две совершенно разные формы жизни с генетически противоположными свойствами и функциями. Интеллект, будучи главным орудием науки и научного познания, в качестве объекта исследования имеет неорганизованную материю и может добиться в этом полного, даже абсолютного знания. Но то, что он делает с материей, ‒ не более чем механическое манипулирование и фабрикация. Интеллект не способен постичь суть живых систем, глубину и богатство жизни. Это подвластно лишь интуиции и философии, вооруженной ею. Поэтому в основе любой философской системы заложена частная интуиция. Но философия в целом должна вобрать в себя каждую их них, синтезировать их в себе. Только так можно создать философию будущего.
В полноценном и свободном развитии интуиции и связанных с ней творческих, духовных способностей человека Бергсон видит главное условие преодоления тенденций к круговороту, регрессу, движения мира к прогрессу. Следовательно, его «творческая эволюция» ‒ уже не биологизм, не витализм в прежней форме. В контексте всей эволюционной теории Бергсона значение и смысл интуиции получают чрезвычайно расширенное толкование: она характеризуется уже как форма жизни, посредством которой только и возможно выживание человечества. Соответственно «жизненный порыв» становится аналогом всего того, что способно противостоять механицизму, автоматизму, косности и привести к воплощению истинной свободы и творчества.
Как отмечает И.И. Блауберг, «За обилием метафор, в том числе основной метафорой жизненного порыва, стоит стремление Бергсона создать новый образ Вселенной, реальности. Здесь достигает высшей точки в творчестве Бергсона свойственное ему органическое видение мира» [7]. Это и есть, по Бергсону, философия жизни. Именно в ней во всей полноте раскрывается качественно новое в человеческой жизни – способность к интуиции, дающая реальную возможность творчества, а значит, надежду на выживание и самого человека, и мира в целом. «Философия жизни, направления которой мы держимся, ‒ подчеркивает Бергсон, ‒ …пред-ставит нам организованный мир как гармоническое целое» [8]. Таким образом, «Творческая эволюция», по-новому развернувшая и представившая философию жизни, становится важнейшей вехой в творчестве Бергсона.
После выхода этой фундаментальной работы популярность Бергсона стала нарастать как снежный вал. В условиях всеобщего энтузиазма, которым была охвачена Европа перед Первой мировой войной, его авторитет как блестящего философа еще более возрос. Его приглашали читать лекции в разные страны, в том числе в США. В 1914 г. он был избран во Французскую академию, стал президентом Академии нравственных и политических наук. В том же году Бергсона пригласили прочитать курс «Проблемы личности» в Эдинбургском университете.
Но читался им всего один (весенний) семестр. Осеннего семестра не состоялось из-за начавшейся Первой мировой войны.
В 1920 г. Бергсон серьезно заболел. Артрит стал несколько сковывать его активный образ жизни. К тому времени всеобщий оптимизм, порожденный философией жизни Бергсона в предвоенные годы, стал заметно затухать. Не помогла в удержании этого оптимизма новая его работа «Длительность и одновременность» (1922). И все-таки новый всплеск интереса к творчеству и личности Бергсона происходит через 5 лет. Это было связано с известием о присуждении ему в конце 1927 г. Нобелевской премии по литературе «в знак признания его ярких и жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены». Таким образом, А. Бергсон стал первым философом, удостоенным этой самой престижной в мире премии.
В 1932 г. была издана его последняя книга «Два источника морали и религии». В ней он, открыто критикуя «национализм» немецкой философии, стремится доказать, что мораль, равно как и религия, имеет эмоциональную, а не логическую основу. Главным вопросом, поставленным Бергсоном в книге, выступает проблема возможности прогресса человеческого общества. Он выделяет две основные модели социальности – закрытые и открытые общества. Каждое из них характеризуется соответствующим типом морали ‒ статическим и динамическим. При этом тупиковые ситуации связаны с закрытыми обществами, реальные прототипы которых можно обнаружить в тоталитарных режимах, где авторитаризм, жесткая субординация всего и вся становятся господствующими силами, где национализм является главенствующим фактором функционирования общества. Поэтому функции статической морали и религии сводятся к обеспечению тотальной дисциплины и порядка, слепого товарищества, сверхцентрализации власти вождя. Следовательно, к закрытым обществам принципиально не подходят понятия развития, прогресса.
Иное дело открытые общества. Только в них возможны развитие и прогресс. Только в открытых обществах не подавляется личность. Напротив, в них сполна раскрываются ее творческие способности. Динамическая мораль, действующая в открытых обществах, своим главным принципом имеет любовь к человечеству, общепланетарный гуманизм. Носители этой морали – не просто члены открытого общества, а избранные личности. Только они могут достичь моральных идеалов, способных противостоять «механицизму», заразившему человеческую душу, воспрепятствовать искусственным потребностям, которые продиктованы «телом» человечества. Следовательно, гармония свободы и творчества возможна лишь в динамической морали через ее подлинных носителей.
В последние годы Бергсон страстно увлекся христианской мистикой. Принял католицизм. Однако, когда началась Вторая мировая война и нацисты стали подвергать евреев массовому преследованию, он остался верен своим национальным традициям. Когда правительство Виши сделало исключение для известного философа, освободив его от любой антиеврей-ской меры воздействия на него, Бергсон отказался от такой «привилегии» и решил пройти, как все французские евреи, унизительную регистрацию. Простояв продолжительное время на морозе в очереди для получения регистрационной карточки, он, имея слабое здоровье, заболел воспалением легких и скончался 4 января 1941 г. Ему был уже 81 год. Этот молчаливый протест против нацизма подвел роковую черту под жизнь знаменитого философа. Надгробную речь произнес известный поэт П. Валери.
Философия А. Бергсона оказала глубокое влияние на интеллектуальную и духовно-культурную жизнь Франции, многих стран Запада, а также России в первой половине ХХ столетия. Воздействие его идей сказалось на творчестве ряда известных мыслителей и писателей: П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, А. Тойнби, Дж. Сантаяна, А. Уайтхед и др. Многие идеи Бергсона до сих пор не потеряли своей живости и значимости. Они продолжают оставаться интересными и поучительными для современных ученых и философов, так или иначе обращающихся к историко-философской проблематике.